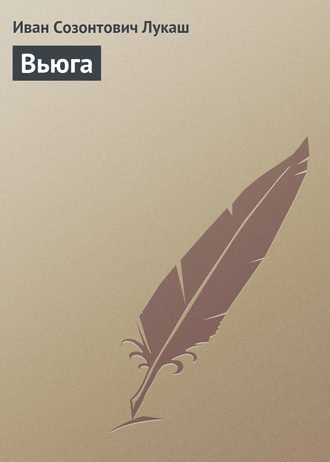
Иван Созонтович Лукаш
Вьюга
Глава XXVI
Замерзшая теплушка ночами стояла на запасных путях, скрипела снова.
В теплушку вваливались красноармейцы, люди в обмерзших кожаных куртках, с наганами. Тогда все стучало, гремело, орало. Какие-то фронты то приближались, то отдалялись.
Пашка толком не знал, куда тащится. Нелепое это было шествие: трое голодных, извалявшихся в грязи оборванцев.
О себе Пашка думал, что он воин, белогвардеец, а должен возиться с ребятами, как баба. Он досадовал, бесился на детей.
Далеко за Москвой ему удалось выменять на кусок сала материнскую сережку с синим камешком и обручальное кольцо. Суровая баба никак не верила, что кольцо золотое, и пробовала его на крепких зубах, оставляя на золоте метинки. Тут всех погнали в вагоны, и Катя, ей было доверено сало, потеряла его в толкотне. Пашка обозвал ее дурой и надавал пощечин. Потом ему стало стыдно до слез, как Катя молча прикрывала лицо грязными руками. Насупившись, не глядя на нее, он грубым голосом попросил прощения. Катя простила, утерла лицо рукавом и сразу перестала плакать.
Такая выпала ему досадная судьба, думал он, чтобы тащиться с ребятами, точно бабе.
Но не только в том была его судьба. Этот петербургский подросток, как и миллионы его сверстников, едва только начал жить, оглядываться в мире, полный доверия ко всему Божьему свету, как оказался участником существования, до того немыслимого, и свидетелем насилий, разрушения и смертей, до того небывалых. Точно кто-то вел его во тьме, как Вергилий вел Данте, все ниже, темнее, отчаяннее, по кругам русского ада, открывал ему все беспощадные терзания живого мира, с его людьми, зверями, вещами, все зрелища смерти, ада, до последнего круга, чтобы он вышел живым, сильнее и самой смерти.
У миллионов людей уже было отнято сердце человеческое, и забилось в них сердце звериное, а он, как тысячи тысяч других таких же подростков, бежал от коммунистов, сам не зная куда, к белым, на Юг, и тащил за собою детей, чтобы только не отдать никому сердца своего человеческого.
Если бы он чувствовал правду в коммунистах, он остался бы с ними, не задумываясь, пошел бы за правдой среди первых. Но победа коммунистов открылась для него разрушением, и умерщвлением всей невинной жизни, и беспощадным терзанием невинного человека.
Он горячо любил рабочих, мужиков, солдат, он охотно отдал бы за них жизнь, но в том, что большевики разделили мир на укороченных людей, пролетариев, и на жертвенный скот, буржуев, он всей душой чувствовал злую неправду и темное предательство человека. Он видел, что советский переворот, диктатура пролетариата – только нещадное истребление лучшего в человеке, покорение всех лучших под чернь. Именно этого он не мог терпеть.
Он не мог терпеть всеобъясняющих мертвых схем, потому что чувствовал самую жизнь, живую, с ее необыкновенным светом, и видел кругом себя унижения, страдания и гибель людей, с их удивительными жертвами, из-за коммунистического небылья.
Нередко у него было такое смутное чувство, точно ко всем подходит, крадучись, из потемок Иуда и говорит каждому с неверным лобзанием: «Радуйся», – для одного того, чтобы предать каждого на страдания. Сад Гефсиманский, Россия, стал местом предательства и страдания.
Он не мог бы никому того объяснить, но как и тысячи тысяч его сверстников, он понимал смутно, что в нем самом есть такое, чего никак нельзя предать большевикам.
А не предавал он большевикам жизни в себе, человека с его совестью, с его светом, невидимого и вечного. Пашка, мало о том думая, без хитрости верил в обетования Сына Человеческого, потому и не был обманут обещаниями коммунистов. Если бы даже, догадывался он, советской власти в будущем все удалось, вся жизнь стала бы одним сплошным техническим удобством, все зажрались, летали бы по воздуху, ездили бы под землей, только и делали бы, что целый день звонили по телефону, слушали радио, все равно такая пошлая жизнь-машина была бы достигнута ценой предательства самого живого человека. Все пошлые коммунистические фантазии, не идущие дальше мертвой техники и мертвой машины, казались Пашке, когда он думал о той отвратительной всеобщей мертвецкой, и он не раз вспоминал материнское слово: небылье.
А он бесхитростно верил в живой мир, непостижимый и чудесный, полный светлого дыхания Воскресшего, потому и не предавал большевикам своего живого человеческого дыхания и тащился так несуразно, куда глаза глядят, по всей России, с двумя детьми, мешком и жестяным чайником (сундучок давно был украден).
И когда он был сыт или в тепле, когда, разогретый сном, с силой откидывал он назад, под голову, мальчишеские руки, наполняло его странное чувство благодарности и доверия Кому-то, точно он погружался в освежающие, прозрачные, бездонные воды. И он понимал, что Кто-то и есть Сын Божий, Сын Человеческий.
То же прозрачное чувство благодарности Кому-то (невидимому, общее чувство человеческое) было последним чувством у мальчика с неживыми ногами, цесаревича Алексея, когда его носил по комнатам Ипатьевского дома матрос Клементий Нагорный. Мальчик знал особое теплое место у щетинистой щеки матроса и запах его покойной силы, напоминавший яхту «Штандарт», воздух финских шхер. Цесаревич прижимался так крепко к верному матросу, точно весь свет, все добро мира сосредоточилось в этом сероглазом простом человеке.
Цесаревич Алексей был такой же подросток, как сын петербургского чинуши Пашка или деревенский парнишка Санька Тимофеев. Цесаревичу, как и Пашке, едва только открывался белый свет одним любопытным, добрым чудом. Как все подростки на свете, он любил игры, собак, зверюг, Жюль Верна и Густава Эмара, а больше всего полковые оркестры, солдат и матросов. В Ливадии он угощался у кухонь солдатским черным хлебом и после пробы щей из котла обязательно облизывал деревянную ложку так же, как пехотный стрелок в скатанной шинели, какого он видел где-то на летних маневрах. Ко всем простым людям, особенно к солдатам, он чувствовал полное и благодарное доверие, как будто они несли в себе все добро, всю милость мира.
Аглая с Нютой были так же расстреляны в Лопарцах, как великая княжна Ольга или Татьяна в Ипатьевском доме, и государя и цесаревича расстреляли так же, как черноволосого мужика Тимофея или штабс-капитана Сафонова.
Высшей мерой, единственной истиной над всеми, коммунисты поставили смерть. Они так и называли расстрел «высшей мерой». Но человеческая душа, непобедимая, живая, все таилась и в Пашке Маркушине, и в Андрее Степановиче, ушедшем от матросской облавы, в Саньке, который уже никогда не забудет, как лежал во дворе убитый отец, в Любе Сафоновой, пробившейся к белым, в Ванятке, кому кажется все чаще в утреннем сумраке, да зачем же вертится впустую, на холостом ходу, вся эта советская чертовщина, и в его отце – старом слесаре, и в сапожнике Потылицыне, может быть, еще не расстрелянном, и в матросе Ганькове, который все думает-передумывает, и в неизвестном ефрейторе, потерянном Пашкой, и в миллионах, миллионах живых существ человеческих, застигнутых советской властью.
Жизнь уступала большевикам вовне, но внутри, в себе, не сдавалась отнюдь. Жизнь была только беспощадно загнана большевиками во внутреннее подполье, какое каждый теперь носил в себе.
Так была загнана жизнь и Отто Вегенера, отбывавшего по приговору революционного трибунала ссылку на десять лет на принудительные работы.
Глава XXVII
Вегенер в последний раз видел жену и дочь утром, в тумане, когда его гнали со ссыльными на вокзал. Дочь была в белой шубке. А может быть, все это ему показалось.
Его белье скоро истлело, пиджак износился в лохмотья. Он штопал его, как умел, накладывая холщовые заплаты. В этом худом человеке с землистым лицом, с жидкой бородой и тусклыми русыми волосами, падающими на спину, похожем на хромого пророка или на сумасшедшего, никто – ни жена, ни дочь, ни он сам – не узнали бы прежнего ботаника, василеостровского немца Отто Вегенера.
В каторжном лагере, в лесных болотах, где людей заедали в ржавом тумане комары, для Вегенера все сосредоточилось на том, чтобы не потерять английскую булавку, крепкую и крупную, доставшуюся ему от чахоточного грузина, ветеринарного врача, с кем он спал одно время рядом, на земляном полу, на мокрой рогоже.
Английская булавка была последней защитой от холода. Если бы не она, уже нечем было зацепить лохмотья на теле.
Мельчайшему, самому ничтожному, такой последней защите жизни были отданы силы духа и других людей, согнанных, как он, в каторжный лагерь.
Шерстяные носки, кусок меха, рукавицы, теплая рубаха, каждая вещь, оберегавшая от стужи, дававшая тепло, кусок вязкого хлеба, селедка, охапка свежей соломы – обладание ими стало основной мыслью всех этих измученных серых существ, еще недавно бывших людьми.
Они были согнаны сюда на медленную пытку надежды: они не сходили с ума только потому, что каждый арестант, избиваемый надсмотрщиками, в коросте грязи и льду, голодный, изнемогший, все еще верил, что если его не расстреляли, если он жив, значит как-то может еще полегчать, что-то может еще измениться. Это была все та же вечная вера человека в свое бытие.
Сильные надеялись бежать. Такие люди, ожидая случая, молча выносили все, каменели.
Другие ослабевали. Они слабели именно потому, что им оставляли жизнь, и чтобы вернуть себе еще больше жизни, выбраться из общей мертвецкой ямы, где копошились с другими, они поддавались на все, чаще всего на предательство. С доноса на своих и начинали они выбираться.
Многие сходили с ума. У одних было сумасшествие усталых, и они, ослабевшие умом, становились потехой для охраны и комендантов. У других это было сумасшествие сильных, бешенство, когда ломали на куски нары, кидались с железными болтами на чекистов. Таких сумасшедших расстреливали.
Все сумасшествия были как бы переходами, волнами душевных страданий одного и того же человеческого существа, невинного и простодушного, загнанного в мертвецкую яму, в беспросветное рабство, на пытки.
В каторжных лагерях были все, кто раньше в России и в других странах назывался народом, нацией, лучшие народа, его цвет, все, кто смелее, совестливее, прямее, упорнее.
В дощатые черные бараки, от которых ночью шел пар, где текла по доскам зловонная жижа, сгоняли со всей России мужиков.
В бараках было много рабочих из железнодорожных мастерских или с больших, когда-то славных заводов – Путиловского, Сормова, типографщиков и шахтеров. Рабочие были смелее всех. Они презирали охрану, чекистов, комендантов. Рабочих можно было узнать по смелой походке, по замасленным кепкам, по тощим лицам со втянутыми щеками. Они дольше других были бодры, они злобнее всех бранили советскую власть. Рабочих расстреливали.
В бараках были солдаты, священники, торговцы, врачи, офицеры, хозяева, актеры, учителя, мастера, инженеры, ремесленники, чудесные токари, гранильщики, граверы, часовщики.
Ни один рабовладелец никогда не мучил так черных рабов, как мучили здесь, потому что для плантатора последний раб был нужным рабочим скотом, а здесь были одни жертвы, оставленные до срока на прихоть погонщика.
Все человеческие силы выбивали из них, и ни с какими советскими планами, пятилетками и постройками с их пошлой шумихой несравнимы эти ужасающие потери в человеческих силах. Сколько живых душ, таланта, вдохновения, творчества раздавлено, стерто коммунистами в тюрьмах и каторжных лагерях. Сколько художников, строителей, мастеров, инженеров, исследователей, мыслителей сметено в расстрелах или осуждено сгнивать заживо в советских гноищах. Так коммунисты пытались остановить свободное движение всех духовных сил человека, так они расстреливали и гноили его совесть и вдохновение.
Вегенер думал, что каторжным лагерем стала под властью коммунистов вся Россия, всюду те же серые, рабские, точно онемевшие лица, без улыбки, с угрюмым, диким огнем в глазах, те же рабские серые лохмотья, та же трупная вонь нечистого и голодного тела. Духом мертвецкого разложения, запахом рабства, голода, тления смердела страшная Россия.
В лагере Вегенера комендантом был товарищ Костыгин, переведенный сюда из пересыльной тюрьмы. Одна заключенная ранила его там куском железа в лицо. На щеке Костыгина синел рваный шрам. У него была тяжелая остриженная голова и придавленный голос. Когда он входил в барак, арестанты бледнели. Он бил больных и ослабевших. Он бил молча, ногами или коротким хлыстом, витым из воловьей кожи. Он забивал насмерть, и по его тупому вздернутому носу, по рваному шраму, из-под шапки с меховыми наушниками стекал пот. Голова Костыгина дымилась.
Отданных в его власть он не считал за людей. Для него они были вроде издыхающего скота, согнанного на живодерню, стонущего и еще живого по одной его прихоти.
Для Костыгина все они были враги рабочего человека, случайно уцелевшие и теперь попавшиеся ему в руки, а врагов рабочего человека, паразитов, надобно истреблять, чем скорее, тем лучше. Мир Костыгина был угрюмыми потемками, и в этой сумеречной стуже могли жить только такие, как он, и еще чернорабочие, поденщики, мастеровщина, – партийные, – а образованные, белоручки, буржуи, обманывавшие рабочего человека, и все, кто за них, должны быть уничтожены поголовно. Советская власть приказала их уничтожить, за то она и есть рабочая власть. Он был еще злобнее с теми, кто молил о пощаде. Он всех их называл: гады.
После ночных расстрелов, когда лица расстреливаемых казались ему вытянутыми кусками света в потемках, он шел к себе в комендантскую, громадную натопленную избу, и при фонаре «Летучая мышь» набивал на койке папиросы из помятой жестяной коробки. Он спал на подушке, черной от грязи, обычно не стягивая высоких сапог. В комендантской стояла вонь сапожной кожи и скисших овчин. Костыгин жил в сумраке, в неряшливой пустоте, иногда напивался водкой, один.
Когда-то Костыгин был коридорным в московских номерах второго разряда «Бристоль». Там он затирал тряпкой на обшарпанных обоях помазки крови от клопов, гнусные разводы, блевотину. Там он выносил ведра с помоями и мутной мыльной водой, в которой плавали окурки, лимонные корки, ошмотья женских волос. Он перестилал простыни после ночных постояльцев, выкидывал на улицу скандаливших проституток, облитых слезами и вином, выволакивал за ноги пьяных. Не один раз помогал он городовым и дворникам вытаскивать из номеров мертвых: то зарежут приезжего мясника из Тулы, то застрелится студент, изгвоздавши кровью стены и потолок. Сам студент, в хорошем белье, длинноволосый, белокурые волосы слиплись от черной крови, и на ночном столике обязательно оставлено образованное письмо, зачем жить и жить не к чему. С отвращением, с ненавистью волочил Костыгин студента из номера за ноги. Весь мир для Костыгина был номерами «Бристоль», поганой пьяной бойней, блевотиной и скотством.
Коменданту стал вспоминаться «Бристоль», когда он заболел. Он думал, что его ломает простуда, сидел у окна комендантской, в шинели. Еще потемнело, пожесточело его замкнутое тупое лицо. С угрюмым злорадством раздавал он помощникам наряды, наказания арестантам. Потом набивал целый день папиросы над жестянкой. Ему было тошно смотреть на утоптанный двор, как намокшая ветка качается у дощатой стены барака, моросит дождь, ему было тошно слушать дождь и как тупо стучат за дощатой стеной казенные часы. Под грудью у него что-то скребло, тянуло, точно торопливо выедая, и он прискаливал от боли ровные, крепкие зубы: у Костыгина была не простуда, а рак.
У окна он и услышал в сумерках шепот:
– Григорий Петрович, а Григорий Петрович…
Кто-то позвал его. Он оглянулся, никого в комендантской. Тогда он понял, что никто из людей и не мог позвать его таким ясным шепотом, что ему показалось или он сам подумал о себе, что вот его зовут Григорий, отца звали Петром, мать названа зачем-то Неонилой. Его мать, прачка, упала с лестницы с бельевой корзиной, переломила хребет. Зачем им всем дали имена, почему каждому человеку дано имя, почему все именуется, каждая вещь, вот коробка, ель, папироса? А что значат имена? Ничего.
Имена стали мучить Костыгина. И тем, кого он убивал, зачем-то даны имена. Это попы выдумали имена. Расстрелять бы всех попов, раз и навсегда.
Но это не утешило его, а в самое ухо кто-то позвал ясно:
– Григорий Петрович, Григорий Петрович.
Быть не может, чтобы кто-то звал его. Слышится в ушах звон от простуды, но голосок знакомый, будто почтительный, даже ласковый, а на деле насмешка, хихиканье.
Костыгин вдруг вспомнил, чей это голосок – Маньки, рублевой потаскухи, какая водила в «Бристоль» гостей, а ему стала сопротивляться, вывертывать руки, с отвращением плюнула ему в лицо. Он ее избил и выбросил на улицу, и было все это лет пятнадцать назад, он больше и не видел Маньки, чего же она зовет, шелещет у одного уха, у другого.
Утром Костыгин с круглыми глазами, темными от злобы и боли, сидел на койке, в шинели горбом, и все отгонял кого-то, с невнятной угрюмой бранью. Помощники, охрана, чекисты молча слушали это странное существо, корчащееся перед ними на койке, еще вчера бывшее тем комендантом Кос-тыгиным, кто любого из них мог уложить пулей.
Вегенер в то утро очнулся на рассвете. Во сне ему неясно виделось, как они идут куда-то с Таней и девочкой по Английской набережной. Изо дня в день он видел тот же сон, что идет куда-то со своими. Он подумал, что светлый сон об ушедших увидит и завтра. Это и было началом новых мыслей Вегенера. Он пригрелся под шинелью, какой дал укрыться сосед, старый солдат, бывший ефрейтор гвардейского полка, сторож казенного здания в Петербурге.
Вегенер вспомнил, как хорошо, как тепло было вчера после пилки мерзлых бревен засыпать под шинелью, и подумал, что такие мгновения тепла и покоя, вероятно, и есть ключ к отгадке жизни. Такие мгновения сильнее всех страданий. Избиения, каторжные работы, холод, голод в чем-то самом последнем, самом глубоком, в самом основном уступают всегда мгновениям отдыха, сна, тепла, тишины, редкой сытости. Само живое бытие сильнее всех мучающих и насилующих его, и в основе всего сущего не страдания и не «высшая мера» – смерть, а загадочный свет упоения, победа над страданием и над смертью. Без победы над смертью не могло бы быть жизни. Смерти самой по себе нет, она относительна к бытию, и еще может быть так, что не будет ни страдания, ни смерти. Но вечным останется вечное бытие.
О своих новых мыслях он пытался толковать соседям.
Над ним спал старый солдат, высокий, седой человек, с когда-то пробитым подбородком, теперь заросшим жесткой бородой.
Вегенер любил смотреть, как солдат кусочком гребешка каждое утро зачесывает на косой ряд редкие волосы через голову, с каким спокойным достоинством говорит со всеми. Старый солдат жаловался, что никак не может забыть сына, студента-путейца, расстрелянного за контрреволюцию, и старуху, а надо забыть, и что он давно бы наложил на себя руки, но такого не велит Бог.
Еще два удивительных человека, правда, недолго, были его соседями по бараку: протоиерей Иона Невелинов и ксендз Степан Маковецкий. Оба глубокие старики, чистые, как два ветхих голубя. Привезли их вместе из какого-то западного города, где жили поляки, русские и евреи.
Ксендз Маковецкий был маленький сухонький старичок со светло-зелеными глазами, с желтоватым голым черепом, вокруг которого белелся тоненький венчик волос, Иона Невелинов, белобородый и белоголовый, напротив, был ростом высок, с большим могучим лицом, крупноносый, в очках, с простыми, серыми глазами.
Дымящийся Иона выносил иногда из леса, из сугробов Маковецкого, обнявши худенькое его тело сильными мужицкими руками. Но бывало, и протоиерей падал под мерзлым бревном.
– Батушка, – звал его тогда с польским акцентом Маковецкий, тер снегом виски, подпирал изо всех сил сухеньким плечиком обширную протоиерейскую спину.
– Ослабел я, батюшка, – говорил Иона, садясь на снег и виновато улыбаясь. Они звали друг друга батюшками.
Старики, как Вегенер и старый солдат, понимали друг друга не по словам, а по чему-то иному, стоящему за всеми человеческими словами.
Ксендз очень горевал, что жизнь стала безбожной похотью и дерзкой гордыней ничтожных. Подражание Христу, не раз говорил он, должно теперь быть спасением не одной личной святостью или личным спасением, не созерцанием неба, а переменой жизни на земле, делом, борьбой за землю Христову. Враги церкви оттеснили церковь от жизни, ее таинств не поняли и спасения ее не приняли, и вот что пришло на смену христианской церкви Богочеловека: пришел бесчеловеческий коммунизм, явное строительство ада на земле.
Иона соглашался во всем со своим мудрым соседом, только добавлял, что еще и Савлы могут стать Павлами, и оглашенные могут войти на литургию верных. Оба иерея верили, что дух человеческий еще наполнится сознанием сыновства Божия, и тогда станет Христовой земля. Для Маковецкого все это было так же несомненно, светло и просто, как гирлянда деревенских цветов на алтаре Царицы Небесной, Матери всего сущего.
Всего чаще, жмурясь от совершенно детских слез, Иона говорил о литургии. Служится вечно и всюду Божия литургия, говорил он, все сущее в добре своем творит Божью литургию, и когда их, иереев, замучают и убьют, все равно останутся на свете иереи, кто вознесет дары над Престолом, а когда бы и всех христиан убили, все равно, птица, поющая на заре, и самый камень, теплеющий от солнца, будут творить литургию Господню.
Ночью ксендз Маковецкий тихонько ворошился на нарах, вздыхал:
– О, Иисусе, Свет мой, радость сладчайшая… Старик никак не мог привыкнуть, что от него отобрали крошечный латинский требник, по какому он читал молитвы.
– А, спите, батюшка, – утешал его Иона. – Я за вас помолюсь. Вы годами старше меня, отдохните, я помолюсь и за вас, и за всех христиан.
Иона Невелинов молился на коленях, долго, истовым шепотом, широко крестясь, крепко откидывая назад львиную голову.
Трех стариков из барака куда-то угнали. Вегенер без них страдал. Ночью он сидел на койке под шинелью старого солдата, оставшейся ему, и думал, что никогда не выйти с каторги, а если и выйдет, все равно уже затоптана его жизнь. Коммунисты осмелились затоптать его невинную ни перед кем и ни перед чем жизнь. Он вспомнил дом на Малом проспекте, университет, войну, всех солдат, каких видел на фронте, всех людей, с кем когда-либо встречался, всю жизнь и отца, потерянного в детстве.
Ему повиделась Германия, о которой он никогда не думал, в которой никогда не бывал, холмы и острые соборы, стада белых облаков над озерами и зеленые хлеба, как тихая музыка. Он вспомнил имя городка, где прошла молодость отца, Вердер: он никогда не был там, но он увидел Вердер, белый от цветущих яблонь, белые лепестки в канавах с веселой водой, на расшатанной старой конке, которая ходит в гору, на спинах лошадей, на шапке старого кучера.
Ночью под шинелью Вегенер запел вдруг старую прусскую песню, какую слышал от отца. Он пел, не разжимая губ.
За то, что он пел, охрана его избила. Вегенер глотал кровь и пел. Потом замолчал.
Он молчал много дней. Потом стал тихо благодарить всех, со светлой улыбкой. За это его тоже били. Он кротко улыбался избивавшим его и благодарил.
Хромой Вегенер со звякающей ногой понял, что его отец, дочь, вся Россия и Германия, с ее реющим вольным небом и острыми колокольнями, весь мир живой таится, живет в нем так же, как в тех, кто топчет его сапогами, что таится во всех свет Божий, неистребимый, такой же, как в глазах его девочки, кого уже никогда не понесет он по лестнице дома на Малом проспекте. И вечный свет, сияющий в каждом, все равно прорвется еще, все равно его еще увидят все люди, и поймут, и поклонятся друг другу с благодарностью.
Тогда-то люди Сынами Света, Сынами Божиими нарекутся.







