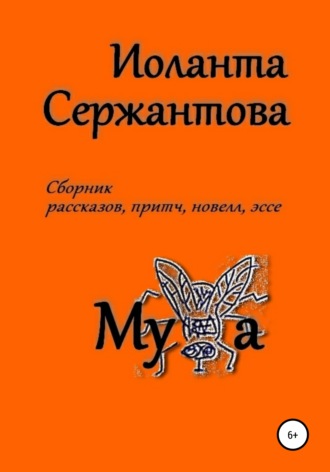
Иоланта Ариковна Сержантова
Муха
Синица потрепала по плечу…
Всё бесчеловечное – в нас самих.
Ничто не возникает ниоткуда.
Иначе,
отчего бы нас вдруг стали бояться птицы?
Вероятно, был у них свой печальный опыт…
…Мы – лишь часть мира, и, нарушая его,
вредим прежде всего себе…
А новый день не принесёт ничего нового,
если не изменимся мы…
Терпеть не могу панибратства, даже по отношению к близким, а уж тем более не жду его от них. От тех, кто подле, хочется уважения, намного большего, чем от прочих, ибо именно они могут судить о тебе в такие интимные моменты, как безудержная радость или не имеющее пределов горе. Наблюдая, как ты переносишь их, они могут оценить, чего стоишь, каков ты, истинный, настоящий, а в какие минуты и не совсем. Так только – тень, бледное подобие или яркий ярый болванчик, пёстрыми красками коего отгораживаешься ты, дабы не подпускать к себе близко никого.
Но нынче поутру… синица облетела меня сзади, и потрепала по плечу…
Она была более нежна, чем скромна, но всё же очень смущалась, так как заметно долго решалась на этот жест. Несколько недель перед тем, заслышав скрип входной двери, синица вылетала навстречу, присаживалась на ближайшую ветвь, строение или иное, обутое в белоснежный фетр нагромождение, а затем, оборачиваясь в мою сторону, глядя прямо в глаза, приветственно щебетала.
В ответ я подзывал её своею дикой с непривычки улыбкой, ответствовал словами, строй которых был не слишком ловок от утерянного навыка говорить с кем-либо. Ведь я куда чаще молчал, и затворничество, что казалось порукой, но не оправданием моей неразговорчивости, было условием покоя, что требовала душа. Но, в случае с птицей, которая явно нуждалась в одобрении своих попыток сблизиться, безмолвствовать было никак нельзя.
И вот, на следующий день после того, как я с нею заговорил, синица потрепала меня по плечу. От неожиданности я замер, и улыбка, та, счастливая, слезливая, которая щекочет темя и спускается тёплым водопадом к сердцу, окутала, обрушилась на меня, и стала баюкать так, что захватило дух, да довольно ощутимо закружилась голова.
После, когда я уже слегка опомнился и вошёл в дом, синица долго выглядывала меня через окошко, и, стоило подойти ближе, всматривалась в лицо внимательнее и пристальнее обыкновенного, пытала, не сделала ли хуже, не стал ли я думать о ней плоше прежнего. Не зря ли она отважилась, не напрасно ли решилась поставить на карту свою доброе имя вольной птицы, не имеющей привязанностей? Ибо, как водится, любая слабость – в ущерб сердцу, которое через то куда как проще ранить, уязвить, обидеть.
…Синица потрепала меня по плечу… Это, как если бы я сам собой оказался доволен, уповал тайно на что-либо и оправдал. Нечаянно, но сделал то, о чём даже и не мог помечать вслух.
Мандарины
Когда у нас с одной стороны дома уже утро, то на другой – совсем ещё темно. И пока день только-только закипает на медленном огне рассвета, ночь степенно и неспешно убирает звёзды до вечера на ледник. Лишь стаявшая до месяца луна не желает скрываться, и, растекаясь понемножку по тарелке неба облаками, делается всё тоньше, прозрачнее, пока не исчезает вовсе.
Хорошо бы, чтобы точно так же терялись в складках времени детские страхи, а не донимали нас, постоянно напоминая о себе. Радует лишь, что, об руку с ними, как с ночью день, идут радости, простые незамысловатые и таинственные детские радости. Об одной из них я вспоминаю каждый новый год.
А было мне… Да нет, не могу даже предположить, сколько мне исполнилось лет, но никак не меньше четырёх, ибо я уже год, как читал всё, что только попадалось на глаза, и уже понемногу начинал понимать, для чего делаю это.
Время было непростое, родители, как не старались, не могли этого скрыть, и мы быстро взрослели. Предугадывая наперёд сетования про несхожесть обстоятельств, соглашусь лишь, что сложным оно было, разумеется, не для всех, но мы жили очень бедно. Однако, балансируя на грани голода, отдавая должное лишнему… совсем нелишнему куску хлеба, мы радовались друг другу, каждому новому дню, да иначе понятой, не раз читанной книге.
В канун нового года мать достала с антресолей старую, похожую на детскую пирамидку, пластмассовую ёлку и коробку с игрушками. Ветки новогоднего деревца и колючие кусочки ствола, попеременно надевались на металлический прутик одна за другой, и, едва макушка была пристроена, оказалось, что ель почти что в два раза выше меня ростом. Покуда мы с матерью доставали из коробки игрушки и развешивали их, отец с улыбкой наблюдал за нами, а как только большая часть украшений нашла своё место на ветвях, он встал и поднял ёлку повыше, водрузив на табурет, который в обычное время служил нам обеденным столом.
– Чтобы праздника было больше! – Сказала мать, потрепав по макушке меня, а потом и ёлку.
Я был совершенно согласен с нею, ибо понимал, что новогоднее убранство берегут вовсе не от моих посягательств. С нами вместе пережидал трудные времена пёс, который съел однажды целую сковороду жареной картошки. Еда предназначалась для всех, но собака не ограничилась своей частью, а слизала содержимое, стоило хозяевам лишь на минутку отвернуться от импровизированного стола.
Когда я укладывался спать, на душе было так славно, что, позабыв про голод, я, против обыкновения, не попросил у матери кусочек хлеба с солью и подсолнечным маслом. Задремал также – необычно быстро, но всё же чувствовал, как лежу и улыбаюсь во сне.
А наутро… Обычно я просыпался рано, и тихо читал в постели, прислушиваясь к дыханию родителей. Но в этот день проспал. Предчувствие новогодних радостей, ещё неведомых мне, бередили душу, хотя я не помню, чтобы ждал какой-то особенной еды или подарка. Просто-напросто желалось удержать в себе подольше это бесценное ощущение праздника, и, кажется, больше ничего.
– Сыночек, просыпайся! Сегодня вечером мы будем встречать Новый Год! – Мама будила меня, нежно прикасаясь ладонью ко лбу. – Заспался ты нынче, переволновался вчера. Ну, хорошо, что температуры нет. Вставай скорее, умывайся.
Прежде, чем открыть глаза, я ещё сильнее зажмурился, чтобы вновь увидеть нашу замечательную ёлочку во всей её красе, как можно ярче, и почувствовал необычный пряный, праздничный запах. Медленно-медленно приоткрыв веки, я заметил на книжной полке рядом с ёлкой вазу, доверху наполненную яркими оранжевыми комочками. Именно их пористые щёки издавали столь восхитительный аромат. Мандаринов до того дня я не пробовал, но сразу узнал по картинкам из книг.
Перехватив мой удивлённый взгляд, мама улыбнулась:
– Поешь овсянки, и сразу можешь приступать. Это всё тебе!
– Мне?! Нет! – С горячностью отказался я. – Мы подождём до вечера и станем есть все вместе, втроём. А пока… пусть они так пахнут, хорошо?
Я знал маму с самого своего рождения, поэтому понимал её лучше, чем она сама, и в тот час сразу же догадался, с каким трудом ей удаётся не расплакаться, поэтому отвернулся, сделав вид, что занят книжкой, чтобы она могла уйти плакать в ванную.
Тогда, точно как и теперь, у нас не было телеприёмника, и мы ждали наступления нового года, глядя на будильник, папа завёл его специально на двенадцать часов ночи. И вот, когда он, наконец, прозвенел, мама протянула мне мандарин:
– С Новым Годом, сыночек! – И зачем-то добавила, – Кушай осторожно…
– Там косточки? – Спросил я.
– Наверняка… – Загадочно ответила мама, и вдвоём с отцом они стали наблюдать за тем, как я впервые в жизни снимаю шкурку с мандарина.
Стоило разломить его на дольки, как в середине обнаружилась свёрнутая в трубочку записка. Раскрыв её осторожно, я прочёл: «В прихожей тебя поджидает сюрприз».
Я побежал в прихожую, и увидел небольшой свёрток, рядом с которым лежал ещё один мандарин, внутри которого тоже оказалась записка.
Переходя из одного угла квартиры в другой, я собирал свёртки и мандарины, читал записки, разворачивал нехитрые подарки, а родители в это время глядели на меня во все глаза, прижав губы зубами, чтобы не разрыдаться. Они были так счастливы, что у них есть я… Но сидели, прижавшись друг к другу, как два воробушка, и мне их было отчего-то ужасно жаль.
Говорят, что мандарины – символ богатства, любви и счастья. Может, для кого-то это и так, но, лично для меня то будет верно лишь только в том случае, и до той поры, пока в самом их центре, под рыхлой пахучей кожурой я вновь и вновь смогу отыскать свёрнутую в трубочку записку от мамы. И, чтобы, когда я стану её читать, родители видели моё лицо, да сидели рядышком, тихо-тихо, как воробьи…
Случай
Ворон парил вдоль кромки леса, и наблюдал за тем, как, слегка размяв ноги на батуде плетёной изгороди, балансирует поверх циновки виноградных ветвей, седой, не по своей воле, дятел. Неутомимо удерживая равновесие на скользкой от растаявшего инея проволоке лозы, он исследовал неглубокие сугробы подмороженных кистей изюма. Снег так звонко и озорно хрустел на ветру, что сторожкой птице приходилось поминутно останавливать себя, чтобы прислушаться и осмотреться. Ворона он не приметил, а ястреб, хоть и сосед, мог воспользоваться минутой, чтобы напасть. Зимой, под суровым приглядом мороза, даже самый незлобивый, может оказаться опасным, коли несыт.
Глянув дальше, ворон приметил пёстрого дятла. Несмотря на то, что тот был по обыкновению перепелес74, гляделся достойно, – будто бы во фрачке с длинными фалдами, белой сорочке с мело жатым жабо, алым шарфом и поясом в тон. Манкируя редким для зимы фруктом, он угощался за отдельным столом тем, что посытнее, вместе с воробьями и прочим несерьёзным людом, приводя их в замешательство не только своим присутствием, но и манерами. Упреждая трапезу, он пристально разглядывал кушанье, как бы обнюхивал его надменно, обсматривал близко, близоруко склонив голову, словно выбирая, – отставить нетронутым или даже бросить с негодованием вниз. Но, к удивлению присутствующих, после каждый раз съедал, с плохо сокрытым наслаждением.
Насытившись, он взлетел, будто бы возмущённый приёмом, даже не попрощавшись ни с кем. И над засохшим облетелым свадебным букетом леса, рассмотрел яркое пятно лисы, напрасно поджидающей суженого на скользком пригорке.
Ворон, что и прежде пролетал мимо по нескольку раз в день, ещё утром, будто нечаянно выронил мышь прямо ей под ноги, рискуя получить выговор от супруги.
Неподалёку, всего в трёх верстах, развязное чириканье оглашало округу, где, возле грязного месива сугроба, во всю пировали воробьи. Что там произошло и почему, было не разобрать, но с подветренной стороны снег порос редкой рыжей шерстью.
Будь лиса помоложе, она, может быть, и решилась бы обзавестись новым кавалером, но… не в этот раз. Ещё свежи были клятвы…75 , к тому же, ей шёл уже четвёртый год…
– Значит не судьба побывать ещё раз мамой, не судьба. – Вздыхала она.
Рядом с ржавой, прошлогодней апельсинной долькой вмёрзшего в наст семени клёна, у ног лисы лежала нетронутой давешняя мышь. Принёсший дурную весть ворон, что с очередной добычей летел в своё гнездо, заметил это, но был не в обиде. Случись подобное с ним, неизвестно, как бы повел себя он76.
Всякая неясыть77 благородна от силы своей, а воробей, коли голоден, дикому зверю подобен.
Каша
С некоторых пор дятел чувствовал себя кем-то вроде дворовой птицы. Он прекратил шарить по бездонным карманам деревьев, оставил будить примёрзших к складкам коры личинок, не прощупывал швы грубых одежд стволов, в поисках спящих жуков. В стенах тесного тёплого дупла сосны он теперь лишь ночевал, а день проводил за тем, что в который раз лениво обшаривал чердак дома и сараев. Исхоженные им вдоль и поперёк, они уже не представляли никакого интереса. Гнездо ос было испорчено, кладовая, обустроенная прозапас мышью, – растерзана, а тайник, по обыкновению позабытый рачительной белкой, хоть и не нужный вовсе, от нечего делать, также был приведён дятлом в совершеннейший беспорядок. Проснувшись поутру, он с приветным криком залетал во двор, и, в ожидании миски с горячей кашей, которую хозяйка выставляла на порог для собаки, от скуки колупал замазку на окнах, отщипывал кусочки наличников и крошил дверную раму. Изредка, побуждённый издали стуком топора, дятел принимался долбать что-то рядом с собой, но скоро бросал эту затею.
Поначалу дятел опасался собаки, и прилетал к миске, лишь если та забиралась в будку поспать. К тому времени каша, разумеется, леденела, но всё равно, добывать пропитание подобным манером было куда проще, чем выуживать замёрзших червячков из-под коры. Но как только дятел понял, что старый пёс ест скорее по привычке, чем в охотку, и не прочь поделиться, то распробовал духовитый вкус тёплой каши. Он садился на край миски, и, пока собака слизывала с боку, где было не так горячо, расслаблял узел галстуха языка78, и вкушал сверху самой середины, прилепляя остуженную самим воздухом тёплую плёнку кушанья.
Дятел освоился в такой мере, что ежели, бывало, хозяйка запаздывала с кашей, то требовал немедля, сей же час! – вынести её. Для этой цели он заволакивал пустую миску на крыльцо и гремел ею бесцеремонно, спуская по ступеням.
Собака глядела на это и вздыхала, положив лапы на голову. Она была против любого беспорядка, но соглашалась с птицей в том, что с едой запаздывать не след.
Некий воробыш живший неподалёку, после нескольких дней надзора за товарищами, сообразил присоседиться к трапезе, и одним пасмурным днём, едва дятел устроился напротив собаки, никого не спросясь, плюхнулся прямо в середину миски. Надо сказать, что посудина была похожа, скорее, на небольшой таз, в котором стирают детское бельишко, посему каша на глубокой его части намного дольше оставалась горячей. Очутившись по шейку в ванне жирного, вязкого варева, обвитого кудрями пара, воробей залип. Взлететь он мог, ибо не было никакой возможности приподнять крыл, а от жара ему стало столь нехорошо, что раззявив пошире клюв, он только и смог, что тонко чирикнуть, вычёркивая себя навсегда из воробьиной судьбы. Но… собака была слишком стара, чтобы не пожалеть о чужой жизни. Обжигая язык, она отхлебнула каши из середины миски вместе с воробьём, и выплюнула его в снег уже почти что чистого. Так только, несколько крупинок застряло на затылке.
После того случая, дятел и пёс приняли воробыша в свою компанию, но теперь он кушал, не нарушая порядка, пристроившись на самом краю, и не старался зачерпнуть первым, – погуще, послаще, да погорячее. «Всему своё время», – думал он, – «как простынет немного каша, вот и дойдёт до неё черёд.»
Тараканы
«Таракан упал в стакан…»
Анатолий Баранов (Цхварадзе)
Тихо радуясь от того, что застолье ещё не закончено, и впереди ещё чай, бабушка собирала тарелки, которые передавали ей со своих мест гости, и ставила их стопкой, одну на другую. Обсуждая переустройство мира на сытый желудок, все вокруг кричали, но не от того, что затевали склоку., но потому, что собеседники чаще всего сидели по разные стороны стола. Мне разговаривать было не с кем и не о чем, я вертел головой по сторонам, прислушиваясь то к одним, то к другим.
Заметив, что я совершенно свободен, бабушка попросила:
– Отнеси-ка тарелки на кухню, – И я с готовностью перехватил посуду из её рук.
– Только не разбей! – Попросила она.
Я храбро прошёл сумеречный коридорчик, света из комнаты оказалось вполне достаточно, чтобы напитать мою отвагу, но на пороге кухни пришлось остановиться. Бабушка, которая пошла вслед, чуть не сбила меня с ног:
– Ну, что же ты? Заходи!
– Не… не буду. Боюсь… – Ответил я и отступил, предоставляя ей войти первой.
Бабушка понимающе вздохнула и нащупала рукой выключатель. Стоило свету коснуться рыжих половиц, как золотисто-карие жуки бросились бежать, шелестя хитоном79 надкрыл в тень.
Пусть бы в кухне прятался бандит, тигр или волк, – то я бы непременно сразился с ним, и загородил бабушку собой, но тараканы… Коли б я не знал, сколько их прячется за плитой и под столом, если бы никогда не видел их гнёзд, и белоснежных личинок, заполнивших однажды весь пол крохотной кухни от порога до стола. В тот день, когда я встретил их впервые, решил, что кто-то просыпал рис, пока они не бросились врассыпную…
Невозмутимо ступив в кухню, бабуля потянулась ко мне за тарелками:
– Давай, надо вымыть поскорее, чтобы было куда нарезать торт.
– Сам помою, а ты вытирай. – Попытался загладить свою нерешительность я, но, едва направился к раковине, чтобы открыть воду, как оттуда, обгоняя один другого, на стену перед моим лицом, неровным, рыхлым строем, выбежали тараканы. От неожиданности я выпустил тарелки из рук. Все. Разом.
Они как-то очень медленно и тихо падали, раня друг друга, брызжа осколками и шурша фиолетово-золотистыми кружевами.
– Мои любимые… – Охнула бабушка, но, заметив, как я расстроен, быстро прикрыла дверь и схватилась за веник:
– Не переживай, это всего лишь тарелки. – И достала из стола другие.
Когда, нагруженный банкой тушёной в маринаде рыбой, кусочком торта «на дорожку» и напутствием «после вернуть крышку», ушёл последний гость, я зашёл в кухню. Бабушка уже перемыла всю посуду, и, достав с полки кружку с обкусанной по краям эмалью, набирала в неё воду.
– Ба… из-под крана нельзя…
Согласно кивая, бабушка принялась пить большими глотками. На стене, не стесняясь ни нас, не света, во всю суетились тараканы. Иногда они падали в позабытый на дне раковины, залитый водой стакан.
– Утонут? – С надеждой спросил я.
– Нет. – Вздохнула бабушка. – Тараканы долго могу плавать, очень долго80. Живучие они…
Трамвай
– Ту-дух, ту-дух, ту-дух… – Зимний туман густеет, и из-под его сени, как из бездны, зыбкий и нечёткий даже вблизи, появляется трамвай. Он словно вылеплен из подтаявшего снега, неловок, угловат, но так непохож на своего меньшего собрата, который плющил колёсами гвозди и монетки на рельсах моего детства…
– Тирелим-трынь! – Глухие, заканчивающиеся ничем переливы, с которыми подъезжает к остановке трамвай, напоминают мне звоночек моего трёхколёсного велосипеда. Вагоновожатая в любое время серьёзна, и пристально наблюдает за тем, чтобы, как только она сдвинет рукоять электромотора, никто не остался на ступенях. Впрочем, всегда найдётся тот, кому интереснее проехать на подножке трамвая, нежели передавать монеты за уют вагона кондуктору. Такой, случается, расплачивается за проезд ушибом от падения, а то и вовсе поломанными рёбрами.
Снаружи трамвайчик выглядит, как игрушечный, а внутри он тот ещё щёголь! Стучит монисто зацепившихся за потолок рукоятей, похрустывает суставами шпал, как тапёр костяшками пальцев перед игрой. Неширокие наборные сидения из узких досок, пахнущие лаком и олифой, словно залиты мёдом, так, что, глядя на них, редкий малыш не лизнёт исподтишка, пока не видит никто. Если в трамвае мало пассажиров, то, бывает, вагоновожатый позволит постоять у кабины, а иногда даже и взойти вовнутрь, ступить одной ногой на ребристую резину ковра.
Такая удача выпадала не каждому, но мне – много чаще других. Давняя подруга матери, тётя Аня, управляла трамваем номер тринадцать, что ходил по нашей ветке. Она часто махала нам рукой через окошко, когда проезжала мимо, а иногда и колоколила в ответ. Тётя Аня была такой худенькой и невысокой, что казалась девочкой. Накрытый платком пышный пучок волос на голове и помада морковного цвета не делали её старше. Казалось, что настоящий водитель трамвая вышел, чтобы перевести тяжёлым ломом стрелку, а тётя Аня забежала, и катается запросто, без спросу, куда захочет.
В кабине трамвая, особенно привлекали свисающий откуда-то сверху толстый канат и штурвал. Эти, почти что корабельные снасти, тревожили воображение, и представлялось, что ты не в заснеженном городе, и не возвращаешься от бабушки или из гостей, а ведёшь судно к экватору в бурном океане. И, стоит пересечь его, как по праву сможешь «свистеть в ветер, плевать на палубу и носить серьгу в левом ухе». Белая пена вала по правую руку так и норовит сбить с курса, но ты знаешь, что ни за что нельзя подставлять борт корабля под удары вод, а, чтобы не потопить судно, надо непременно идти поперёк волны…
– Право руля! – Кричу я на весь трамвай и, ухватившись за ручку штурвала, кручу его, что есть сил, дабы спасти корабль и всех его пассажиров…
Штурвал ручного тормоза так неожиданно резко остановил вагон, что по лобовому стеклу пробежали нешуточные электрические молнии, я же до крови разбил себе нос о перегородку… После того случая, тётя Аня по-прежнему здоровалась со мной, но больше ни разу не впустила в кабинку, а, спустя некоторое время, и вовсе пропала с маршрута.
Как-то раз, когда мы с матерью шли за покупками, то встретили сухонькую усталую женщину в платочке.
– Поздоровайся! – Приказала мне мать, и я послушно кивнул.
– Ты меня не узнал!? – То ли плача, то л и смеясь воскликнула женщина. Я вгляделся, и лишь по цвету, под которым тётя Аня прятала свои губы, понял, что это она. Ведь никогда раньше я не видел её без трамвая.
Взрослые разговорились, и я услышал, что тётю Аню перевели в какое-то депо, так как месяцем ранее, когда она вела свой вагон по чужому маршруту, трамвай никак не хотел забираться в горку, но когда заехал-таки, то прямо на самом верху у него отказали тормоза. Пассажиры начали голосить и плакать, а тётя Аня выскочила из кабины, и громко, перекрывая всех. закричала, чтобы все, как один, легли на пол. Те люди, что послушались, остались целы, а другие, которые начали выскакивать на ходу, пострадали.
– И теперь меня будут судить… – Грустно улыбаясь, закончила тётя Аня.
– Но ведь вы ни в чём не виноваты! Они же сами! Не послушались! – Стал горячиться я, но мать одёрнула меня, чтобы «не лез ко взрослым со своими пустяками».
Не знаю, что решил суд, но тётю Аню я больше не видел, хотя ещё долго с надеждой вглядывался в лица вагоновожатых, и на всякий случай махал им рукой.
– Ту-дух, ту-дух, ту-дух… – Зимний туман густеет и липнет к стёклам, так что и не разглядеть, кто там, по ту сторону окна, чуть наклонившись вперёд, внимательно смотрит, – успели ли ребятишки отбежать подальше от рельс. Ведь им непременно нужно, чтобы трамвай как следует расплющил монетку или гвоздь. Ну, а зачем ещё нужны трамваи, если не для того?..







