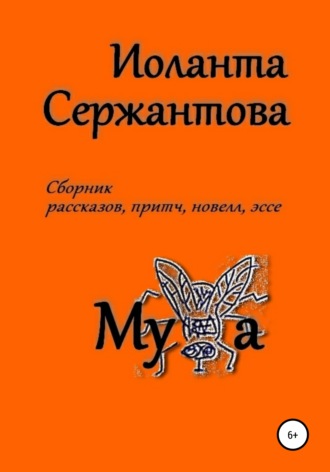
Иоланта Ариковна Сержантова
Муха
Совесть
В какой-то из дней весны я куда-то спешил, прямо опаздывал, и не останавливаясь, на бегу поздоровался с дядей Лёшей, что стоял посреди двора. Он был нашим соседом, хорошим мужиком, работящим, дотошным, но весёлым. С завода на пенсию дядю Лёшу проводили день в день, а всё из-за его справедливого характера, ну, а он, чтобы не скучать дома, устроился сторожем. Недели не прошло, как уже нёс на новое место работы полотняный мешочек, в котором болтались полбуханки чёрного, кусок сала и склянка с вкрученной в горлышко бумажкой. Ночами бдеть за чужим добром, – известно, как оно, дело беспокойное, тут уж, – приходилось смотреть в оба, до красных глаз.
Вот этими-то яркими, кроличьими очами дядя Лёша взирал на мир, что в будни, что в праздники, не ущемляя первых и не вознося вторых. Вступив в пору возрастной болтливости, он частенько удерживал подле себя даже незнакомцев, а приятели, те и вовсе не могли проскользнуть мимо незамеченными. Тем днём ему под руку попался именно я.
– Паша! – Подозвал меня сосед.
– Дядь Лёша, прости, не могу, тороплюсь. Давай, потом.
– Да, когда ж после-то, стой, кому говорю!
Всплеснув руками, я остановился, и, вместо привычных жалоб на политиков, да дороговизну, услышал то, чего никак не мог ожидать:
– Паш, погоди-ка, вот тут стань и помолчи!
Я замер.
– Слышишь?
Надо заметить, что наш дом, будто сказочная избушка, стоял передом к лесу, и часть его двора располагался на не вытоптанной ещё нами опушке.
– Ну, дядя Лёша! – Умоляюще воскликнул я. – Ну, что там?! Поскорее, пожалуйста!
– Слышишь?! Почки! Лопаются!
Красные глаза соседа светились такой детской радостью, что я, задержав дыхание, невольно прислушался. Со стороны леса явственно звучал натужный двухрядный скрип. То одна за одной отворялись светёлки, за которыми, прихорашиваясь, готовились к первому выходу юные барышни в жатых марлевых юбках, цвета свежей зелени.
Я сочувственно похлопал дядю Лёшу по плечу, и побежал по своим делам, но весь день после, мне хорошо запомнилось это, ходил, невольно прислушиваясь, не отыщется ли где поблизости точно такой же звук.
Давно уж нет моего соседа на этом свете, но то нечаянное и чудесное, в которое он обратил меня тогда, не отпускает по сию пору. И не только весной. Бывает, остановишься посреди зимы, прикрыв глаза, и мимо тебя люди, – суетятся, спешат, а ты просто стоишь и чувствуешь, как бегут навстречу снежинки. Те, которые не успевают увернуться, задевают щёки и тают, не добравшись до надуманного51, опережая лишённую снисходительности жалость к ним, и невольные, нестыдные, сладкие слёзы.
Свесив до полу полосатый шарф хвоста, дятел кивает, подсчитывая щёпоти падающих хлопьев льда. Белка где-то там, наверху, откуда сыплются они, шумно застилает постель. Мысь52 столь бойка, что кажется, будто только что было слышно её возню со стороны зари, как она уже много закатнее53, а ближе или дальше, – не разобрать.
На расставленных в стороны ветках, ветер прядёт пряжу из кем-то подаренной на бегу шерсти. Кто то был? Он не успел разглядеть.
Замешкаешься нарочно, задумаешься, – не оказаться бы, как два ближних ствола, что закинули нА ногу нОгу, да так и вросли в ветхость, – не шагнуть, ни мимо пройти.
Под задранным оттепелью подолом сугроба, делаются заметными иссечённые трухлявые пятки пня. Хлопушка осени роняет на снег конфетти семян разнотравья, и поползень, похожий на щекастого китайчонка, таит под длинной, в пол-лица бровью, хитринку, подбирая зёрнышки понемногу, пока не увидал никто.
Тень, исчезая в горсти полудня, оставляет обугленные чёрные следы, что хорошо видны даже в сумерках.
Жеманница54 ночь, прячет лицо в пушистый меховой воротник кроны леса. Не хоронится ни от кого, никого не ожидает. Думает о других, как про себя, ибо совестлива и сострадательна.
– А.… совесть… что это ещё за птица?
– Умение слышать голос собственной души, который тих, как шёпот раскрывающихся почек по весне.
Номинал
В моём родном городе, на угол гарнизонного Дома офицеров, там, где в 1943-м году поэтом Евгением Долматовским было записано стихотворение «Танцы до утра»55, каждый день, ровно в девять, словно на службу, в течение многих лет приходила миниатюрная, крошечная, будто ненастоящая, кукольная бабуля. От неё пахло не старостью, а мятным ароматом ванили, если, конечно, подобное сочетание существует в природе. Невероятно чистенькая, с неизменными химическими кудряшками и прозрачным маникюром, она… просила милостыню.
Бабулечка не тянула к прохожим дрожащих рук, глядела строго перед собой, и вообще, стояла молча, прямо, с великим достоинством. Но безмолвие её было столь красноречиво, что прохожих настигало смятение задолго до того, как, поравнявшись с нею, они замечали невероятно толстые линзы громоздких очков, водружённых на небольшой аккуратный нос. Казалось, что, соберись эта, выпадающая из разряда действительно существующего, особа, рассматривать луну, то, с таким увеличением, углядела бы на дне кратеров метеоритную пыль.
С присущей возрасту смекалкой, упреждая каждое намерение подать ей, протягивая деньги, она произносила:
– Вы не могли бы разменять? Десять рублей на две монетки по пять, а то я совсем ничего не вижу… – Так непринуждённо выговаривая одну и ту же фразу, она неизменно получала куда больше, чем на один только простой и невинный размен.
Несомненно, во всём этом присутствовало некое вычурное, нарочитое лицемерие, распознать которое, при всей его очевидности, казалось немыслимым и постыдным. Подле этой старушки, хотелось думать о вынужденном, скоропалительном своём благородстве, как о чём-то греховном, дурном.
Сменить гордыню на подаяние она не могла, но неявно нуждалась в этом. И, вовлекая посторонних в предосудительное, делала их соучастными своему непотребству… А вольно или невольно? – то был вопрос.
Впрочем, изредка находились те, кто пытался уличить женщину в обмане, либо лукавстве, но даже они не решались на большее, нежели как обменять монетку на требуемое количество, по номиналу56.
Нам не дано знать своей истинной ценности, как не умеем вполне понять и ближних, и дальних. Не владея этим навыком, преуменьшаем собственную значимость, или преувеличиваем её. Быть может, это некий способ указать на то, что мы не имеем права усердствовать лишь в том, что, как кажется, нам по плечу, и, если можем сделать больше, чем должны, то именно это и есть – то, что дОлжно.
Я давно не был в родном городе, и когда, через много лет, приехал туда ненадолго, первым делом отправился на угол гарнизонного Дома офицеров. Надо ли говорить о том, что он осиротел? Не преминув откликнуться на моё настроение, природа дала слово дождю, и, созвучный моим слезам, он вымочил всё вокруг, исключая маленький клочок асфальта, на котором прежде пережидала старость та крошечная бабушка. Терзая в кармане напрасно приготовленную купюру, я стоял, наблюдая за тем, как старожилы, стараясь не задеть едва видимое облачко мятной ванили, привычно обходят его стороной, а те, кто не застал старушки, смело ступают по свободному, сухому месту подле стены.
Можно ли убедить себя смириться с подобным, хотя когда-нибудь…
Любовь
Громкий смех, с которым дятел взмыл в небо, вспугнул воробьёв, что возились подле исходящей паром, случайно неподобранной навозной кучи. А поползень и синица, не обращая внимания ни на кого, всё трудились над небольшим ломтиком сала, подвешенным супротив окошка корыстным до зрелищ селянином. Пережидая студёную пору, когда из дел по хозяйству, – лишь натаскать в дом вдоволь воды, да засветло57 наколоть дров, чтобы хватило до следующего утра, делать было особо нечего. Вот от того-то, невзирая на крики домовитой супруги, мужичок и отхватил немного сала от приготовленного к Рождеству куска.
– Добро бы на какое дело, – возмущалась распаренная от печи жена. – А то ж баловство! И это в пост…
Мужик молчал и, пряча улыбку в волосах неровно вспенившейся кудрями бороды, устраивался у окошка.
– Ишь ты, гляди-ка, – Звал он жену поглядеть, – сидят, ровно братья.
– Некогда мне, – Обижалась женщина, а сама нет-нет, да и прищуривалась через голову супруга, чтобы рассмотреть, что там делают птицы.
А те и впрямь вели себя, по-родственному58. Устроившись по обе стороны, подтрунивали друг над другом, дразнились, как ребятишки за столом. Синица пугала, орлом растопыривая крылья, а поползень стращал её в ответ, размахивая перед лицом гвоздиком клюва. При этом каждый из них не забывал уписывать сало за обе щёки, и им было так вкусно, да весело, что любо-дорого поглядеть.
Вечером, когда супруги легли, жена долго прислушивалась к дыханию мужа, и только убедившись, что тот уже заснул, осторожно потрогала за редкие волосы. Тихонько провела ото лба к затылку, вспомнила, как по младости путалась в мужниных волосах, столь густы были они. «Вот, лысый уже почти совсем, а всё ещё мальчишка», – с материнской нежностью подумала она, и глубоко, сердечно вздохнула. Супруг вздрогнул и забеспокоился спросонья:
– Что? Нехорошо тебе?
– Да нет, милый, хорошо. Ты это… там, в кладовке, сало неровно отрезал, я подравняла, ты завтра птицам-то своим отдай, чего пропадать.
Луна за окном что-то рисовала на сугробе угольком тени. Засидевшийся в гостях мышонок, обжигая о снег розовые пятки, бежал домой с крошкой обронённого птицами сала, а филин хохотал на весь лес, и никак не мог остановиться. Он никого не хотел пугать, просто ему тоже… отчего-то было хорошо.
Швабра
Февральский день, начавшийся по обыкновению затемно60, не тянулся, подобно любому летнему, но уже стремился к тому. А ближе к вечеру, прямо на красную дорожку заката, ступила некая, неопределённого возраста баба в облупленном, скорбящем о былой красоте, красном клеёнчатом плаще, голубом фетровом платке, и измочаленной шваброй61 наперевес. Она поминутно оборачивалась в сторону груды наваленных шпал, на которые, судя по всему, её высадил вагонный контролёр, и нервно, сквозь слёзы, смеялась. До ближайшего населённого пункта под литерой «Г» по скользкой ото льда, накатанной щебёнке, если судить по количеству перегонов, было всего каких-то семь вёрст, да и швабра, несмотря на её довольно потрёпанный вид, вполне могла послужить опорой.
Казалось, верно оценив тяготы предстоящего путешествия, эта странная особа решила предварить или предотвратить его прогулкой по дворам, – глядишь, – примут в каком, а то и вовсе оставят переночевать.
Первая же дверь, в которую постучалась она, оказалась заперта. Не ответили и из-за второй двери, промолчали через третью. Оставив напоказ одни лишь мокрые щёки, улыбка скоро сползла с лица женщины, и, как неудобный чулок или подвязка, пала в снежную пыль дороги, захочешь отыскать, – ни за что не найдёшь.
В дом на краю полустанка женщина заходить уже не хотела, но для очистки совести, чтобы убедить себя в том, что всё возможное сделано, направилась в его сторону.
«А после напьюсь ледяной воды из колодца, не опасаясь, наконец, простуды, и пойду, покуда хватит сил», – подумала она, и только лишь перехватила поудобнее швабру, чтобы та не мешала постучаться, как дверь сама отворилась ей навстречу, и мелкий некрасивый мужичонка, улыбаясь широко и радушно, прямо с порога пригласил зайти:
– А я смотрю, вы по домам шаровите62! – Вместо приветствия проговорил он.
– Я.… я не шарила, я стучалась! – Обиделась женщина.
– Да, это так у нас называется, – Правильно истолковал огорчение незнакомки мужчина. – Только вы это зря.
– Чего?
– Зря так тихо стучались, говорю! У нас это не принято. Мало ли что ударилось, – дятел о притолку или косуля в дверь. Мы тут к гостям непривычные. Они у нас, ежели что, – все званые. Таких попред63 поджидаем. С утра выходим, на дорогу глядим, заране64 радуемся. А по-другому никак, не до посиделок нам, окошко-то глазом не протрёшь. Хорошо, я тебя увидал, а то бы и меня не дозвалась. Тихая ты, мышь, и та громче в дом просится.
Заметив, что женщина покрепче ухватилась за швабру, собираясь уйти, мужичок упредил её:
– А куда это ты? Хоть и незваная, а всё гость. Темно уж, оставайся, переночуешь.
И, чтобы женщина вовсе одумалась, добавил:
– Не об тебе пекусь. Там, по дороге, как раз, гон у лис, помешаешь. Раздевайся, давай, чай пить время.
Под клеёнчатым, не по сезону, плащом, на женщине обнаружилось приличное серо-голубое шерстяное платье, а приятного стального цвета волосы, даже примятые платком, не требовали укладки.
У стола гостья сидела на краю табурета, всё ещё сжимая в руках швабру.
– Ты поставь-ка подругу свою в уголок, – Усмехнулся мужчина. – у нас этого добра навалом, да и не привыкли мы чужого брать. Где что оставишь, там уж и отыщется. Хоть в доме, хоть на улице. «Не тобой положено, не тебе и собирать!» – так у нас говорят. Только, гляжу я, не новая вещица-то, ношеная.
– Не новая, – согласилась женщина и вздохнула. – Сама не знаю, зачем я её…
– Украла, что ль? – С сомнением покосился мужичок.
– Да нет, дочка меня из дому погнала, сказала, мол, – уходи, ненавижу, всю жизнь мне испортила. Ну, а я надела, что под руку попалось, швабру схватила, в прихожей стояла, и бежать. Перед глазами красно всё, туманно. Мы у вокзала живём… жили, так я, едва увидала открытые двери, вошла в вагон… Долго ехала, а как кондуктор пристал с вопросами, тут уж и ссадили меня, денег-то не оказалось совсем.
– А куда ж ты ехала, к кому?
– Да ни к кому. Сперва просто так, без цели, подальше чтобы, а после решила, – выйду, где лес, зайду в самую глушь, сяду под дерево…
– И зачем?
– Чтобы потеряться, насовсем, чтобы не мешать дочке быть счастливой.
– Эх… глупые вы народ, бабы. Это что ж, из-за одной минуты всю жизнь под откос? – Хозяин дома погладил ладонью столешницу, сгоняя крошки в горсть, и сказал, – Значит так. Оставляю тебя у себя жить, за хозяйку. Места хватит. Мужик я хотя и женатый, да одинокий.
– Как это? – Удивилась женщина.
– Ушла от меня супруга, уж годков пять, как съехала. Не нравится ей тут, в город захотела. Там теперь обитает.
– А это удобно?
– Ты про что? У неё там ванная, туалет тёплый…
– Мне! Если я тут, у вас останусь, будет ли это удобно?
– А чего ж! В хате три комнаты, в одной, значит, я, вторая твоей будет, а в третьей будем чаи гонять с тобой по вечерам. Всё веселее! Я ж тебя не полюбовницей к себе зову, а как бы сестрой.
– Странно это всё, да и совестно… – засомневалась женщина.
– А по зиме, зверьё в чаще шваброй ентой пугать, не совестно? Те, вон, друг дружку от водопоя да от тепла не гонят, теснятся один к другому, а мы-то, чай…
Далёкий от города полустанок. Пять дворов по обе стороны железной дороги. Ребра шпал отбиты запущенным катаром вагонов. Частая смена часовых поясов почти сгубила их, но нет в том большой беды, бывают и поболе.
…Умение вовремя услышать собственную душу – не это ли называют совестью?..
Слепой снег
Снег, ослеплённый нежданным ярким светом солнца, шёл, не разбирая дороги, сам не зная куда.
Деревья, игриво оглядываясь по сторонам, шевелили пальчиками, обтянутыми ажурными сверкающими перчатками инея.
Взбив, как вышло, поношенную перину пуха, расставив немного перья и пёрышки, воробей дремал. Солнце, которого не видали в этих краях довольно давно, вспомнило, наконец, про существование сего глухого угла. Отгородившись от зимы ветками сосны, воробыш65 грелся, внимая с жадностию тому теплу, на которое было способно солнышко, и грезил о лете, когда от жары, хоть в омут, хоть в силок.
Снег, спохватившись вдруг, втянул голову в плечи облака и обмяк, примолк, не зная, куда себя деть. Солнышку тоже надоело тратиться за зря, а следом и деревья поспешили убрать праздничные наряды до нескорых мнимых лучших времён.
По-змеиному замещая пустоту, медленно, изгиб за изгибом, холод заполнял собой всё пространство. Воробей с надеждой глянул в небо, но не увидал там ничего, кроме вздымающегося серыми стальными кольцами сумрака. Озноб принялся мять птицу неухоженными, покрытыми цыпками пальцами. Воробышек знал, что, если прямо теперь ему не удастся покушать, – хотя чего-нибудь! – то ничем хорошим это не закончится. Дрожь скоро перейдёт в лихорадку, он обессилеет, и окоченеет насовсем. Воробей видел, как это бывает.
К счастью, он вспомнил, что где-то тут поблизости лежит хлебная корочка. Солнце наверняка успело размять её тёплой ладонью… Пролетев наобум влево, метнувшись вправо, на дне неглубокого сугроба воробей заметил то, что искал. Кинувшись к сухому, но сохранившему аромат, хлебному кусочку, от радости даже не обратил внимания на до крови оцарапанную о снег пятку. С наслаждением вдохнув обветренный сытный запах, воробей попробовал отщипнуть от него, но увы. Мороз и ветер, спорые на расправу, обратили из без того жёсткую корку в камень.
Воробей истерически чирикнул, и шлёпнулся с подкосившихся, враз обмякших ног. Он живо представил вместо себя, упруго листающего крыльями солнечные дни, нечто серое, блёклое, до чего не дотронется даже голодная кошка. Голова его закружилась… Но ничто не бывает напрасным, – ни надежды, не страхи. Оказавшийся неподалёку поползень, думал скорее, чем летал. Перехватив обращённую к небу жалобу, не истратив ни мгновения жизни на нерешительность, он опустился подле воробья, в несколько ударов сокрушил смёрзшийся хлебный комочек, и исчез.
Нам одинаково неведомы пути добра и злобы. Бывает, посулы блага часто оборачиваются во вред, иногда случается иначе, но главное – научиться не растоптать в себе порыв, и отозваться: на писк птенца или младенца, на скорбный взгляд старика или просьбу в ответной улыбке… И вовремя подать руку, даже если всего-то нужно, что перевести через дорогу зимы, ослепший от яркого солнечного света, снег.
Рождество
Печь дождалась, покуда в доме все уснут, и, поглядывая на празднично наряженную сосну под окном, начала хрустеть вафлями бересты, карамелью дров, и при этом так щёлкала пальцами и постукивала чугунной пяткой дверцы поддувала, подпевая себе низким грудным голосом, что поневоле перебудила хозяев. И только младенец в люльке, да кошка, примостившаяся у него в ногах, убаюканные диковатым уютным пением печи, спали столь глубоко и безмятежно, как никогда раньше. И снилось им…
Что рассвет наспех переписывает акварель неба, и ему отчего-то непременно надо поспеть к утру.
И как одна синица гонит прочь другую от обронённой в сугроб крошки. Пугает объятиями распростёртых в вполсилы крыл, отталкивает вздымающейся грудью, да так, что даже опрокидывает её навзничь. Но, лишь только дело оказалось сделано, не притронулась к угощению, а предложила его воробью, который подошёл поглядеть, из-за чего спор. А, чтобы можно было верно её понять, пододвинула крошку к нему ближе. Бери, мол, не жалко.
В том же глубоком, как сугробы, сне, – заметно утомлённый лес сомкнул кисти ветвей, положив их на круглые колени поляны. И, листая позабытую тетрадь осени, отыскивая наставленье, из чего и как печётся сдобный пирог, шуршат страницами листвы птицы. Они звали на помощь и белку, но та отказалась, манерно расслабив коготки, сославшись на хлопоты, хотя обещала, что в случае, если рецепт найдётся, поделится орехами, дабы пирог был и вправду похож на пирог.
– Но вообще, я б не старалась понапрасну, – заметила белка, – вы помните хотя одно Рождество, когда бы вас не попотчевали ничем!? К чему усердствовать?
Поникшая, седая от снега ветка, с укоризной покачала головой ей в ответ, но, отвыкшая говорить без побуждения ветра, так и не произнесла ничего вслух, а лишь громко подумала о том, что, даже рассчитывая на подношение, нужно быть готовым отдарить чем-то в ответ, пусть невеликим, но сердечным. Белка может остаться на виду, не отвлекаясь от дел, птица не упорхнёт поспешно, нарочно замешкавшись, одарит красноречивым взором олень… Да, мало ли! Благодарному достанет и того.
Печь, распалившись и разойдясь так, что уже вовсе перестала стесняться хозяев, по-прежнему пела, а лес за стеной скрипел неровными, белыми от снега зубами, предвкушая праздничное застолье. Даже те, которые были давно уж сточены жизнью, пеньки, – ощущали подле себя некую сладость, терпкий вздох чуда, о коем грезили от Рождества к Рождеству.
Украшая себя мишурой чертополоха и всполохами соцветий укропа с обсохшей пенкой снега на губах, листовые деревья подтрунивали игляных66, а те, набирая снега больше, чем могли удержать, кидались невесомыми хрупкими комьями, хохоча на всю округу. И никто не замечал, что Рождество давно уж тут, подле, и, по обыкновению, не удалось разглядеть никому, – откуда оно явилось и когда…







