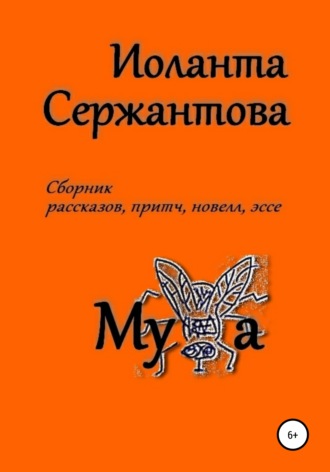
Иоланта Ариковна Сержантова
Муха
Свой
– Каррочка22, не урони малышку! – Улыбаюсь я, обращаясь к молодой цыганке, лишь только забравшись в вагон трамвая. Та дремлет, привалившись к окну, узел её головного платка свернуло на сторону, и теперь он, на манер подушки, дарует юной матери тот покой, которого, судя по всему, она была лишена уже не одну ночь. Кроха, что сидела у неё на руках, давно уж сползла почти до пола, цепляясь ручонками за складки цветастой юбки.
Цыганка не сразу слышит меня, а пробудившись, испуганно прижимает ребёнка к сердцу и, не отыскав в моём облике примеси родной крови, испытывает некое беспокойство:
– Откуда знаешь язык? Ты, вроде, не из наших. – Вопрошает она, ухватисто привлекая ребёнка к себе и, сдвинув кофточку с груди, принимается кормить.
Старушка, что сидит напротив, смачно плюёт на пол, и, толкая меня грузным задом, поднимается с места, нависая над молодухой:
– Фу! Срамота-то какая! На людях! Эх ты!
Я отстраняю женщину и замечаю:
– Что ж в этом нехорошего? Малышка проголодалась, а вот плеваться на пол – это, действительно, свинство!
– Что-о?! – Взвилась старуха. – По всему видать, ты ейный хахель, вот и вступаешься за чумазую!
– Вы, бабушка, будете так злиться, у вас удар случиться, или остановку свою проедете. – Вкрадчиво отвечаю я старушке, и пристально, гаденько так гляжу ей при этом в глаза.
Бабка пугается, и, прижав к толстому животу сумку, пятится к выходу.
Цыганка смеётся ей вслед, сверкая золотой коронкой.
– Нет, ты наш, вроде, или как?
Вместо ответа, я подсаживаюсь рядом, и интересуюсь:
– Сама-то, куда едешь?
– Дочку к врачу везу.
– Это хорошо. – Хвалю её я, а так как до детской поликлиники ещё далеко, решаю рассказать о том, что меня связывает с кочевым народом.
– Когда я был ещё ребёнком, родители, выводя на прогулку, каждый раз стращали: «Со двора ни ногой, а то цыгане украдут, выучат петь и будешь ходить с ними на цепи, как медведь!» Я много раз видел людей в весёлых пёстрых одеждах, которые ходят по рынку, разговаривают на непонятном языке, лузгают подсолнухи. Цыгане вызывали во мне неподдельный искренний интерес, и представлялись скорее отставшими от шапито цирковыми, чем разбойниками, которые крадут чужих младенцев. Но, напуганный родителями, я, сломя голову, бежал домой и закрывал входную дверь на все замки, едва завидев, что во двор заходит кто-то чужой.
В ту пору минуло мне пять лет, не больше, и не помню уж зачем, да почему, но на несколько дней я остался жить у бабушки, маминой мамы. Её дом был не слишком далеко от нашего, но, всё же, в другом районе города. В первый же день, накормив завтраком, бабушка подвела меня к окошку и показала на палисадник:
– Видишь, – песочница, лавочка, цветы, вот там можешь поиграть. К обеду я тебя позову.
Обычно меня выводили из подъезда за руку, нынче же я вышел совершенно один, и, гордый своею самостоятельностью, перешёл неширокую дорожку от порога до палисадника, где занялся своими ребячьими делами: строил дорогу с подземными туннелями, развозил по углам деревянного короба песочницы полные кузова песка… Я играл, совершенно не обращая внимания на то, что происходит вокруг. В бабушкином дворе песок был чище и крупнее, чем в нашем, в нём не попадались горелые спички и пробковые кругляши из-под крышек лимонада, да и кошками он тоже не пах. В какой-то момент я зачем-то поднял голову, и предательский холодок страха тонким ручейком побежал по спине. Из-за угла дома показалось несколько женщин цыганской наружности. Было очевидно, что они направляются в мою сторону. Бросив любимый грузовичок с жёлтым кузовом и красным рулём в голубой кабине на произвол судьбы, я, что было духу, помчался к подъезду. Но не добежал. Почти у самого порога меня настиг мотоциклист. По рассказам соседей, тот сшиб меня наземь, испугался, затормозил, и, задев порог дома, откатился назад, переехав мою ногу.
Бедная бабушка, которая в это время как раз собиралась позвать меня обедать, видела весь этот кошмар через окно, но первой подоспела не она, а одна из цыганок. Крупная, статная женщина легко подхватила меня на руки и понесла. Сил, чтобы вырваться, у меня не было, но хорошо помню, как подумалось тогда: «Ну, вот, так-таки и украли…»
Безвольно, как бельё на верёвочке, я повис на руках этой женщины, но к моему великому изумлению, цыганка направлялась не в дремучие леса, прятаться в одной из сотен кибиток, где нас никто никогда не найдёт, а в квартиру бабушки. Столкнувшись в дверях, они назвали друг друга по имени-отчеству. Цыганка помогла бабушке уложить меня на сундук в прихожей и что-то шепнула ей на ушко, они посмеялись обе и … я вдруг заснул. Проснулся лишь наутро, лёжа в своей кровати, раздетый, к тому же, нога, вымазанная зелёнкой в двух местах, почти не болела.
Наливая мне чаю, бабушка поинтересовалась:
– Ну, и чего ты их так испугался?
– А зачем они приходили? – Вместо ответа спросил я.
– Да, шила я раньше, какие-никакие лоскуты остались, вон, три сундука стоят, что их, солить? А то и пирожков ребятишкам их передам. Бери-ка вон, специально для тебя оставила.
– С рисом и яйцами?!
– С рисом, с рисом! – Усмехнулась бабушка. – Кушай.
…Цыганка слушала мой рассказ, и с улыбкой глядела на своё спящее, утомившееся наконец, дитя. Заметив через окошко нужную остановку, я встал и, перед тем как уйти, склонился, чтобы осторожно погладить ребёнка по волосам, а уже со ступенек трамвая, обернулся к цыганке:
– А так-то я – да, свой. Прабабка, по отцу, как оказалось, была цыганкой. Прадед, ямщик, как увидал её, – полюбил, увёз из табора, и всю жизнь опасался, что родные приедут за ней, чтобы вернуть назад. Тем запугали детей своих, да внуков, ну и правнуков зацепило.
Вагон трамвая увозил моих случайных знакомых, а я всё стоял с поднятой рукой, и от всего сердца желал им того, что мог:
– Будь счастлива, каррочка, будь здорова…
И на самом повороте увидел, как она машет мне в ответ.
День
Обшитое стеклярусом утро сияло робко и радостно, как юная невеста. Свеча месяца теплилась ещё, звёзды, обронённые в траву, хрустели под ногами, а она-таки шла, обратив взор навстречу новому. Волновавший озноб бодрил в одночасье, но поступь её была верна и мЕрна, как весенняя бесконечная капель, что умолкает, лишь когда ей на смену, заполняя собой всё эхо, обволакивает пространство птичья песнь.
Сорвав те стыдливые покровы, рассвет смеялся над ожиданиями, студил23 и мучил, учил мириться с тем, что имеется, не приукрашивая, не возвеличивая, не угождая излишне.
Скоро пресытившись игрой кристаллов, солнце прибрало до следующего раза всё, чем нарочно приукрашает себя первая пора дня.
– Негоже даровать сразу, что имеешь. Оставляй что-то и для себя, – Учило оно день. – Не для корысти, но лишь чтобы сохранить себя цельным24. А там уж обязательно отыщется нечто, чем сможешь поделиться впредь.
Стаявший иней обратился паром, и устремился к облаку. День казался чист и прост. Сменяя один вдох другим и шагом шаг, он был хорош самым случаем25, в котором оказался главным действующим лицом.
– День-день-динь, – звенят хрустальные колокольчики дня под дугой небосвода.
– Шибко едет.
– То ли спешит куда…
– Или весело ему.
– А чего веселиться-то, поди разбери.
Глупость
Венера неизменна. Её можно видеть и ночью, и по правую или по левую руку солнца днём, однако по утрам, перебирая хрустальными лучами лап, словно осторожный паучок, она прячется в паутине кроны ближайшего дерева.
Солнечный диск, поднявшись неловко, ранит пальчик, да так сильно, что брызжет повсюду, измарав белоснежные, развешанные к утру салфетки облаков.
Если склонить голову вправо, то покажется, что деревья растут вбок, а если посмотреть с другой стороны, прямо, то снизу вверх. Но, как не вертись, тянутся они к солнцу.
Пальчики тонких веток стучат кастаньетами, лоснятся матовым лаком бус, а лакомы, как карандаши жжёного сахару. Дразнят, манят, мнут последний плат жухлого листочка, да мнят об себе, извлекая из возвышенного положения не радения пользу, но гордыни грех. И с чего бы им вдруг? Вздохни на минуту ветер, и заледенеют так, что проберёт аж до самого сердца.
Засахаренный инеем, заготовленный на зиму виноград залежался под стеклянной витриной рассвета. Вот он – подходи и ешь, а кажется, что не нужен никому, пока стайка свиристелей не взмахнёт пёстрым рукавом. И нет уж после ни семян, не ягод. Тянут пухлые шеи, лениво обирая последнее, – не поспеть за ними синицам да белкам.
Холодно, треск неподалёку. То дятел обрывает прорезные деревянные пуговки с тесного сюртука дуба, одну за одной, одну за одной. Платье давно ему мало, не в пору, да не тот выбран час, чтобы переодеться к зиме. Тут бы дождать, что метель сердобольна накинет поверх тёплое нежное кружево… Да как же можно, коли уж зябко так!
Но у кого-то хватит духу, чтобы об эту самую пору взойти в лес, шагая весело и важно, да согнать оленя из тёплой заёрзанной ниши под кустом, а белку – с ветки в сугроб, и порадоваться о той встрече, но не погоревать после про глупость свою, греясь ввечеру у тёплой печи.
Воздух густеет, и Венера, перебирая хрустальными лучами лап, словно осторожный паучок, вновь выбирается из-под ближайшего дерева. Неужто и впрямь всё время была тут!..
Загадка
– Пора спать! – Говорит бабушка, после чего у меня окончательно портится настроение. И, хотя, ещё задолго до этих слов, я с неодобрением слежу за тем, как она достаёт из сундука перину, подушку, одеяло, и, в общем, понимаю, к чему всё идёт, каждый раз ещё остаётся крошечная надежда на то, что, за разговорами и чтением, обо мне позабудут, и уложат немного позже условленного срока.
– Бабуль, а, может, ещё не пора? – Хитрю я.
– Умеешь разбирать по часам? – Строго спрашивает дед.
Я морщу нос и молчу.
– А ну-ка, подойди сюда. – Подзывает он, и я, не смея ослушаться, приближаюсь. – Видишь, большая стрелка около двенадцати, а маленькая почти на девяти?
– Вижу. – Шепчу я.
– Когда они обе будут точно напротив этих чисел, часы пробьют девять вечера, а это будет означать, что настало время идти в постель.
Дед сидит в своём кресле. В него не разрешается запрыгнуть даже кошке, а что уж говорить про меня, неслуха и непоседу. У деда в шифоньере висит тяжёлый от приколотых, да прикрученных орденов и медалей пиджак, а в неглубокой нише прихожей, за занавеской – длинная, до полу, брезентовая плащ-палатка. В ней дед пришёл домой с войны, и в ней же в любой дождь уходит гулять. Заметив, как при виде плащ-палатки сияют мои глаза, бабушка сшила мне похожую, без рукавов, с прорезями для рук и капюшоном, но та, что у деда, всё равно лучше.
Бабушка желает мне спокойной ночи, а суровый неразговорчивый дед роняет коротко: «Если быстро заснёшь, то завтра пойдём в Кагановича26».
И тут уж – жмуришься изо всех сил! Но сон, как на зло, всё нейдёт никак. Глаза распахиваются сами собой, и ты разглядываешь узоры на потолке, нарисованные по лекалу ажурных гардин, и они кажутся то оленями, то цветами, то бегущими по цветам оленями. Изредка рисунок портит отсвет фар на потолке. Он словно ищет там что-то, но не отыскав, недовольно урчит мотором за окном, пусто хлопает железною дверью, и теряется в темноте.
Я засыпаю совершенно нечаянно. Не желая того ни капли, веки незаметно делаются такими же липкими, как яблочное повидло в бабушкиных пирожках, и их уже ни за что не открыть. И почему никогда не угадаешь, в котором из них какая начинка?
– Ну, зачем ты копаешься, бери тот, что на тебя смотрит!
– А как тут разберёшь, если все они на одно лицо?!
Хочется с капустой, но там мясо, а коли задумаешь съесть три одинаковых, то попадаются или с повидлом, или с картошкой, или с рисом и яйцами. Загадка…
Мне снится морозное кружево лесной дорожки. В такт перестукам вагонов взявшегося ниоткуда «мягкого27», бегут косули. Испугавшись чего-то, они кричат так жалобно, обиженно, по-пёсьи. Обмеливши о снег подштанники, свернул с тропинки олень, дабы перевести дух и вернуть себе достойный вид.
Тут же, суетливые свиристели по очереди выбирают виноградины из хрустальной, морозом деланной вазы. Отыскав одну, расположившись чинно неподалёку, разрешают себе отведать ягодку. Да не глотают всю разом, как простолюдины, но, даже самую малую толику, вкушают деликатно, в два-три приёма, и после оботрутся салфеточкой, промокнув уголки губ.
Сокрушаясь о прерванной трапезе, из самой середины лианы28, жалко голося, взлетают большие дятлы. Облачившись к завтраку в атласные зелёные халаты, завидев посторонних, они бегут. В их планы не входило делить с кем-либо тихое, мирное утро.
Сквозь сон пахнет пирогами, и я слышу сиплый смех деда:
– Вот соня. Вечером не уложишь, утром не разбудишь!
Бабушка просит его быть потише, чтобы «не разбудить ребёнка», но ребёнок уже проснулся и кричит, что есть мочи:
– А в парк!? Я же спал!!!
– Ну, коли спал, куда деваться, – Прячет улыбку дед. – Раз обещал, значит сходим.
Мимо колонн, скульптур и фонарей в виде огромных ландышей, мы солидно прогуливаемся по бесконечным аллеям, каждый думая о своём. Проходя мимо каменной урны с тремя касками, что лежат подле, неизменно долго стоим, не проронив ни слова. Я кладу к арке братской могилы одуванчики, и мы идём дальше. В сущности, дед редко снисходит до разговоров со мной, но гораздо важнее то, про что он при мне молчит.
К нашему возвращению бабушка накрывает на стол, и мы обедаем. Против обыкновения, я не копаюсь, а беру из горки с пирожками те, что ближе. Честно, я совсем не стараюсь, но отчего-то мне попадаются с одним только мясом. И как это у неё так выходит? Загадка…
Своим умом
У всех на виду, в самом центре овального стола пня, на белой скатерти инея, веткой коралла сияло недостроенное гнездо ос. Сделанное будто из серого картона, очищенное ото льда, оно напоминало початый обломок подсолнуха, из-за чего выглядело несчастным и брошенным. Каждый, кто находил его, стыдливо отводил взгляд. Как знать, отчего оно пусто, и по добру ли по здорову покинуто?
Некая синицы присела рядом из любопытства, и по той же причине заглянула в него одним глазом. Заметив несколько запечатанных сот, захлопала крыльями по бокам, и, сокрушаясь, полетела разносить по лесу грустную весть о кинутых на произвол судьбы детях. Впрочем, так ли это на самом деле, иль соты наполнены позаимствованным у пчёл мёдом, либо другим каким провиантом, было доподлинно неизвестно.
Многие, приняв на веру искренность беспокойства синицы, взялись осуждать ос за нерадение и невнимательность, усердствуя при этом сверх меры. Но разбираться в причинах произошедшего, истратив на то время своей жизни, не приходило на ум никому.
– А зачем? Коли оно всё ясно и так! – Успокаивали свою совесть многие перед иными.
Одна лишь белка не желала жить чужим умом, и повстречав синицу на перекрестье веток, расспросила хорошенько дорогу к гнезду, да направилась туда.
Из осторожности, мысь29 не сразу взяла соты в руки. Сперва обсмотрела их хорошенько, обнюхала, постучала коготком осторожно… И лишь после, неясно усмехнувшись, подхватила, чтобы забрать с собою в дупло.
Мало кто знает, что белка не только модница, но и неженка. Даже в сильные морозы в её доме тепло. Пристроив корзинку сот на виду, белка, всё так же улыбаясь, улеглась отдыхать. Через несколько недель, её участие и добросердечие были вознаграждены. Три прелестницы, бабочки-крапивницы выбрались на свет из сот. Знамо дело, не ко времени, но, оставленные на морозе, они неминуемо погибли бы, а так – скрашивали зимние вечера и серый вид за окном.
Ненужный уже никому ломтик осиного гнезда лежал на тропинке. Мороз, как бы ни был стар, всё же разглядел его при свете луны, повертел в руках, да убрал с дороги в сторонку, на пенёк.
– Авось сгодится ещё кому! – Рассудил он.
Ненужный сор
Неюная барышня в модной оранжевой накидке из набивного ситца, флиртуя с миром за окном весёлыми глазками из-под чёрной чёлки, пыталась отогнуть жалюзи, но была так слаба, что лишь запуталась. Её маленькие ступни скользили, и она, хотя даже уже ушибла два пальчика, всё ещё очень хотела полюбоваться хрустальными рожками инея. Они напоминали ей того сказочного оленя, о котором слышала, когда была совсем крошкой. Вряд ли от мамы, скорее, ветер нашептал.
С неба послышался дробный короткий выдох ворона. Перелетая от сосны к сосне, перегонами, он торопился, – по всему видать, что домой. Обратно он обыкновенно не рвётся, ибо любит и любим. Бывает и так.
Ястреб – игрок, одержим, но удачлив, от того ли, что вдумчиво рассчитывает каждый взмах, или из-за другого чего – нам не понять. Его вдох растянут сам по себе, как над землёй, и они подолгу парят, меняя друг друга. А уж озябнет когда, спешит в гнездо, под тёплый бок нарочито сварливой супруги.
– Где тебя носило? – Допытывается она.
– Да я ж, так ты ж… – Растерянно оправдывается ястреб, ибо однолюб, и вся жизнь у неё на глазах, – и падения, и взлёты, и там, в вышине, где кажется, что он совсем один.
Стеклянные от мороза сизые шарики винограда лопаются под ногой. Сопротивляются недолго, так что трещат их мелкие хрупки кости, а потом распадаются вдребезги, как холодные, утомлённые, пустые сердца.
Вода в старом зарастающем колодце затаскана, заношена, но в мутном облаке серой её взвеси блестит нечто, – нежно и беззащитно. То стройный стан белого стебелька и зачёсанный надвое, на пробор, листочек. Его можно было бы скинуть в снег, как ненужный сор… Да жаль жизни, ох как жаль!
– Это кто?
– Пока неясно. Вырастет, поглядим!
Божья коровка, после недолгой передышки, вновь принимается за своё. Сопереживая, сострадая тщетности упорства, я подхожу, чтобы пересадить жучка на окно. Пусть любуется. Ему много надо успеть, и всего-то за один год30…
Жизни волшебство
Свиристели хлопочут над южной вышивкой, рядами белых и жёлтых нитей, длинными строчками чёрного мулине31. То расправят, накинут на плечи, дабы посмотреть, как оно выходит, то сложат гармошкой веера.
Взбираясь на куст калины, грузные дятлы неожидаемо несолидно верещат фистулой32, и бегут, словно их гонит кто, пощипывая за пятки.
Презрев земные объятия, синица стоит на боку, вровень с горизонтом. Тук33, вынесенный на мороз – тому причиной, голод – способ, доставляющий сил держать себя в руках, манкируя удобством. Войдя в раж, в охотку, синица понемногу теряет птичий облик. Она вгрызается в белый, неповинный ни в чём кус, терзает и треплет его по-волчьи, из стороны в сторону, вырывая крупные комки.
Воробьи, привыкшие к иному нраву соседки, смелО под сень ветвей сосны. Вооружившись её иглами, но не отыскав в себе духу подойти ближе, они невнятно судачат, не решаясь никак: верить или не верить своим глазам.
Прозрачная, без пыли насекомых, влага воздуха, свалявшись в облако тумана, льётся по холодным стенам стволов, делая их рыхлыми, слезливыми, беззащитными. Скоро становится мокрой и неустойчивой жёлто-коричневая дорожка листвы. Она гонит от себя, не желая портить незавершённой отстранённости, неопределённого, лишённого какого-либо значения, устремления вдаль. Надуманной сложности своей, и столь очевидной простоты, которая заключена в том, что за повседневностью забывается само волшебство жизни. Выдувая мыльные пузыри своего эго34, мы путаем существующее на самом деле с вымыслом, тогда, когда и надо только, что отступить в сторону, чуть, радоваться и смотреть.
– Чего ждёшь ты, от окружающих тебя?
– Да, пожалуй, что малого.
– И насколько это оно малО?
– Пусть, завидев меня, никто не бежит прочь, но скажут: «Не тревожьтесь, это всего лишь он…»
Кабы не зима…
Соседский кашель играет сном, как мячом:
– Бу-бух! – и парение дремоты бьётся о стену бесконечной инфлюэнцы, что берёт своё начало у берегов осенних луж, а заканчивается прямо по середине весеннего половодья.
Метель настилала простыни, одну за одной. Она торопилась, чтобы успеть разложить все не от того, что была небрежна, но потому, как ночь обещала накрахмалить их настом.
Зима целомудренна, и вблизи себя содержит всё в чистоте, употребляя35 для того все возможности, лишь бы полюбоваться собой подольше! Сдувая снежную пыль с оцарапанных зеркал озёр и рек, вертится подле, не ведая про то, что золотые рыбки в пруду похожи на любимые июлем маковые цветы… Не узнать зиме и о том, как прекрасны они в своих сияющих, подбитых красным атласом парео36… Не рассмотреть сквозь толстое ледяное стекло, как грациозно обмахиваются рыбки податливыми веерами хвостов… Свысока оглядывают окружение, лениво и неделикатно позёвывают в пространство… Да и кто им скажет поперёк? Не личинки ли комаров, косоглазо пугающиеся самим себе, не оса ль, замочившая крылья?
Зима не столь сурова, как о ней говорят. Несчастье быть собой, она прячет за дотошностью, и до середины апреля сквозит, перебегая от одного последнего сугроба к другому. И только убедившись в том, что все прошлогодние листы надежно прошиты острыми иглами листьев пролеска37, как зевает, наконец, и, утомленная долгой работой, убаюканная мерным покачиванием многочисленных птичьих колыбелей, закрывает дверь в свою прохладную опочивальню.
И тут уж солнце принимается поправлять шапку на мокром пне, – чувственно, нежно, а мышь спешит к соседке через грядку, оставляя неглубокие напёрстки следов в вязкой ещё грязи. Ноет сбитое колено кочки на дороге, но ласкова ближняя звёздочка, отыщется у неё час, дабы утешить и её.
Весна – это нечто, сотворённое в срок, достаточный для испарения росы с нитки травинки первым лучом рассвета, а зима – дело долгое и неблагодарное. Радость встречи с нею, обидно скоро сменяется ожиданием исхода38.
…Берёзовая кора в печи ломает пальцы, стеная о своей судьбе, и едва успевает рассудить про «чтобы было с нею, кабы не зима» …







