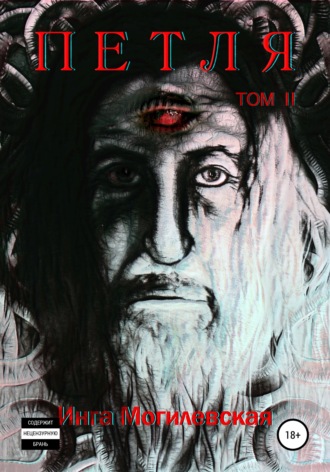
Инга Александровна Могилевская
Петля. Том 2
Часть 2
I
– Ты поедешь с нами.
Так сказал мне Рамин, и я все еще пытаюсь вспомнить, была ли это просьба, или вопрос? Или приказ? Кажется, я совсем разучилась видеть оттенки интонации, нюансы тона, раз не могу отличить мольбу от повеления, особенно, когда разговариваю с ним. Как бы там ни было, я согласилась (или повиновалась?). И теперь совсем не понимаю, зачем я здесь. Я лишняя в этом театре одного актера и одного режиссера, я не участвую в их спектакле. Или я понадобилась им в качестве зрителя? Остается только гадать, наблюдать, слушать.
– Я подстроил так, чтобы они все оказались сегодня здесь, – шепчет Рамин, опустив голову, – Так тебе будет проще…
– Столик у стены, – шепчет Рамин, кротко кивнув в указанную сторону, – за ним трое. Все работают на шахте. Тот, что в красной рубашке – Эльвадо Ратос – в этой группе он лидер. Равняйся на него. Дважды пытался организовать забастовку, за что его едва не уволили. Двое других Кастиньо Аросо и Андреас Монто – его приятели. Пойдут за ним куда угодно.
– Двое за столиком у окна. Педро Савиль и Пауло Дарэмо, – шепчет Рамин, рассматривая лопающиеся пивные пузырьки в своем стакане,– Пионы с плантаций. Из тех, кто на своей шкуре испытали и кнут гринго, и кнут местных шишек. Пришли к выводу, что разницы нет.
–Трое за стойкой бара, – шепчет Рамин, сдувая пену с поверхности, – из них особо обрати внимание на того, что слева – Хуамбо Ратего. Раньше у него было другое имя. Десять лет назад устроил взрыв на одной из веток осьминога. Из тюрьмы сбежал. Сейчас работает на заводе. От своих идей не отказался.
– По центру – Лучио Альмар, – шепчет Рамин, поднося стакан к губам и делая небольшой глоток, – Бывший председатель подпольной ячейки компартии.
– Бывший? – подозрительно переспрашивает Алессандро.
– Разочаровался в их бездействии. Ушел.
– Ясно.
– Индеец справа, – шепчет Рамин, опускает стакан и едва заметно улыбается уголком рта, – Чиченьо Кхотуко.
Алессандро удивленно расширяет глаза, быстро оборачивается раз…потом еще раз…
– Помню, – тихо говорит он, – Прыткий малый. Но он тогда не пошел с нами, почему ты думаешь что сейчас…
– Тогда у него были больные родители. Он не мог уйти. Сейчас он один, – уставившись на Сани, -Все? Готов?
– Нет. Ты пропустил. Человек в углу. Сидит один за столиком. Много пьет.
– Доминьо Радригес, – шепчет Рамин и отворачивается, – Потерял сына. Мальчику срочно требовалась дорогостоящая операция. Денег он накопить не сумел. Решил украсть. Его арестовали. Отсидел два года. Вышел несколько дней назад. Я видел его на кладбище.
– Выведи его. Он нам не подходит.
– Почему?
– Слишком много пьет.
– Отговорка.
– Слишком подавлен.
– Как и все здесь. Иди. Начинай. Если он подсядет, значит, наш. Если нет – проблем от него не будет.
Помедлив немного, Сани покорно кивает. Встает.
Оставшись с Рамином, я молча наблюдаю, как он подсаживается за столик к тем трем мужчинам. Их изнеможенные серые лица – лица рабочих, высушенные после 13-ти часовой смены, лица, покрытые слоем въевшейся в поры угольной пыли, лица – маски, застывшие в мертвом равнодушии, лица людей, которым нечего терять, ибо он уже всего лишились, лица людей подходящих… Ленивый взгляд их слезящихся глаз, замутненный усталостью и алкоголем, медленно подымается на незваного гостя, выражая невнятное удивление и приглушенное беспокойство, скрытые за завесой раздражения. Кажется, они воспринимают Алессандро, как нечто непонятное и неуместное, как нечто мозолящее глаза вопиющей своей нелепостью.
Потом Алессандро заговаривает с ними. Через минуту я замечаю как равнодушие и раздражение отступают, через две минуты – это уже неподдельная заинтересованность, через пять минут в их внезапно протрезвевшем взгляде заметны проблески энтузиазма. Они заражены. Через десять минут, их уже не трое, а шестеро – подсели те, что были у барной стойки. Через 20 минут к ним подсаживаются еще двое. Сдержанно пожимает руку индейцу Чиченьо. Продолжает свою речь. Наконец, вяло-пошатывающийся походкой к ним подходит последний, тот что сидел в самом углу и, как мне показалось, ни на что не обращал внимания. Все-таки подсел. Теперь все присутствующие в этом захолустном грязном кабаке сидят вокруг Алессандро и слушают. Все, кроме меня и Рамина – мы наблюдаем со стороны. По немому повелению индейца, выразившемуся лишь в кротком небрежном жесте, хозяин кабака вывешивает на дверь табличку «ЗАКРЫТО».
Столпившийся вокруг народ заставляет Алессандро повысить голос, и теперь я могу четко различить его слова. Тем не менее, я почти не слушаю. Слишком много слов, сплетенных в замысловатую ловушку. Из них всех лишь одно часто повторяется, звучит ярко и ясно… Звучит яростно. Раньше он не пользовался этим словом. Но, то было раньше. Это слово-приманка, слово-наживка, слово-крючок – специально для людей, которым нечего терять – слово «отомстить». Каждый раз, когда Алессандро его произносит, я вижу, как некогда догорающие и стынущие угли их черных зрачков вновь вспыхивают пламенным красноватым отблеском. Каждый раз я вздрагиваю и ужасаюсь…
Удивительно… Даже после всего того, что с ним случилось, через что он прошел, что пережил или не сумел пережить, Алессандро все-таки не утратил своего дара. Он все еще владеет словами, как опытный воин владеет клинком, даже более того: он научился использовать их по-новому, овладел новой тактикой…
Вначале было слово, не так ли? Тогда, какой же властью обладает тот, кто овладел словом? Словом, как лекарством, лечащем душу, словом, как оружием, поражающим прямо в сердце, словом, как самой изощренной формой мимикрии – скрываясь за словом, создавая с его помощью ложный образ своего «я», притворяясь. Или словом, как ловушкой? Клеткой? Невидимым лассо? Строгачом, впивающимся шипами в шеи этихлюдей? Что это за слова, которые произносит сейчас Алессандро? Я не узнаю ни его голос, ни его самого. Слова причиняют боль. Он сам как одержимый – сам во власти.
– Ты с чем-то не согласна? – тихо спрашивает Рамин.
Пожимаю плечами.
– С чего ты так решил?
– Ты перестала вслушиваться в то, что он говорит.
– Зачем мне слушать. Я знаю, что будет дальше – эти люди на крючке. Готовься собирать улов.
Он только прищуривает глаза, отчего те становятся еще более колючими, пронизывающими, как две заточенные пики.
– Здесь душно, – еле слышно проговариваю я, – Выйду, подожду вас на улице, – я проскальзываю к выходу, пытаясь игнорировать уколы этих острых пик в спину. Знаю, он последует за мной, но, может, мне удастся побыть одной хотя бы минуту, хотя бы десять секунд, не видя, не слыша, не думая.
Рамин выходит и становится рядом как огромная черная тень. Предупреждая его вопрос, я нападаю первой:
– Зачем я здесь? Почему ты захотел, чтобы я наблюдала за этим?
Тяжело вздыхает. Слова – маски ему не известны. Врать он не будет. Не будет прятаться и притворяться. Но ему известны слова- иглы, слова, которыми можно распять такую мелкую мошку, как я.
– Ты здесь не без причины. И зря ты не стала слушать Сани – он говорит дело.
– Твое дело.
– Хотелось бы, чтобы оно было нашим. Я не сомневался, что эти люди поверят ему, что ему удастся убедить их. Я продолжаю сомневаться в твоих убеждениях.
– Так что? Выходит, его речь предназначалась мне?
– В том числе и тебе. Ты должна бы понимать и принимать то, чем он и мы все занимаемся. А ты даже слушать не хочешь. Странно.
Рамин не знает о моем прошлом. Алессандро не говорит ему, чтобы не вызывать никчемные подозрения. Почему об этом умалчивает приспешник Рамина – этот мерзкий янки, мне остается только гадать. Не если индеец не верит в мои убеждения, то, наверное, думает, я с ними по той же злосчастной причине мести. Поэтому не понимает мою реакцию. Поэтому вышел выведать.
– Способ не верный. За долгое время у меня выработался иммунитет к его речам. И не надо считать, что я не понимаю. Просто, мне не нужно слушать все это, чтобы понимать, чтобы быть с ним.
– Почему же тогда ты злишься?
– Если я и злюсь, то только на тебя. Ты используешь его – его дар, чтобы заманить этих людей. Я знаю, что для готовящегося нападения нужно больше народа. Но вот так лицемерно переманивать их в наши ряды… Заставлять их жертвовать своими жизнями…
– Если бы ты слушала то, ты бы поняла, что на сей раз – это не лицемерие. Он не врет им, он не умалчивает о том, насколько велик риск. И они готовы пойти на этот риск, потому что ничего лучшего у них нет, и не будет. Это не случайные люди, как ты уже поняла. Я долгое время наблюдал за ними, следил, знаю их способности, их жизни, их стремления. Они уже были потенциально готовы к такого рода действиям и до сегодняшней ночи. Все, что оставалось, это лишь слегка подтолкнуть их – оказать поддержку, содействие и снабдить всем необходимым. Дать им уверенность в победе. Это и пытается сейчас сделать Сани. Он им не врет. И они ему верят. А ты?
– Да не важно, черт побери, врет он или нет! Не важно, верят они ему или нет! Это не его голос, не его слова – а твои! Почему он должен делать это?! Если тебе нужны люди – валяй! Не можешь сам, попроси своего приятеля янки – у него язык хорошо подвешен, он смог бы запудрить мозги таким, как эти!
– Поверь мне, если бы мне нужна была свора эгоистичных головорезов, которым важна лишь собственная шкура и нажива, я обратился бы именно к Спарту. Но мне нужны люди, которых волнует то, что будет после них, а не то, что станет с ними. Мне нужны люди, разделяющие наши взгляды, верящие в нашу борьбу. Я попросил об этом брата, поскольку…
– Удивительно, не находишь? – перебиваю я, – Просто удивительно, как одни люди перекраивают других по образу своему и подобию! И насколько легче проделывать это с людьми сломленными, да? Ты ведь делаешь то же самое.
– Что ты имеешь в виду?
– Я о твоем брате. Когда ты прекратишь мучить его, Рамин? Разве сам не понимаешь, что для него значит уговаривать этих несчастных примкнуть к нам – принести себя в жертву? После всего, что случилось…
И без того жесткие черты лица индейца на миг перекашивает гримаса злости.
– Если я его и мучаю, то только тем, что наконец-то заставил его признать правду и говорить правду! А то, что он уговаривает этих людей принести себя в жертву… Да, он уже принес в жертву сотни невинных людей. Все из-за своей глупости. Из-за своего упрямства! Сотни наивных людей, не подозревавших о своей скорой гибели. Сотни людей – тогда на площади – людей, которым было что терять. У которых остались жены, дети, родители! Он знал, что использует их, как прикрытие, и пошел на это без колебаний. Не смей жалеть его. Не строй из него несчастного и невинного страдальца! И не нужно сравнивать этих девятерых и те сотни! Это люди, которые точно знают, на что идут, и чем рискуют, а не просто верят в сказки. Люди, которые готовы бороться и отдать свои жизни за будущее страны. Так же, как и мы.
– Тогда он верил, что тем сотням ничто не угрожает. Сказка? Может быть. Но он-то сам этого не знал. Если бы он хоть раз усомнился в их безопасности, он бы не стал проводить этот чертов митинг.
– Это ты так думаешь. Скажи, если он верил, что не будет бойни, зачем же тогда отослал тебя подальше? Думаешь, это случилось из-за той заварушки с Анхелем? Ты и половины не знаешь. Это был просто удачный повод. Он знал, что по-другому ты не согласишься- пойдешь с ним на площадь. А когда Анхель подорвал тех типов, Стейсонов, думаешь, откуда у полиции появилась такая подробная информация о тебе? Только так он мог заставить тебя уехать. Так он хотел обезопасить тебя. А безопасность людей его не сильно волновала.
– Не правда!
Рамин смотрит на меня как на ребенка с высоты своего огромного роста, и уже спокойным тихим голосом проговаривает:
– Правда. По этой же причине он никак не хотел отправлять тебе телеграмму, звать обратно. Сам бы он никогда больше не позволил тебе быть с ним. Он твердо решил порвать с тобой – раз и навсегда. Пришлось вмешаться мне. Это я заставил его передать телеграмму.
Вот оно – самое острое, самое мучительное слово-игла.
–…Что…? Не понимаю… Если он не хотел… вообще не хотел меня больше видеть… - Почему?! За что?! – заорало сердце -… Зачем же я тогда понадобилась тебе? – сдавленно произнесла я вслух.
Он задумывается, прежде чем выпустить на волю это последнее признание – пронзить насквозь решительным словом-убийцей:
– Ты дорога ему. Он боится за твою жизнь. А я хочу, чтобы он любил не только этот совокупный образ народа, ради которого он жертвует собой и другими – эта любовь все равно абстрактная и пустая. Нет, пусть любит еще и тех, кем жертвует. Пусть смотрит в глаза тем, кем жертвует. Пусть смотрит на тебя. Ну а еще ты мне нужна в качестве гарантии, что он не выкинет очередную глупость и не отступит. Вот и все. Ничего личного.
Меня поражает даже не то, что он сказал, а то, с какой абсолютной беспринципной безжалостностью это было высказано. Поражает настолько, что сама я лишаюсь дара речи и несколько секунд просто стою в тупом оцепенении, пока Рамин не опускает свою огромную тяжелую ладонь мне на плечо.
– Пошли внутрь. Он, наверное, уже заканчивает, – говорит так, будто ничего серьезного не случилось, будто он минуту назад не сказал ничего особенного и страшного, будто он только что не разбил вдребезги несущие колонны моего мироздания.
Покорно, будто не ненавидя его, я возвращаюсь в плотный полумрак заведения.
В пропитанной спиртными испарениями и вонючим дымом самокруток атмосфере, сквозь весь этот густой ядовитый смог и облака зависшей в воздухе пыли я пытаюсь разглядеть Алессандро. Различаю только силуэт, призраком бледнеющий среди черных фигур батраков. Его голос теперь почти не слышен, задушен гулом их разговоров. Да и вообще все в нем напоминает размытый, растекшийся акварельный портрет, который, утеряв свои черты, превратился в блеклое мутное пятно. Я надеюсь, что бутылка здешнего пойла поможет моей памяти восстановить стертые линии.
Оставив Рамина одиноко стоять у двери, я быстро подхожу к барной стойке и заказываю выпить. Спустя стакан, я вспоминаю. На втором стакане – осознаю, что мне плевать на всю правду – для меня важна лишь та ее часть, где я люблю Алессандро, а он меня. На дне бутылки я нахожу капли прощения, понимания и скорби…Заказываю еще.
Затянувшееся действие протекающего перед глазами спектакля постепенно подходит к концу. Белый призрак Алессандро отделяется от кучки своих новообретенных подопечных, и его сразу же заменяет черная фигура Рамина. Видно процесс первичной обработки мозгов закончен, теория изложена и настала пора перейти к практической части. Теперь речь пойдет о том, что, где и когда произойдет, а с этим индеец и сам справится.
Алессандро подходит ко мне и…Да, теперь я отчетливо вижу его лицо. И это невыносимо. Он выглядит так, будто только что вышел из камеры пыток после нескольких дней непрекращающихся изощренных истязаний. Теперь, когда мне совершенно безразлично все то, что наговорил о нем его брат, единственным моим щемящим желанием становиться обнять Сани за эти остро выпирающие из-под рубашки кости ключицы, прижать его бледное изможденное лицо к своей груди, сказать ему что-то…Я не знаю что! Что я говорила ему раньше? Что я могу сказать сейчас? Все, что я хочу сказать или сделать будет лишь продолжением его пыток. Я сама по себе – продолжение его пытки. Я здесь именно для этого.
«И не смей жалеть его»– говорил Рамин.
Я и не посмею – не буду унижать его своей никчемной жалостью. Буду справедлива. Буду той, кто спасет его, как он пытался спасти и уберечь меня раньше…
– Все хорошо! – проговариваю я, корча губы в судорогах ободряющей улыбки,– Ты молодец! Теперь в нашем полку прибыло. Они с нами – они готовы. Теперь у нас есть шансы на победу.
Наверное, я все-таки говорю что-то не то…Я просто хочу подбодрить, но вместо этого замечаю в его глазах лишь недоверие и испуг. Он знает – я притворяюсь, но не понимает, зачем…
– На выпей, – пододвигаю ему не начатую бутылку, – Кажется, ты очень устал.
II
Наверное, уже полдень… или около того. Солнце падает прямо на лицо, вытапливая из пор липкий пот прямо на закрытые веки, создавая иллюзию нахождения в чем-то рдеюще- смердящем, душном и слизком… В колодце полном крови. В кишках исполинского монстра. В гортани самой преисподней. Его заглатывает и переваривает, так медленно и так мучительно. Но он не будет открывать глаза, не будет вставать, не будет выходить на свежий воздух. Не будет наслаждаться благами мира, которого больше нет. Для него нет. Не заслужил. Не имеет право. Все кончено.
Хотя, кого он обманывает, и о каком еще наслаждении речь? Скоро ноющая боль в груди станет нарастать, станет невыносимой, нестерпимой, и он вынужден будет встать, как вынужден был встать вчера, как вынужден был встать позавчера, и вынужден будет выпить свое лекарство, потому что больно, потому что не сумеет стерпеть, потому что, не смотря ни на что его тело алчно до жизни. Даже до той мерзопакостной, ничтожной, позорной, жизни, которая больше не нужна душе. И опять будет нескончаемый никчемный день – полая временная оболочка от рассвета до заката, которую неизбежно поспешат заполонить все эти мысли и образы… Образы-инквизиторы, мысли-каннибалы. И после энных часов усердного самобичевания и самопоедания, он начнет молиться о скорейшем забвении, трусливо и вероломно, как и полагает всем пресмыкающимся мразям, подумает, что искомое легко найти в бутылке… Конечно, какое-то время покорчит эдакое благородство, вроде «я же не такой», «нужно держаться», «нужно собраться», «нужно иметь силу воли», «нужно отыскать в себе человека». Человека? – звучит глупо. Силу воли? – звучит смешно. Посмеется и напьется и забудется. До следующего дня. Как было вчера. Как было позавчера. А сегодня… К черту! Хватит! Прямо сейчас, сразу, без всего этого святомученического кривляния перед самим собой – напьется и забудется. Глядишь, его хлипкое сердце все-таки не выдержит, и он умрет – подло легко и спокойно. Незаметно перейдет из забвения в небытие. Из забвения в небытие…
Так, наверное, случилось с этой бедной крохой. Малыш просто потерял сознание, заснул глубоко и беспробудно, незаметно погрузившись в бездну, которая навсегда спрятала его от боли и страданий. Если бы он верил в загробное существование, умирать было бы страшно. Он бы боялся встретить его там, куда сильнее, чем даже угодить в заслуженную гиену огненную. Но там пустота. Блаженная пустота абсолютно для всех: виновных и невиновных, мучавших и страдавших, покаявшихся и не успевших. Не то, что здесь… Этот малыш – он, хоть и мертв, но постоянно здесь – в его чертовых мыслях, в жутких затопляющих сознание образах. Такой маленький, такой… одни ребрышки, да косточки, одни синичища да раны… и… Боже! Что мерзавец с ним делал! Как… как мог…? Не так все должно было быть! Не так! Не хотел он этого! Если бы только знал…с самого начала… он бы ни слова не сказал Хоку про МакЛейна… Он бы…Черт с ним – с МакЛейном, но ребенка то за что?! Ребенка-то как можно было…?!
Он давится и захлебывается слезами, и все-таки открывает глаза, чтобы дать им выход. Слезы разбивают солнечный свет в ослепительные тошнотворно-живописные радуги. Он переворачивается на бок, протирает лицо ладонью и, помедлив несколько секунд, с трудом поднимается. Потом – к столу, полоумно, суматошно хватается за горлышко бутылки, но, только прилипнув к нему жаждущими иссохшими губами, с досадой обнаруживает его беспощадную опустошенность. Да, вчера ведь все дохлебал, перед тем как свалиться. Даже не запомнил. Яростно отшвыривает бутылку в сторону – жалкий, обманутый, рыдающий – безнадежный, безутешный.
Сходить к соседу Дону Пачи, попросить еще? Идти никуда не хочется, просить ни у кого не хочется. Видеть никого не хочется. А перед глазами опять словно кружит это фарфоровое неживое личико с черной полосой вместо глаз. Как не видеть ЕГО?! Как забыть?! И, подходя на внезапно обмякших ногах к шкафу, достает банку с тем, что точно его избавит. Избавит раз и навсегда. Бурунданга – порошок похожий на прах: проглотишь ложку – будет забытье, проглотишь две – будет покой. Три… Пять, чтобы наверняка. Опускается прямо на пол – стоять больше нет сил, рассматривает содержимое банки, покручивая в руках и создавая на ее дне кружащиеся бурханы забвенья и покоя, забвенья и покоя…Может, спросить у Хока, где он его похоронил? Сходить… постоять у его могилы. Говорят, это помогает. Он в это не верит, но… Упасть на колени и просить прощения у него – у этого крохи, которого сожрали люди, а теперь догладывают черви. Покаяться перед ним, а уж потом… покончить со всем. Да, именно так он и сделает. Но для этого нужно собраться, одеться, заставить себя съесть или выпить что-нибудь сытное, чтоб хоть немного силы вернулись, и ехать к Хакобо. Ставит банку обратно, и вместо нее берет настойку от сердца и емкость с какао.
«А еще надо лошадь покормить. Совсем про нее, старушку, забыл» – думает он, сглатывая накапанную на язык горечь, и высыпая какао в котелок с водой. Разжигает под котелком огонь – и опять в сознании мелькает: разгромленное поместье, поломанная мебель, побитые стекла. Пожар. Рауль вытаскивает за одну ножку из объятой огнем комнаты ЕГО – еще живого, еще бессильно подергивающегося и жалобно молящего о пощаде – «Иди, скажи Хоку, что этого я себе заберу»… А Хакобо: – «Ну что ты заладил?! Отвали! Ты ведь взял, что хотел, Тито? А это – трофей Рауля. Так что, пусть берет, коль ему приглянулся»… И он «отвалил». И конец.
Не переиграть, не вернуться, не исправить. Он бездумно миновал заветную точку бифуркации своей судьбы – тот самый момент, когда его выбор ещё мог что-то изменить, и единственное, что ему остаётся теперь – это катиться под откос по пути неизбежного прямиком в бездну. Все.
Все… все. Надо успокоиться. Поколебавшись, добавляет в какао щепотку того, что хоть немного поможет привести в порядок нервы, и щедрую ложку меда, чтоб смягчить вкус. Все. Чуть подождать, выпить и прямиком к Хакобо. Пусть показывает, где его могила. Может, этот и сам ее уже не раз слезами полил… «трофей Рауля»…Боже! Боже, Хок! Что мы с тобой натворили?!
Громкий настойчивый стук в дверь заставляет его вздрогнуть и машинально вскочить на ноги. Наверное, кто-то из деревни с очередными жалобами на очередную хворь. Да, пошли они! Нашли время! Видеть никого не хочется. И слушать их нытье тоже. Думает переждать. Притвориться, что его нет дома. Подолбятся, да свалят восвояси. Однако в этот же миг истерично заржавшая из своей конюшни оголодавшая кляча предательски выдает присутствие хозяина. Стук повторяется еще громче и еще настойчивее.
– Иду, иду! – недовольно бурчит Тито, разыскивая впопыхах свою одежду. Она оказывается под кроватью, в самом углу, в самой пыли и паутине. Встряхивает ее, кашляя и чихая в образовавшемся облаке, по-стариковски кряхтя и пыхтя, натягивает брюки, накидывает рубаху… Этот придурок за дверью, кем бы он ни был, видно, окончательно потеряв терпение, начинает дубасить по ней со всей силы ногой. Интересно, кто этот наглец?
– Да иду, что б тебя…! – распахивает дверь, да так и замирает. Бесенок – сын Хакобо, а рядом… Будто прилип к нему, прижимается, прячется под обхватившей его жилистой мальчишечьей рукой.
Это ведь не ОН. Это не может быть ОН! Хок видно решил зло подшутить над ним, поиздеваться, подослав со своим сыном кого-то… Кого-то завернутого с ног до макушки в плотное цветастое пончо, подрагивающие складки которого лишь смутно намекают, что под ним скрывается кто-то маленький, хрупкий и живой. Но вот он замечает выбившийся из-под ткани знакомый белоснежный локон, замечает знакомую ручонку, очерченную красным ободом протертой до мяса кожи. И эти пальчики… даже не пальчик, а можно сказать одни косточки, судорожно вцепились в бок бесенка. Это не Он! Это не может быть Он. Ущипывает себя украдкой, проверяя, не спит ли? Нет, не спит, и они по-прежнему перед ним.
– Ты что меня не помнишь? – раздраженно вопрошает сын Хакобо, видно списав его перепуганное замешательство на простое неузнавание.
– Помню, – кое-как произносит Тито – горло внезапно пересыхает и сжимается, превращая голос в слабый придушенный шепот.
– Отец сказал, ты знаешь, кто он, и сможешь ему помочь, – бесенок указывает взглядом на прильнувшее к нему закутанное тельце.
На сей раз Тито может только кивнуть. Делает шаг в сторону, жестом приглашая детей войти внутрь. Бесенок не торопится, только, как ему показалось, еще крепче приобнимает своего необычного, не подающего ни вида, ни голоса, спутника.
– Там у тебя в доме нигде не валяется кнут или палка? Или, может, цепи, веревки…? Топор, вилы или ножи на видном месте?
Он не понимает вопросы мальчика. Слышит слова, узнает их – эти жуткие бьющие, колющие, режущие, удушающие слова, но не понимает.
– Если есть, убери все подальше, пока мы не зашли, – договаривает бесенок и смотрит на него хмуро и выжидающе.
Тито судорожно сглатывает:
– Нет… ничего такого… Ви-вилы – в сарае, а дома… – н-нет ничего такого…
И опять из его едва раскрывающегося рта тот же глухой шепот, только теперь еще и с заиканиями.
Тем не менее, сын Хакобо удовлетворенно кивает, ловким и видимо не раз отрепетированным движением подхватывает своего маленького спутника на руки, переступает через порог и тут же, не проходя дальше, принимается быстрым и критичным взором изучать представшую перед ним обстановку. Судя по мрачному виду, она его отнюдь не радует. Да и надо полагать: пыль, грязь, смрад, кавардак – не дом, а свинарник.
– Тито, – произносит мальчик, продолжая издалека разглядывать предметы на столе, под столом, на шкафу, – Ты не мог бы завести во двор нашего коня и привязать. Он там, у забора. Мне было неудобно – руки заняты.
– Да, да, конечно, – поспешно соглашается мужчина, – Вы… вы пока проходите, устраивайтесь. Я сейчас…
На самом деле он даже рад этой просьбе, позволившей ему ненадолго отлучиться, как-то прийти в себя, осознать, что… Да просто поверить, в то, что малыш все еще жив. Конечно, он не возьмется судить о его состоянии, пока не увидит. И тут уж точно не стоит надеяться на чудо полного исцеления. Но он жив! Он в сознании. Он, пусть даже и держась за бесенка, но все-таки умудряется стоять на ногах. Стало быть…– робкий голосок надежды, искорка радости – стало быть, кризис миновал? Да – да, все страшное позади, так? Остальное лишь дело времени. А еще терпения, заботы и любви. Готов он к этому? Конечно, готов! Он готов абсолютно ко всему, что подразумевает под собой данный ему второй шанс! Хотя…
Поймав под уздцы грациозно вышагивающего по улице и вальяжно пощипывающего кусты соседских участков гнедого (конь Хакобо всегда поражал его своей красотой и наглостью), Тито потащил его к себе во двор. Это стоило ему не дюжих сил, поскольку упрямец сопротивлялся, фырчал ему в спину что-то явно оскорбительное, и пару раз мотнул башкой с такой силой, что изрядно ослабевший за эти дни и все еще окончательно не протрезвевший мужчина чуть не отлетел в сторону. Но все-таки удержался, наконец-то завел бунтаря внутрь, привязал к забору рядом с конюшней, из которой в очередной раз донесся отчаянный надрывный крик его собственной лошади. Видать учуяла прибывшего кавалера и давай стенать перед ним на свою тяжкую участь запертой, два дня некормленой и непоеной рабыни. Пришлось заглянуть и к ней, бросить охапку сена, потом сходить за водой к колодцу, наполнить ее поилку, вернутся, чтобы поставить на место ведро. Поймал себя на том, что все это делает, не спеша и даже намеренно медля… Дети ждут его в доме, нужно побыстрее к ним, а он… Он это понимает, но чувствует, как с каждой секундой накатывает, постепенно завладевая всем его существом, какой-то иррациональный и необузданный панический страх: что делать, что говорить, как помочь? Что он вообще может? И этот малыш – да, это чудо, что он жив, но что если он знает? Что если он помнит? Вряд ли, конечно, помнит… Тогда – год назад, в поместье – испуганный до полусмерти – мельком – не должен был запомнить… Но что если все-таки…?! Набирает в колодце еще ведро, смотрит на колышущееся в нем отражение. Блики рвут и вновь соединяют незнакомое уродливое рыло, оплывшие поросячьи глазки, грязную поросль на скулах и подбородке и всклоченные пакли на голове… Просто чудище! Таким малыш его точно не узнает… Испугается, но не оттого что узнал, а от того что вот оно – чудище во плоти. Зачерпывает воду, круша своими ладонями вылупившуюся на него из ведра тварь, делает пару жадных хлебков, снова зачерпывает, ополаскивает лицо, приглаживает волосы. Наверняка это не сильно улучшает его внешний вид (он даже не стал снова вглядываться в отражение), но зато помогает прийти в себя, очнуться от нелепого страха и немного приглушить похмельные симптомы. Глубоко вдыхает, как перед битвой или прыжком в воду. Все. Дети ждут в доме – пора.
Войдя, он не сразу замечает их. Секундное замешательство, озирается вокруг, и потом – вот он – бесенок. Почему-то в углу, ближайшем к двери, почему-то на полу, на коленях, почему-то повернут лицом к стене и что-то тихо нашептывает. Можно подумать, молится… Хотя это занятие никак не вяжется с характером и мировоззрением этого подростка, которые, как полагает Тито, он сумел безошибочно уловить и понять за краткое время их предыдущей встречи.
– Бесенок, что ты…?
Мальчик оглядывается, чуть отстраняется, и Тито замечает за его спиной уже знакомое цветастое пончо. Кажется, просто тряпка, небрежно брошенная в угол – трудно представить, что под ней кто-то есть. И в то же время из-под ободранной каймы выползает бледная ручонка, в какой-то нервной, суматошной панике начинает рыскать вокруг, и успокаивается, лишь когда бесенок осторожно накрывает ее своей ладонью.
– Что же вы на полу? – обеспокоенно лепечет Тито, – Садитесь лучше на диван, удобнее, – и тут же спохватывается, осознавая, что «удобный» диван все еще завален скомканными, влажными и вонючими простынями, впитавшими в себя все «прелести» беспробудного двухдневного запоя. Подрывается все поскорее убрать.
– Ему тут удобнее, – говорит бесенок каким-то бесцветным поникшим голосом, – Можешь не суетиться.
– Нет, ну, все равно… Я… Я сейчас это уберу, чтобы вы могли по-человечески… – собрав в охапку постельное белье, запихивает его в шкаф, воюет с никак не закрывающейся дверцей, – Вы простите, что у меня тут так…
Кое-как ему все-таки удается ее запереть. Поднимает хлам, который успел попадать на него сверху шкафа, не разбираясь, закидывает обратно. Ставит в нормальное положение опрокинутый стул, – Сейчас приберусь. Я просто не ждал гостей…



