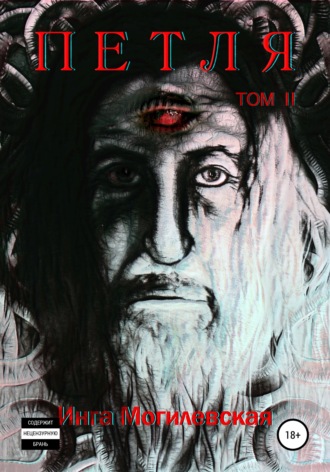
Инга Александровна Могилевская
Петля. Том 2
Потом через столовую – служебный вход – все, выбралась. Сделала круг по парку, как и велел Сани, посидела немного на скамье, прошла по одному из узких проулков, свернула обратно. Осторожно оглянулась. Нет – никто не следит. Еще немного поплутала, на всякий случай, и, окончательно убедившись в отсутствии хвоста, направилась к спрятанной за парком машине.
Рамин сидел за рулем, сгорбившись, в надвинутой на лицо шляпе. Делал вид, что читает газету. Когда я залезла внутрь, расположившись на соседнем сиденье, чуть скосил на меня глаза.
– Рад, что ты выбралась, – шепчет он, как мне кажется, абсолютно искренне, без доли иронии, – Слежки не было?
– Нет.
– А что Сани и Анхель?
– Сани велел не ждать их – уезжать. Сказал, выберутся позже, когда начнется эвакуация, и приедут на мотоцикле.
– Ясно, – снова бросает на меня взгляд, серьезный и внимательный, – Ты уверена, что они смогут сами выбраться?
– Да…Как ты верно заметил, он там «в доску свой».
– Ну, раз даже ты это говоришь… – Рамин поворачивает ключ зажигания, – Тогда поехали.
Услышав какое-то тихое постанывание прямо позади себя, я резко оборачиваюсь, тут же натыкаюсь на стылый взгляд Тересы. Она сидит неподвижно и тихо, словно неживая. Окоченевши – мертво выглядит ее вытянутая рука со сжатым в кулак револьвером. Дуло уставлено в спину валяющегося у нее под ногами человека. В этой скрюченной и изломанной как трупик комара фигуре я узнаю того самого управляющего, которого Рамин зачем-то решил взять в заложники: руки связаны за спиной, на голове одна из наших «масок» – бумажный пакет, только надетый задом наперед, так что из прорезей, предназначенных для глаз, торчат лишь пепельные клочки его волос. Он трясется, постанывает, покряхтывает – сначала тихо, почти неслышно, потом все громче и громче. Пытается что-то промычать, и тут же, почти по-поросячьи взвизгивает от полученного в живот пинка, которым его хладнокровно награждает Тереса.
– Зачем ты его прихватил? – спрашиваю я.
– Так было нужно, – бурчит Рамин, не отрывая взгляда от дороги.
Ждать от него объяснений бесполезно. Я затыкаюсь. Отворачиваюсь. Смотрю в окошко, пытаясь сориентироваться в этих окольных путях, по которым мы покидаем город. Это бедные районы – самая окраина: хлипкие полуразвалившиеся, лачуги перемежены горами сметенных в кучи отходов. Деньги, выделенные из бюджета на развитие страны, оседают лишь в самом центре городов, а здесь их не хватает даже на то, чтобы элементарно вывезти мусор. Этого места не существует в сознании тех, кто распоряжается казной. Это место – terra incognita для тех, кто живет в поместьях, имениях и особняках – что-то вроде диких джунглей с полчищами прожорливых хищных тварей – что-то такое, куда нормальный цивилизованный человек даже и не сунется. Чем дальше от центра, тем очевиднее становится убогость реальности: километры и километры вопиющей нищеты. Понимают ли они, что это все не просто крысиные норы с забившимися в них паразитами? Понимают ли они, что это такие же люди? Тысячи – сотни тысяч людей. Это – реакционная масса – лавина, способная в любой момент обрушится на их жалкие элитные домишки, втоптать в грязь их холеные чистенькие морды. Но что же нужно сделать, чтобы пробудить эту стихию? Нет, слов тут недостаточно – нужен пример, нужно действие. Действие, подобное тому, что мы совершили сегодня.
Но, боже, неужели я действительно так считаю?!
А вот и до боли знакомая улица. Это совсем недалеко от того места, где…
– Можешь свернуть направо – проехать вон по той дороге, – тихо прошу я внезапно осипшим голосом.
Рамин удивленно вскидывает бровь, но не перечит – сворачивает. Проезжаем пару полуразрушенных кварталов и пустырь, определенный муниципалитетом под корпуса нового интерната – стройка была затеяна еще в начале президентского срока «благодетеля», а уже через месяц заморожена из-за нехватки финансирования, и, судя по всему, уже не сдвинется с мертвой точки. Раскуроченный забор, огораживающий территорию. Еще с десяток хлипких давно заброшенных лачуг. И вот, это место – место, где должен находиться наш с Сани бывший дом…
– Сбавь скорость, – еле выдавливаю я, и с ужасом вглядываюсь в огромную груду горелых досок, угля, слежавшегося пепла, черных кирпичей и битых стекол – в кучу мусора – в жалкие объедки огненного пиршества – в обглоданные и вылизанные пожаром косточки нашего прошлого…
Прикусываю губу. Стараюсь не подавать виду, насколько мне больно видеть все это, но Рамин все равно замечает. Притормаживает.
– Ты в порядке?
– Да.
– Что это за место?
– Здесь мы с Алессандро когда-то жили, – нехотя признаюсь я.
Несколько секунд он тоже задумчиво рассматривает остатки сгоревшего дома. Потом, недовольно поморщившись, отворачивается.
– Огонь всю жизнь преследует брата, – тихо изрекает он, снова надавливая на газ, – Это его бич – где бы он ни поселился, там рано или поздно все оказывается в объятьях пламени.
Я не нахожу, что на это ответить. Я думаю, о своем объятом пламенем сердце. Я думаю, будет ли оно тоже обращено в кучу стылого слежавшегося пепла…
Мы были уже достаточно далеко от города, когда Рамин вдруг ни с того ни с сего свернул с дороги прямо в чащу джунглей. Проехав немного вглубь, настолько, насколько это позволяла тягучая торфянистая почва и плотная сеть переплетенных ветвей, он заглушил двигатель.
– Что случилось? Зачем ты сюда свернул? – начинаю беспокоиться я, но он упрямо игнорирует мои вопросы. Вместо этого поворачивается к Тересе.
– Не передумала?
– Нет, – звучит ее глухой хриплый голос.
– Тогда, давай. У тебя полчаса. Отведи его подальше. Если нужна еще веревка или нож, возьми под сиденьем.
Мой встревоженный недоумевающий взгляд мечется с Рамина на Тересу и обратно, силясь понять, что же здесь происходит, но в обоих случаях натыкался лишь на холодные непрошибаемые каменные лица.
– Или помочь тебе его привязать? – предлагает индеец.
– Сама справлюсь, – отрезает она. Открывает дверцу, выбирается наружу, прихватив и нож и веревку. Потом одной рукой вцепляется в шиворот пленника, другой вдавливает ему под лопатку дуло револьвера.
– А ну, пошел! – хрипит она, и связанный человек начинает неуклюже ерзать, выползая из машины, с трудом поднимается на дрожащие, подкашивающееся комариные ножки.
– Живее! – прикрикивает Тереса и, продолжая мусолить дулом его спину, тащит его за собой вглубь чащи. Когда они скрываются за плотной ширмой зарослей, Рамин приоткрывает окошко, достает сигарету, закуривает.
– Что все это значит? – снова пробую допытаться я.
– Пусть разберется с ним.
– Что значит «разберется»?
– То и значит. Этот человек продал ее Стейсонам. Теперь получит то, что заслужил.
– Что?!– я с ужасом уставилась на него, – И ты вот так просто позволишь ей…?
– Не вижу причин отказывать. Все справедливо. Пусть делает с ним, что хочет. Это ее…
Истошный вопль, донесшийся из джунглей, глушит его слова. Потом еще один – еще пронзительнее, еще громче…Что она с ним делает?! Невыносимо. Это…это все невыносимо… Господи…Надо остановить это безумие!
Я давлю на ручку. Едва успеваю приоткрыть дверцу и вытащить наружу одну ногу, как Рамин резко хватает меня за плечо, втягивает обратно.
– Сиди и не вмешивайся.
Закусываю губу, закрываю глаза. Неутихающие крики взрывают мозг. От них хочется провалиться сквозь землю, хочется бежать, сгинуть – что угодно, только бы не слышать их…Так нельзя! Так неправильно! Но как же я могу втолковать этому лишенному души человеку, что то, что происходит сейчас…может и справедливо…Но совсем неправильно.
– Алессандро бы это не одобрил, – сдавлено проговариваю я, – и ее брат – тоже.
– Тут ты ошибаешься, – отрезает Рамин, – Но, в любом случае, это их не касается. И нас с тобой это тоже не касается. Это – дело Тересы. Ее личная месть. Каждый имеет право на личную месть. Око за око.
– Тереса не понимает, что ты с ней делаешь.
– Что Я с ней делаю?! – он выбрасывает в окошко бычок, и устремляет на меня свои неумолимые глаза, – С ней уже сделали все, что только можно было! Она прошла через такой кошмар, который тебе и не снился! Я же только позволяю ей сделать то, что ее хоть немного утешит.
И снова вопль…Да такой, что мне приходиться заткнуть уши. По телу пробегает озноб.
– Тогда радуйся… – шепчу я, – ты завершаешь то, что они начали. Ты убиваешь в ней остатки человечности.
Он хмурится, осудительно покачивает головой.
– Скажи, Иден, скольких ты пристрелила там в «Континентале»?
– Я не считала.
– А я посчитал. Троих насмерть. И двоих ранила.
Вопль ниспадает в булькающий хрип… Уже в любом случае поздно.
– Ты убила от трех до пяти человек, Иден, – повторяет он.
– И что с того?!
– Пристрелила их, не дрогнув, не колеблясь, не сожалея и не раскаиваясь. Значит ли это, что в тебе тоже больше нет человечности?
В его низком голосе и ровной интонации верткой ящуркой промелькнул сарказм – промелькнул и тут же скрылся, а между тем настороженные пытливые зрачки продолжают изучать меня из глубоких нор-глазниц. Ждут моего ответа.
– Может, уже и нет, – выдыхаю я, отворачиваясь и глядя на возвращающуюся Тересу. Шагает твердо и быстро. Одежда измазана кровью, на лице все та же лишенная эмоций маска.
– Тогда, какая тебе вообще разница? – пожимает плечами Рамин, заводя машину.
V
Утро следующего дня началось для тебя с нечеловеческого истошного вопля. Трудно было поверит, что этот жуткий звук исходит из горла твоего брата – из этого маленького прильнувшего к тебе тельца.
– Тише, что случилось, chaq’?
Малыш кричал во сне и совсем не слышал тебя.
И тогда снова, обнимая его еще крепче, тормоша за хрупкое плечико:
– Ну, тише, тише… Это просто сон. Все хорошо.
Мальчик резко дернулся, вырываясь из оков своих кошмаров, на мгновение отпрянул от тебя – испуганный и дикий. И вот уже снова прижимается, подрагивает. Ужас в широко разинутой синеве глаз – оглядывается по сторонам в поисках привидевшегося врага.
– Тебе все приснилось, chaq’. Тут никого нет. Только мы вдвоем, – утешаешь ты, а у самого до сих пор мурашки по коже бегут от этого вопля, этого взгляда. Что же такое с ним творится? Что за изворотливый страх проскользнул в твоего братишку, когда ты всю ночь охранял его от кошмаров своими крепкими руками? Или страх уже был внутри него, и теперь, не стерпев тесноту своей обители, рвался наружу? Пытался расширить свои владения? Завладеть еще и тобой? Нет… Ты же не трус. Ты не способен испытывать страх. Ты даже не помнишь, когда последний раз чего-то боялся. Тогда что это – что это за чувство, пробегающее по коже ознобом – вверх по позвоночнику и прямо в мозг – впивается, клацая ледяными клыками… Насильно сдерживаешь участившееся дыхание и бешено скачущее сердце. Воздуха не хватает. Нужно взять себя в руки. Глубокий вдох…
– Все хорошо, Сани… Никто тебя не тронет. Я не позволю.
Братик понемногу успокаивается. Медленно утихает, а потом и вовсе прекращается бисерный дребезг хрупких пронизанных страхом косточек – замирает чечетка миллиардов блошиных ножек под тонкой бледной кожей малыша…
– Ну вот, видишь? Нечего бояться. Ты и я… Теперь совсем нечего бояться.
Погладив причудливые белесые волосы – прохладное ощущение жидкого шелка с покалыванием мерцающего серебра – поднимаешь глаза к небольшому клочку неба, видимому из вашего укрытия – из этого подземного каменного грота, в который ты занес Алессандро накануне, спасая от дождя.
Судя по всему уже около десяти. Ни следа от ночного ливня. В душном накале небесной лазури лишь жалкие обрывки тучек, свернулись хлопьями скисшего молока, и, пронзая их, остро и безжалостно вгрызся в бесконечную высоту острый пик горного резца. Мирный стрекот насекомых, беззаботный щебет птиц и…крики: откуда-то издалека доносятся раскатистым эхом. Ты не сразу узнаешь в этом полном отчаяния и тревоги призыве голос отца, не сразу улавливаешь в его развеивающихся по пространству звуках ваши с Сани имена. Потерял вас. Конечно. Проснулся с утра, а дома пусто: ни тебя, ни брата. Наверное, уже навыдумывал себе черт знает что. Бродит, зовет, ищет. А когда найдет, разумеется, на тебя накинется – обвинит и в том, что ты его заставил переволноваться, и в том, что Сани выгнал ночевать на улицу под дождь. И не поверит, что ты честно пытался отнести брата обратно в дом. Только стоило тебе взять его на руки, как он тут же проснулся, напрягся, а, увидев, куда его несут, начал вырываться, протестовать. И никакие твои уговоры не могли убедить его вернутся под крышу, никакие доводы не действовали. Нет, он предпочитал мокнуть и дрогнуть всю ночь под дождем, только бы не оказаться по ту сторону двери…Или в одной комнате с отцом? Как знать, может, в нем вся причина? Вот и сейчас, заслышав папин голос, он снова за свое. Как пугливый зверек, ей богу! Глазенки шныряют из стороны в сторону, и все жмется – жмется тебе. А вот уже совсем не по-звериному – потянулся к ножу, спрятанному в кармане твоей куртки. Нет, так дело не пойдет!
– Эй, не надо! – достал его пронырливую ручонку из своего кармана, – Это же мой папа. То есть, теперь уже наш. Ты чего его так боишься?
Холодно глянул на тебя, мотнул головкой и снова на нож косится.
– Перестань! Я пойду, позову его, пока он совсем не переполошился, – ты попытался осторожно высвободиться из цепких объятий брата. Не отпускает.
– Не дури, chaq’. Нам незачем от него прятаться. Тем более тебе. Пусти! – все-таки вырвался. Может слишком резко и грубо? Буквально скинул его с себя, поднявшись на ноги, и при этом еще нечаянно задел его перебинтованную спинку – брат даже тоненько взвизгнул.
– Прости, я не хотел… Тебе больно? – боязливо взглянул на ряд грязных и разбухших от влаги бинтов, перетягивающих тело малыша. Повязка немного растянулась и сползла, приоткрыв самый край того, что скрывала… Того, что поначалу показалось тебе куском засохшей красной глины, прилипшей к его спине. И лишь наклонившись к Сани, чтобы убрать ее, ты с ужасом осознал, что это на самом деле. Малыш дернулся было в сторону, но ты все же успел придержать его за плечо: – Постой… Дай-ка я посмотрю. Только посмотрю. Трогать не буду, – приспустил повязку еще ниже. Вздрогнул. Поспешно надвинул обратно, затянув покрепче распустившиеся концы бинтов. Сглотнул. Да уж… не удивительно, что Сани так неуклюже передвигался. Удивительно, как он вообще умудрялся шевелиться с такими-то ранами! Вся спина иссечена, словно его ножом кромсали. И эти жуткие вздутые борозды свежих швов, стягивающих темную от кровоподтеков кожу.
– Chaq’, кто тебя так?
Нет, конечно, он не мог ответить. Только понуро опустил голову, уставившись на пальчики своих босых ног, ели слышно шмыгнул носом. Можно подумать, что ты его ругал и отчитывал за эти кошмарные увечья, или, что он сам считал это своей виной, своим пороком – чем-то постыдным, позорным и унизительным. Трудно было понять.
И снова отец выкрикивает ваши имена. Уже где-то рядом… Его голос гулко резонирует в каменных стенах грота и будто проходит электрическим разрядом по телу Сани. Тот бросает встревоженный взгляд к узкому лазу, потом на тебя – безмолвно умоляет не отзываться, не раскрывать ваше надежное укрытие, не выдавать его…Но почему? Чем его так пугает отец? Вроде, повода нет…
– Сани, все хорошо. Папа не причинит тебе зла. Я же вижу, как он переживает, как хочет помочь тебе. Поверь, его не стоит бояться.
Не верит. И когда ты, удрученно помотав головой, все-таки начинаешь выкарабкиваться из грота, он наоборот, отползает в самую глубь, вжимается в стену так, словно хочет с ней слиться, раствориться, исчезнуть.
Ладно… Сначала надо дать знать папе, что с вами все нормально, а уж потом вместе подумаете, как успокоить Алессандро. Так будет правильнее. Только как мучительно гложет и тяготит эта необходимость оставить его в таком состоянии – один на один с его болью и страхом пусть даже на пару минут. И совсем не будучи уверенным в том, что он услышит или поймет, ты все-таки ласково шепчешь напоследок: «Потерпи, chaq’… Я тебя не брошу, обещаю»…
После уютной темноты грота дневной свет едва не ослепляет тебя, и, непроизвольно жмурясь от его беспощадной пронзительной яркости, с трудом умудряешься разглядеть темную фигуру отца, медленно ковыляющую в направлении обрыва. Набираешь в легкие побольше воздуха и: – «Пап! Папа!», – машешь руками, – «Сюда!». На секунду отец замирает, не веря, что, действительно, слышит твой голос, резко разворачивается – и вот уже несется со всех ног: волосы всклочены, в глазах – паника. И голос, когда он, задыхаясь, все-таки выдавливает: «Где…где Сани?!» – полон такой горечи, словно он уже и не надеется увидеть малыша живым… Немного оторопев от этого немыслимого шквала отчаяния, несущегося прямо на тебя, спешишь его успокоить: – Он здесь. Все хорошо. Он в порядке. Конечно, это самое «в порядке» – не имеет никакого отношения к состоянию твоего брата, но хотя бы помогает привести в чувства отца, чуть усмиряет пожирающее его пламя тревоги.
– Где он?! – ухватившись, отец трясет тебя за плечо.
– Не кричи. Он здесь, внутри,– указываешь ему на скрытый за зарослями кустарника лаз.
Старик тут же наклоняется, заглядывает внутрь. Вздох облегчения на секунду вздымает его спину.
– Сани, сыночек…Я так волновался! Ну, что же ты…? – вход в грот слишком мал для взрослого человека – внутрь ему не пролезть, и все, что он может, это призывно вытянуть руки, ожидая, пока мальчик сам решится подползти к ним, – Не бойся, маленький. Я тебя не обижу. Иди ко мне. Ну, давай!
Этого не случится. Ты не видишь наверняка, что сейчас делает твой братишка, но догадываешься: по громким злобным рычаниям, доносящимся из пасти пещерки, по выражению полной растерянности на лице отца, по пролетевшему совсем рядом с этим лицом и упавшему тебе под ноги камню, догадываешься – Сани гонит его прочь.
– Пап, отойди. Не надо. Так ты его оттуда не достанешь, – пытаешься урезонить отца, но тот не обращает на тебя внимания. Все продолжает зазывать малыша этим неестественно ласковым, будто захлебывающимся, в сиропе голосом. Обещает дать ему что-то вкусное и показать что-то интересное, если он вылезет. Нет, за такую цену ему точно не купить доверие брата. И, раз отец этого не понимает, вот ему еще аргумент (ты едва сдерживаешь усмешку) – еще один брошенный Алессандро камень. Отец резко отпрыгивает в сторону, но все равно не успевает полностью увернуться: отнюдь не маленький булыжник, пройдясь вскользь по его щеке и уху, снова падает перед тобой. Не без доли удивления и восхищения косишься на камень. А Сани-то оказывается не такой уж и дохлик, раз у него хватило сил метнуть такой! Взвешиваешь камень в руке. Надо же! Никогда б не подумал! Молодец, chaq’! Снова переводишь взгляд на отца. Ну, наконец-то, отступил. Отошел на пару шагов от грота, опустился на землю, понуро потупился, растирая ладонью ушибленное место.
– Я же говорил, не суйся. Сани к тебе не пойдет, – замечаешь ты.
Быстрый взгляд, которым награждает тебя отец, полон злости.
–А ты и радуешься! Не хочешь объяснить, какого черта он вообще залез в эту нору?
– Ночью дождь был, вот мы и укрылись тут.
– В доме надо от дождя укрываться!
– Сани не захотел идти в дом.
– Не захотел? Или ты его прогнал?
– Я его не прогонял.
– Вот как?!– срывается на крик, – А кто вчера заявил, что ему в доме не место!
– Я сказал, что диким зверям в доме не место. А он, может, и дикий, но ведь не зверь. Я пытался привести его обратно в дом, только он все равно решил остаться на улице.
– Решил? Ну да! С чего бы он так решил?!
– Похоже, ему просто не нравится находиться под одной крышей с тобой.
– Ты, гаденыш, у меня сейчас договоришься, – цедит сквозь зубы отец, сжимая кулаки. Грозного из себя строит. Хотя лучше уж пусть кричит и злится, чем снова позволит себе заговорить тем тоном приторно-напускной нежности, который практикует на Сани, и от которого лично тебя тошнит. Впрочем, тебе подобное обращение не грозит – для тебя у папы не осталось даже притворной ласки.
– Будешь меня бить? За что? – твой спокойный равнодушный тон бесит его еще сильнее.
– За все! За твой поганый язык! За эти выходки! За все, что ты себе, сопляк, позволяешь! Я его с четырех утра ищу! Уже всю округу оббегал, не знал, что и думать, а ты…!
– Злишься, что мы заставили тебя побегать? Так мог бы и не бегать. К чему разыгрывать все это… ну, что тебе есть до него дело?
Отец так и обомлел. Видно было, что уготовленный в твой адрес поток негодования все еще бушевал, вертелся на языке и рвался наружу, но твои слова встали на его пути непреодолимой стеной. Несколько секунд он тупо таращится на тебя, не зная, что на это ответить, потом отворачивается.
– Мне есть до него дело. Я за него переживаю, – обиженно бурчит он, – Сани сейчас в таком состоянии, что ему вообще с постели нельзя подниматься. И от всяких стрессов его беречь надо. Иначе так и не поправится. А ты, вместо того, чтоб позаботиться о брате и успокоить, позволил ему всю ночь проторчать на улице под дождем.
Ты лишь пожимаешь плечом.
– Не я довел его до такого состояния. И не я его покалечил. Меня он не боится. Он боится тебя. Интересно, почему?
Судорожный комок скатывается по напряженному горлу отца. Упрямо поджимает губы, потом, словно придумав объяснение: – Ты ребенок, такой же, как он. Поэтому он не воспринимает тебя, как угрозу. А ко взрослым он еще не привык. Слишком долго жил один.
– Один?
– Мы с Тито нашли его в подвале сгоревшего дома. Его семья погибла в пожаре, наверное, около года назад, а он, вот чудом уцелел.
– Тогда откуда на нем эти синяки? А раны? Я видел, что у него со спиной.
Отец нахмурился. Мышцы лица дрогнули, глаза на секунду метнулись в сторону.
– Не знаю…Наверное, где-то сам случайно покалечился…
–Сам?
– Да…Сам… Может, упал и обо что-то поцарапался… Не знаю, – вдруг резко поворачивается к тебе, с выражением беспомощного доверия и мольбы:– Ладно, Рамин, давай не сейчас. Послушай, если Сани тебя не боится, сможешь вытащить его оттуда? Пожалуйста…Он не должен сидеть там. Я хочу ему помочь, но…ты видишь, он меня не подпускает. Просто залезь и вытащи его. А там уж отведем его в дом, он позавтракает, согреется – может, начнет понемногу отходить и привыкать.
Ты мужественно терпишь на себе этот взгляд – фальшь милости, слишком уж быстро сменившей гнев…Ни слова не говоришь, только вздохнув, возвращаешься к гроту, заглядываешь внутрь…
Братик сидит все там же, прижавшись бочком к каменистой стене, в оборонительный позе готовый драться, кусаться, отбиваться. Впрочем, увидев, что это ты, чуть расслабляется: враждебность на его лице уступает место сомнению. Поблескивающие во мраке лазурные глазенки изучают тебя, словно выпытывая, осмелишься ли ты снова предать его или спасешь, защитишь.
И что тут делать? Вытаскивать его силой? Нет, не вариант. И опустившись на колени у края лаза ты, как и отец, лишь протягиваешь руку.
– Нельзя вечно прятаться, chaq’, – тихо заговариваешь ты, – Не показывай никому, что ты загнан в угол. Не убегай и не прячься. Ходи гордо и открыто, а если на тебя нападают – дерись до победы.
Сани продолжает недоверчиво хмуриться, все еще гадая о твоих намерениях, тянется ручкой к очередному лежащему рядом камню. Берет его, но не кидает.
Чуть помедлив, ты продолжаешь:
– Я всегда мечтал о брате, chaq’. Я всю жизнь тебя ждал, и готов еще просидеть так сколько угодно, ожидая твоего решения. Ты, конечно, можешь бросить камень и в меня, и только тогда я уйду. Уйду насовсем. Но еще ты можешь взять меня за руку, и тогда мы пойдем вместе и будем драться со всеми врагами вместе. Понимаешь? Решать тебе.
Договорив это, ты закрываешь глаза. Закрываешь их, чтобы не видеть, как брат приподнял камень, как метится в тебя.
– Думаешь, он понял хоть слово из того, что ты ему сказал? – раздается за твоей спиной скептический голос отца, – Рамин, я думаю, он не понимает нашу речь.
Не понимает речь? Нет, ты в это не веришь. И даже если не понимать слова, нельзя – просто нельзя не понять жест протянутой братской руки.
Затаив дыхание, ты ждешь его решения. «Рука или камень? Рука или камень?» – гадаешь ты, – «Рука или камень?» – похоже на какую-то дурацкую детскую считалку: – «Рука или камень?». Ты не открываешь глаза. «Рука или камень?»…Если камень, ты не будешь уворачиваться. Ты примешь полную силу этого удара, а потом встанешь, и заставишь себя уйти. Навсегда. Не думая, не сомневаясь, не размышляя над тем, что дальше, не питая себя иллюзиями альтернативы и не оставляя себе пути назад. Потому что камень. Но если рука…
– А ты, chaq’? – шепчешь, не открывая глаз, – Ты когда-нибудь мечтал о настоящем брате?
…если рука… Если не брошенный камень, а рука… Рука в руке – рука об руку, всегда и во всем… Жди. Не смей на это надеяться. Просто жди. Решение за ним.
Был ли ты счастлив в детстве? Испытывал ли ты, будучи ребенком, по-настоящему всепоглощающую радость? Вряд ли… Бесконечная череда монотонно одиноких дней апатично делилась тобой на более удачные и менее удачные – вот и все. Ни полноценной радости, ни удушающего разочарования. Дни знойных солнцепеков и дни непрекращающихся дождей, дни успешной охоты и дни, когда ты возвращался в свой пустой дом с пустыми руками, дни, когда книги, что ты читал, раскрывали перед тобой свою мудрость, и дни, когда ты не видел в них ничего помимо нагромождения витиеватых пустых слов – вcе эти дни были окрашены для тебя в единый мутный и невнятный цвет. Не было веских причин будить душу, не было повода требовать от нее эмоций.
Нет, конечно, были и другие дни – дни, когда родители возвращались домой. Особенно мама. Вот, пожалуй, тогда, что-то вспыхивало в тебе, вызывая смех и потребность броситься в ее объятия, чувствовать ее теплые руки, а по вечерам, затаив дыхание, слушать ее рассказы, ее твердый спокойный голос, неизменно предвещавший загадочную и великую победу. Но, как можно было назвать счастьем это мимолетное и скоротечное свидание? Как можно было по-настоящему радоваться этой хрупкой близости, когда каждый раз ты точно знал ее срок. Два дня, неделя, месяц – максимум, а потом все равно и снова неизбежное одиночество и тусклый безнадежный цвет безликих будней, на которые крошилась твоя жизнь. Счастье… Если оно и существовало, то могло быть лишь чем-то неделимо цельным, бесконечным и безупречным в своей надежности. Именно таким.
И именно таким ты принял его, когда, не открывая глаз, почувствовал холодные тонкие пальчики брата, обхватившие твою ладонь…



