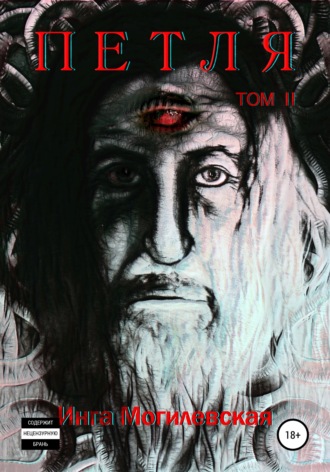
Инга Александровна Могилевская
Петля. Том 2
– А ты сможешь…? – тихо спрашивает индеец, но не слышит в ответ ничего, кроме разочарованного вздоха и всхлипа.
Снова проверяет пульс мальчика, подносит руку к его носику. Как утешает это легкое дыхание – этот едва ощутимый теплый ветерок, крадущийся по коже руки! Робкие потуги ухватившейся за соломинку жизни…
Держись, маленький, ты должен выжить! Мы справимся! Все для тебя сделаю! Слышишь? – Все! Только дыши, сынок! Просто дыши, мой милый…
– Как же все-таки его зовут? – проговаривает Хакобо, – мне бы хоть это узнать.
– Да как уже узнаешь? Вряд ли, этот урод называл мальчонку по имени.
– А ты сам, разве, не… Я имею в виду, разве, МакЛейн тебе не говорил?
Угрюмо и молча профессор мотает головой.
– Ладно. Ну, раз я даю ему новую жизнь, значит, дам и новое имя. Отныне он – …
II
Террористы?
Мы террористы…
Нет, это не звучит гордо. Это звучит… нелепо.
С яростью комкаю и выбрасываю в ведро так не вовремя попавшуюся в руки газету. Гашу свет. Возвращаюсь в постель.
И без того кошки на душе скребут, а тут еще это – «террористы»…
Я даже не понимаю, что эти журналисты хотят сказать, обвиняя нас в терроризме.
Террорист – от слова «террор» – страх. Мы не ставим свое целью запугать. Мы по-прежнему лишь хотим освободить народ. Дело не в так называемом «терроре» – дело в тиране.
Убийства в «Континентале»? Да, это сделали мы. Жертвы? Да – не без этого. К сожалению. Но без этого – было никак. Это наш способ действовать. Не запугивать, а целенаправленно пустить волну по всей вертикали власти. Так, чтобы она смыла того, кто стоит во главе. Утопила этого «благодетеля», заковавшего в цепи нашу страну. Странно. Мне даже в голову не приходило, что это можно назвать терроризмом… Впрочем, чего я ожидала? Это ведь просто точка зрения. Вот для моего папаши и всей той правящей верхушки мы, действительно, террористы. Независимой прессы в нашей стране нет, поэтому неудивительно, что нас окрестили террористами в газетах. В нашей стране нет независимого мнения, поэтому нас считают террористами даже те, чью свободу мы отстаиваем, в чьих интересах ведем нашу войну. «Рабское сознание», как выражался Алессандро… Сколько лет Моисей водил народ по пустыне, чтобы искоренить его? И неужели «раб» оказался настолько силен, настолько живуч, что целое поколение было заражено им, как неизлечимой болезнью?
Мы не собираемся ждать, пока умрет «последний, рожденный в неволе». Но постепенное перевоспитание «раба», на которое мы когда-то уповали, не принесло значительных результатов. Наверное, оно было уж слишком «постепенным». Наверное, и в самом деле болезнь раба была настолько запущена, что требовалось радикальное лечение. Хирургическая операция. Много крови и никакой анестезии… Рамин в это верит. Теперь Алессандро верит ему.
Во что верю я? А ведь иногда стоит просто встать и разобраться, где, на каком этапе, я потеряла собственную веру и поддалась чуждому мне прозелитизму? Хотя, нет – лучше не разбираться в этом вовсе, иначе придется признать, что собственной непоколебимой веры во что-либо у меня никогда и не было…Сначала отец, потом Америка, потом Алессандро и наконец, Рамин – вот они – вехи моей аморфной истины.
Впрочем, насчет Рамина я еще не уверена…
Но террористы?! Как все-таки странно и мерзко звучит это слово! Нет, в него я точно не верю. Это их мнение. Их предвзятое, ЗАВИСИМОЕ мнение!
В нашей стране вообще нет независимости. Только мы – исключение. Мы – единственная оппозиция вседозволенности нынешнего скрытого и лицемерного диктата. Того, что прикрывает свою истиную суть ширмой слащавой лжи, полагаясь на наивность её слушающих и в неё беспрекословно верующих. Это удручает, невыносимо гнетет. Но мы боремся за свободу. И, наверное, я верю в свободу. Как верю в него – в Алессандро – в человека, которому я сдалась, и которого я люблю больше жизни. Только вот…
…придвигаюсь ближе к нему, сопротивляясь мучительному желанию прижаться к его телу, ощутить тепло, близость…
…только вот, все изменилось. Все слишком изменилось.
Теперь Рамин решает, как действовать. Алессандро был инициатором – пророком этой идеи. Она родилась его словами. Но когда заканчивается время слов, приходит время действий, и появляются такие люди, как Рамин. Он жёсток, хладнокровен, решителен. Он сказал: «Это война» – и мы это приняли. Он сказал: «Нужно ликвидировать ключевые фигуры» – и мы с этим согласились. Он сказал: «Понадобятся бомбы»…
И вот теперь…Теперь это странное, страшное слово – «террористы»…
С трудом сдерживаю тяжелый вздох, который может прозвучать непростительно громко в этой кромешной тишине.
… «Террористы»…Да, все изменилось. Все слишком изменилось.
А главное изменился сам Алессандро. Я его знала не таким. Когда мы познакомились…
Кажется, все это было так давно, в какой-то другой жизни: и в ней осталось его ангельски светлое лицо, его тихий вкрадчивый голос, убеждавший спокойствием и непоколебимостью, его проникновенные слова, когда он заразил меня своей верой… Х-м-м, заразил… А ведь раньше я бы сказала «воодушевил». Но то было тоже в другой жизни, в которой я еще видела те – другие – добрые, теплые глаза, полные понимания и сочувствия.
И я радовалась, когда вокруг него собирались люди. Радовалась, когда в их сердцах вспыхивал надежда на свободу. И так наивно я радовалась, когда они следовали за Алессандро, на митинги, на демонстрации, требовали реформ, отстаивали свои права и земли…
То было раньше.
Могла ли я предвидеть, чем это закончится? Нет. Нет, потому что тогда я верила в свободу без крови, в свободу без жертв. А верю ли я сейчас в свободу на крови – в восстание, в переворот, в убийства, как остальные участники нашей группы? Ведь я же все-таки врач. Я должна быть за «не убий» и за «не навреди» – должна быть за жизнь любого и каждого. Я с грустью смеюсь над этим пафосом.
Повернув набок голову, я рассматриваю его бледнеющее во мраке лицо…
Господи, Сани! Что с тобой случилось? Что случилось с нами?! А помнишь нашу с тобой первую встречу? Нет… Зачем тебе. Это женщина помнит тот день, когда она впервые отдала себя другому. Телом и душой – без остатка. И этого другого она запоминает на всю жизнь. Ты был другим. И я тебе верила…
…прижимаюсь щекой к его плечу – осторожно и незаметно, только бы не разрушить его хрупкий как тонкая талая льдинка сон…
Конечно, я знаю, что случилось. Роковая перемена произошла с ним, пока я скрывалась в горном селении. А когда я вернулась, он уже был безнадежно другим.
Теперь мне тяжело даже думать об этом. Слишком много личного, болезненного, щемящего, невысказанного. Стараюсь смириться и понять, но…
Его больше нет. Того Алессандро, которого я знала и полюбила.
А я продолжаю любить его. По инерции, что ли? Как и он продолжает по инерции ходить, разговаривать, дышать, прикасаться ко мне, целовать, заниматься со мной любовью… Только это не он – его призрак, его тень – назвать можно как угодно. Мой настоящий Сани погиб в тот злосчастный день, вслед за своей утопической мечтой о компромиссе с властью и реформах без жертв. Он надеялся уговорить хищников стать травоядными. Правы были те, кто смеялись над ним. Но ведь многие поверили. Все, кто поверили, пошли вслед за ним на площадь. Сотни человек: батраки, крестьяне, безработные, нищие, обездоленные и угнетенные. Пошли, с надеждой на лучшую жизнь. А назад вернулись единицы. И его тень…
Да знаю я, что случилось, черт возьми! Составила картину из его невнятных объяснений, из односложных ответов Рамина на мои расспросы, из обрывков статей и разговоров лжесвидетелей. Когда началась бойня, Алессандро был в самом ее эпицентре. Его ранили – свежий шрам на его теле – жуткое ранение! Тут уж я могу сказать как врач – он чудом выжил. И чудо явилось в образе его брата, который буквально вытащил его на себе из всего этого адского месива. Наверное, я должна быть благодарна ему, за то, что он спас Сани. Да только в этой моей воображаемой картине непроизвольно вырисовывается совсем другой сюжет: площадь, устеленная ранеными, убитыми, испуганными и растоптанными, охмелевшая земля всасывает их пенящуюся кровь и изрыгает липкую грязь на конвульсии полумертвых и агонии полуживых, воздух дрожит от их стонов, завываний, воплей, и разрывается при каждом новом залпе непрекращающейся пальбы – и в стороне от всего этого ада, как огромный черный стервятник, стоит он – Рамин. Стоит и терпеливо ждет, пока не падет наземь его самая желанная добыча – его chaq’…
Знаю, что сужу предвзято…Он бросился вытаскивать Алессандро, рискуя собственной жизнью. Он поступил как герой. В конце концов, он поступил как брат…
Но, только, спасая его жизнь, он забыл спасти его душу, которая так и осталась в этом аду.
Винит ли Алессандро себя в том, что случилось с теми людьми? Конечно, да. Еще безжалостней обвиняет он себя и в смерти падре Фелино, которого застрелили в тот же день. Винит он себя и в чем-то еще, о чем я и не догадываюсь. Но его чувство вины парализовано, обездвижено, сжато, как ком в горле: в надломанном голосе, в недосказанных словах – я ведь замечаю это, вижу постоянное напряжение, которое не уходит даже, когда ему все-таки удается заснуть. Наоборот – усиливается.
Губы дрожат, подергиваются веки. Дрожь охватывает его тощее тело. Резко запрокидывает голову, бормоча что-то, словно одержимый. Ему снится кошмар, а я не хочу будить его, ведь он не поспал еще и двух часов…Потом громкий прерывистый вздох, рывок, словно кто-то невидимый всадил ему в спину нож. Он открывает глаза и сразу отворачивает от меня истомленное лицо, проводит по нему ладонями, изгоняя из себя этого невидимого…
– Опять кошмар снился?
– Не помню.
Почему-то, я хочу сказать ему: «Ты не виноват»…или просто – «Вернись»…
Я молчу.
Кома… Иногда я надеюсь, что мой Сани не умер, а находится в коме. И, каким бы странным это ни казалось, именно его отягощенную воспоминанием, воспаленную и больную совесть я воспринимаю как синдромом жизни. Именно на нее я украдкой уповаю, когда хочу сказать «ты не виноват», но молчу.
Он встает, одевается, уходит. А время еще 5 утра.
5 утра…
Эти мысли мучают меня, потому что время 5 утра. Час волка. Час хищника. В каждом из нас живет хищник, и если его не поить чужой кровью, как это делает мой отец…или даже Рамин, он начинает глодать нас самих. Предрассветный час – час агонии.
А днем все пройдет. Днем я попытаюсь убедить себя, что ложь – правда, а правда – ложь, и искренне буду играть роль нас прежних. Хотя опять придется играть за двоих…
Вот поэтому мне легче сейчас находиться с Анхелем. Ему не нужно играть в самого себя, чтобы смеяться, шутить и верить.
И он уж точно не террорист. Какой там! Даже тот случай… Да что тот случай? – Подумаешь – тупая бессознательна месть за сестру. Не больше. И то, что мы устроили в «Континентале» после – его это ни капли не изменило. Он не террорист. Он обычный бесшабашный 20-летний парнишка: мечтает о светлом будущем, смеется, шутит, дурачится.
И делает бомбы.
Это то, чем он занимается в данный момент.
Я тихо стучусь, прежде чем войти к нему. Нужно стучаться осторожно, но так чтобы он услышал. Нельзя появляться внезапно, нельзя пугать…Вообще-то, входить, пока он работает, тоже нельзя. Но он всю ночь просидел в этом чертовом сарае, трудился. Пора ему сделать перерыв. К тому же, мне самой просто необходимо с кем-то поговорить. Даже не с кем-то, а именно с ним – с Анхелем, с бесшабашным парнишкой, который одним своим видом развеет мою назревающую как опухоль тревогу и избавит от этого омерзительного газетного словечка, обжигающего будто пощечина – «террористы».
Как нарочно, я застаю его в самый ответственный момент – он опускает колбу с гремучей смесью в короб. Медленно, аккуратно, не дыша…Только руки недозволительно дрожат. Зайди я минутой раньше, я бы заставила его прекратить работу немедленно. Но сейчас поздно останавливать. Пусть завершит начатое. Хорошо, что он не отвлекся на мое появление. Хорошо, что он действует осторожно, не торопясь. Выдержка у него есть и нервы крепкие. Вот только руки…
Я, не отрываясь, слежу за его руками, за гибкими мальчишечьими пальцами, зажавшими смерть…Я тоже не дышу. Кажется, даже сердце замирает от напряжения.
Вот колба целиком прячется среди шрапнели. Анхель разжимает пальцы…Я чувствую его нестерпимое желание одернуть руки прочь от этой адской штуки… Но если он это сделает…
Он этого не сделает. Он хорошо знает свое дело. Не в первый раз орудует со взрывчаткой. И нервы у него крепкие. Именно поэтому Рамин доверил изготовление бомб ему.
Анхель накрывает короб крышкой. Его кисти двигаются все также медленно, но рывками.
– Сделано, – докладывает он (для меня это звучит как сигнал «отомри»), – Чертик в коробке.
– Все. На сегодня хватит.
– Но нужно еще хотя бы один сделать.
– Ты слышал, что я сказала?
– Но Рамин сказал…
– К черту, что там сказал Рамин. Я говорю тебе как врач. Отдыхай.
– Ладно, немного передохну, – нехотя говорит он, будто делает мне одолжение, – Но потом вернусь.
– Потом, видно будет. Пошли на улицу, проветришься.
Светает. Легкая пелена облаков быстро рассеивается, обнажая разрумянившееся ото сна солнце. Оно выглядывает лениво и робко, разливаясь на горизонте маслянисто мягкой негой. И утренняя прохлада, которая, впрочем, скоро уступит место знойному дню, еще шелковисто окутывает кожу, и голова кружится от томной эйфории этих ветреных ласк.
Анхель выбегает во двор, ополаскивает руки в чане с ледяной водой, жадно зачерпывает, окунает лицо. Потом скидывает рубашку, подставляя крепкую грудь для нежного прикосновения солнца. Лучи игриво поблескивают, запутавшись в его влажных кудрявых вороных волосах, крошечными радугами вспыхивают алмазы капель, инкрустируя мускулистое бронзовое тело. Анхель вздыхает…Так беззаботно и легко, будто это вовсе не он десять минут назад изготавливал бомбы.
Почувствовав на себе мой взгляд, он смущенно улыбается, снова надевает рубашку.
– Не смотри так. А то Алессандро меня убьет.
Я невольно улыбаюсь.
– Успокойся. Я на тебя не ТАК смотрю.
– А как?
– Просто любуюсь. Ты знаешь, что ты чертовски красив.
– Знаю, – смеется он.
– Ну! Только не зазнавайся!
– Кто зазнается? Я? Вовсе нет! Просто знаю, что я красивый, умный, смелый, сильный и невероятно скромный.
– А еще ты умеешь улыбаться. А я так истосковалась по нормальной искренней улыбке.
Анхель опускает мне на плечо горячую влажную ладонь, дружески похлопывает – жест (увы, это я знаю наверняка), позаимствованный у Алессандро.
– Не волнуйся, скоро мы все сможем нормально жить и радоваться жизни.
– Ты так думаешь?
Он удивленно смотрит на меня. Бесхитростно и по-детски наивно звучит его вопрос.
– А ты разве, нет? Если не верить, то зачем всем этим заниматься?
Я пожимаю плечами, понимая, что не смогу возразить ему.
– Конечно, верю. Просто устала ждать этого светлого будущего. Устала на него надеяться.
– Мы не надеемся на светлое будущее – мы его воплощаем. Это ведь слова Алессандро?
Я киваю. Да, точно, и это его слова. Только эти слова он произносил до того, как стал другим. Но Анхель этого не знает. Да и ни к чему ему это знать.
– А теперь прекрати думать о плохом, закрой глаза и вдохни глубоко- глубоко… Ты чувствуешь ветер перемен?
Будто в подтверждение его слов, действительно усиливается ветер, принося с собой пьянящий аромат прелых трав с полей и блаженную прохладу.
Мы располагаемся на крыльце. Молчим, стараясь каким-нибудь неловким движением не разрушить хрупкое очарование этого ясного утра с тонкотканным узором дурманящих запахов, с розово-золотым свечением, затопившим всю долину, с беспечным щебетом вольных птиц, пронизывающих небесные просторы, с томной обволакивающей свежестью, рожденной мирным и свободным дыханием далекого океана… С Анхелем – его глазами, прикрытыми от яркого солнца, от удовольствия и от усталости, и его скромной улыбкой, лишь слегка подернувшей уголки губ, но при этом настолько настоящей, естественной и живой, что мне самой хочется жить. И так хочется погрузиться в этот миг, проникнуться им, впитать в себя все предлагаемое им блаженство вплоть до мельчайшей частицы, а, между тем, так страшно упустить его, растерять, дать ему просочиться сквозь пальцы и уйти в то ледяное бесчувственное небытие, куда уходит каждый радостный миг времени, не убранный в сокровищницу памяти.
«Страх не стать счастливой не даёт шанса насладиться сиюминутным счастьем – точно так же как и страх смерти толкает прямо в ее объятия» – думаю я.
– Ты выйдешь за него замуж?
Я настолько погружена в свои мысли, что и голос Анхеля звучит, словно откуда-то изнутри меня.
– Что?
– Ты, ведь, выйдешь за Алессандро, когда все это закончится?
Этот нелепый инфантильный вопрос озадачивает. И совершенно точно – его задал Анхель, потому что я бы никогда не осмелилась спросить саму себя об этом. Неловкость ситуации усугубляет и то, что как-то внезапно я понимаю – его голова лежит на моих коленях, и я бессознательно тереблю эти непослушные черные кудри. Он смущен, но продолжает лежать и смотреть на меня, в ожидании ответа.
– Я как-то не думала об этом… Наверное.
– Почему «наверное»? Разве ты этого не хочешь?
– Хочу, но… Пусть сначала все это закончится, а там уж видно будет.
– А я точно знаю, что женюсь. Серьезно, как только закончим это дело, сразу женюсь.
Я смеюсь его радужным мечтам, его уверенности.
– Да ну! И на ком? У тебя разве есть девушка?
– Есть. Встретил ее там, в горном селении. Ее зовут Мария.
– А…да, кажется, припоминаю… Она милая. Почему же ты сразу на ней не женился. Почему не остался там, с ней?
Он подергивает плечом.
– Отчасти из-за Тересы, я ведь не мог ее так бросить… Хотя уже и не знаю, нужен ли я ей вообще. А с другой стороны, дело во мне самом. Я не мог оставаться в стороне, когда творится такое. Понимаешь, я хочу для нас с Марией лучшего будущего в стране, свободной от нищеты и угнетения. В нашей освобожденной стране. Чтобы не скрываться в этом богом забытом месте, а жить открыто, и не в трущобах, а в центре города, в нормальном человеческом доме… И никого никогда не бояться. Вот когда мы сделаем это возможным, я на ней точно женюсь! И наши дети будут свободными и счастливыми!
– Пригласишь меня на свадьбу?
– Обязательно!
Я снова играючи треплю его кудри.
– Ну, братишка! Ну, ты Дон Жуан! А чего это ты тогда разлегся у меня на коленках?! Как-то это нехорошо, раз у тебя уже невеста имеется!
Он смущается еще больше. Но не встает.
– Да, что такого?! Просто так удобно лежать…и приятно.
– Ну да! Знаю.
Мы хохочем, так непринужденно и весело, и болтаем еще о чем-то далеком и прекрасном, о чем-то другом, новом и светлом, о чем-то другом, обитающем в мире грез и мечтаний, и снова радостно хохочем, пока наш союзник – ветер перемен, устав от нашего празднословия и порядком освирепев, не начинает презрительно бросать нам в лица пучки жухлой травы, сухие листья и пыль. Она слепит глаза, скрипит на зубах, и напрасно мы пытаемся отгородиться рукой от внезапно разбушевавшейся непогоды, только яростнее завывает стихия, и вот уже не я треплю густые кудри Анхеля, а этот озверевший ветер: нещадно взлохмачивает, вгрызается, будто пытаясь вырвать.
– Вот он, твой ветер перемен! – говорю я сквозь гул пыльной бури, прикрывая рот ладонью.
– Что?
– Говорю, не все перемены к лучшему!
– Бывает! Ты иди в дом!
– А ты?
– Надо кое-что доделать, пока Рамин не вернулся. Иди. Я не долго. Обещаю.
Да, не все перемены к лучшему… И сейчас я думаю не о ветре.
III
Нет тебя смутило даже не то, что твой брат вдруг оказался белым – об этом ты, кажется, вообще тогда не подумал. Но первое, что резануло сердце – это убогое состояние малыша: сплошь кости, обтянутые пятнистой и бурой от синяков кожей, перебинтованное тело, лиловые следы на шее, на запястьях, и глаза – глаза, завязанные черной тряпкой. Когда отец подъехал вместе с ним к дому и осторожно передал его тебе в руки (мальчик даже не мог сам устоять на ногах – настолько он был слаб), а ты инстинктивно прижал его к своей груди: такого маленького, легкого и хрупкого… И то ли от неведомого доселе сострадания, то ли от еще от какого-то чувства, не умещающегося в пределы одного слова – чувства, похожего на брошенного котенка, прокравшегося в сердце, и свернувшегося там дрожащим живым клубком – ты уже в этот самый момент подумал «Мой младший брат – мой chaq’». Отнес его в дом, усадил перед собой на топчан, и, не смотря на запреты отца – «не трогай, у него пока глаза болят, и свет пугает» – стянул-таки с мальчика эту жуткую повязку. «Не нужно боятся, chaq’. Все хорошо. Оглянись – ты теперь дома», – говорил ты, а сам никак не мог решить, нравится ли тебе этот обнажившийся взгляд тающего ледника, или страшит…
Был уже вечер, солнце почти полностью скрылось за горизонтом, и, поскольку ты еще не успел разжечь лампадку, в доме царил приглушенный ласковый полумрак. Никакого яркого света. Но, судя по всему, даже эти отголоски заката были слишком ослепительны для привыкшего жить в кромешном мраке малыша. Сначала он долго и часто моргал, потом, наконец-то сумел сфокусировать зрачки на твоем лице, сощурился. Из-за этого создалось странное впечатление будто он не посмотрел на тебя, а боязливо и робко подглядел откуда-то изнутри своего далекого мирка…Спустя минуту начал привыкать, приспосабливаться. Чуть всколыхнулись его губы, задавая неведомый вопрос.
– Что? Я не расслышал.
Он повторил. И снова – без единого звука.
Ты лишь пожал плечом:
– Ладно. Мы еще научимся понимать друг друга.
Скрипнула дверь – это отец, расседлав лошадь, вошел в комнату, и, встрепенувшись, братик в тот же миг мышкой шмыгнул под стол, забился в самый угол…Как обжигающе холодно сверкали оттуда его округленные страхом глазенки, как пристально и неотрывно следил он за каждым отцовским движением! Тогда Сани еще боялся папы. Он многого боялся. Нужно было что-то делать. Не жалеть – жалость это унижение, а помочь. Не щадить – пощада – это признание своего превосходства, а спасти. Ты это понимал…В отличие от отца, ты понимал, придется быть жестким. Самого коробило от того, что приходилось делать и говорить в тот самый первый день, но так было нужно.
– Рамин, оставь! Не дави на него. Он не выйдет к нам, пока не привыкнет, хоть и голоден, – с горечью сказал отец, разливая по чашкам разогретую похлебку, – иди, поставь ему тарелку туда, под стол и отойди подальше.
– Нет. Мой брат – не собака, чтобы питаться с пола. Захочет есть, сам вылезет, – категорично заявил ты.
– Он пока не сделает этого. Разве не видишь, как он боится!
– Это его проблемы. И его решение. Что сильнее – голод или страх?
– Рамин, он уже несколько дней не ел и пережил такое, что даже трудно представить! – настаивал отец, – Посмотри, в каком он состоянии! Видишь же, как он дрожит?
– Выползет оттуда и поест. А если предпочтет и дальше сидеть там, вжавшись в угол и трясясь от страха, то умрет с голоду.
– Как ты можешь быть таким жестоким?! Не смей с ним так обращаться!
– Я обращаюсь с ним, как с человеком, и хочу, чтобы он вел себя, как человек, а не как затравленное животное. И я не буду потакать его страхам.
А когда отец, махнув рукой, все-таки сам понес тарелку под стол малышу…Как же это тебя взбесило! Как вскипело в крови! Грубо отобрал, поставил обратно наверх, на столешницу и тут же, не успев и слова произнести, получил от отца увесистую оплеуху.
– Ладно… – прошептал ты, потирая горящую щеку, – Раз он будет есть с пола, как животное, так, может, пусть и спит на улице?! Нечего диким зверям делать в доме!
Ты сказал это, зная, что снова получишь пощечину. Ты сказал это специально отцу, даже не подозревая, что твой братишка все понимал. Каково же было твое удивление, когда посередь ночи, после того как беспокойно ворочавшийся на своем топчане отец, наконец, задремал, маленький дикарь выполз из-под стола и, придерживаясь за стену, поплелся прочь из дома. Ты выждал минут 15, решив, что мальчик просто вышел по нужде. Но тот все не возвращался. Тогда, накинув куртку, ты отправился следом за ним. Озноб пробрал до кости, как только ты вышел на улицу, протяжно завывал ветер, и моросил мелкий дождь, похожий на сыпавшиеся с небес миллиарды ледяных игл. По крошечным следам босых ступней, оставленным в отсыревшей почве, которые, впрочем, вскоре превратились в бороздки от коленок и отпечатки ладошек, ты быстро нашел Алессандро…Братик как раз дополз до обрыва, и замер, съежившись на самом краю: полураздетый, в одних подранных брючках, которые едва держались на его трясущемся от холода костлявом теле. Что-то щемящее и пугающее было в его облике, что-то потустороннее и неподвластное отражалось в его заворожено наблюдающих за всполохами зарницы глазах.
– Ты чего здесь? Пошли в дом, – тихо проговорил ты, приближаясь к нему. Настойчиво потянул Сани за руку. Тот резко выдернулся, чуть отполз в сторону.
– Да ладно тебе… Зачем себя так ведешь? Себе ведь хуже делаешь.
Малыш проигнорировал твои слова. Или не понял?
Нет, все он понял… Все.
– Это из-за того, что я тогда сказал? Собираешься теперь ночевать на улице? – догадался ты.
Сани опять не ответил. Даже не кивнул. Но этот гордый обиженный взгляд, которым мальчик наградил тебя, был красноречивее любых слов.
– И ты думаешь, я оставлю тебя здесь одного? – сел рядом с ним, – Ну уж нет. Мы теперь братья. Значит, либо мы оба люди, либо оба звери. По-другому – никак.
Ты стащил с себя куртку, накинул ее на дрожащие плечики Сани.
Аметистово-лиловые вспышки опаляли облака, словно крылья бабочек, отчаянно бьющиеся изнутри о тугую сеть паутинного кокона, и крался к пойманной добыче гигантский невидимый паук, нисходя голодным раскатистым рыком грома. Над долиной, над лесом, над вершинами гор полыхала эта жестокая небесная баталия, окроплявшая землю бесцветной ледяной кровью. И еще долго вы сидели рядом друг с другом: неподвижные, безмолвные, зачарованные… А потом белый малыш придвинулся, прислонился к тебе, доверительно прижав головку к твоему плечу. Его дыхание было ровным, медленным, убаюкивающим… «Все позади, chaq’. Теперь мы вместе. По-другому – никак. Отдыхай» – прошептал ты, подхватывая брата на руки…



