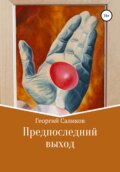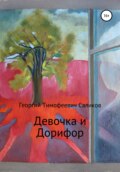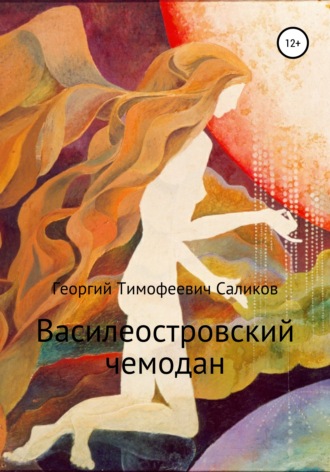
Георгий Тимофеевич Саликов
Василеостровский чемодан
Помещеньеце согревалось быстро. Уже и раздеваться пора. Босикомшин снял пальтишко и ощупал карманы. Они были, в общем-то, обычными, накладными. И без дырок. «Си, как из него мог ключ выпасть»? – вспомнил вдруг наш герой о недавнем происшествии у борта корабля, но без всякого сожаления. Но природное любопытство всё же защекотало в левом полушарии мозга, и токи пытливости прошли по всему телу, добавляя ему тепла помимо сожженных любимых дровишек. Впрочем, токи скоро иссякли, а взамен возникло лёгкое недопонимание выбранного им времяпрепровождения. Он вздел брови и вновь опустил их. Определённого плана и ясной нужды в каких бы то ни было действиях у Босикомшина к данному часу не оказалось.
– Согреюсь, – сказал он вслух и вставился в антикварный шезлонг рядом с печкой. Тепло мгновенно расслабило утомлённое ходьбой тело, и оно вытянулось на «длинном стуле».
Дремота взяла его и вывела на палубу. Там, дневные звёзды стали крупными и пучковатыми, а внутри каждой из них производилось, позволим себе выразиться, многомерное шевеление. Босикомшин догадался: «Ах, вот оно что! Оказывается звезда – это не единственный звук, а сама по себе уже шикарная мелодия. Значит, каждая нота не просто нота, а сложное собрание звуков – целая симфония. Значит в ней, в ноте полно всяких других ноток, и они выстраивают собой затейливые маленькие симфониетты, и так далее, одно в другом, одно в другом»…
Тем временем шевеление в звёздах, будто услужливо взбивало да уминало уютное вместилище, а оно уже объяло нашего мыслителя-сновидца, всего целиком.
ГЛАВА 6
Профессор Предтеченский после концерта вернулся на место пропажи ключа. «Может быть, его в щель какую-нибудь угораздило», – подумал он, окутывая себя тонкой вуалью надежды. Случается такая надежда, знаете ли, обманная. Это, когда больше желаешь надеяться, чем надеешься подлинно. Что-то вроде того, как если больше предполагаешь поесть, чем ешь по существу. Хотя, здесь-то обмана нет вовсе: ни злого, ни доброго. Ведь когда чего-нибудь предвкушаешь, то не делаешь вида, будто уже ешь со всей очевидностью или как бы даже и наелся. Хочешь, и только. Есть нетерпение, а не обман. У надежды, правда, не та природа, что у еды. Насыщения не предполагается. Вот и выходит, что если появилось желание надеяться, то оно не является предвкушением, оно лишь намерение. Хуже того, ты будто надеешься заполучить эту тёплую надежду. Чепуха. Надежда надежды… среди щелей ключа не обнаружилось… но бывает ещё совершенно отчаянное желание надежды. Вот где и есть настоящий обман. Потому что отчаяние – вообще, между нами говоря, – замаскированное жульничество, изнанка его, что ли. Когда человек отчаивается, он жестоко себя обкрадывает, да так подчистую обкрадывает, что и не замечает воровства. Не надо отчаянно возжелать надежду. И профессор прислушался к последнему совету, не стал испытывать себя на отчаянии, а просто прекратил искать пропажу именно здесь. «Найти потерянную вещь можно и не в том месте, где ты её обронил, – сказал себе профессор мысленно, – пропажа имеет привычку передвигаться, используя подручные средства». Вот видите, умный же человек. Сотворил эдакий переход от желания надеяться – к простой надежде, той, о которой не думаешь, как о материальном насыщении… Профессор, удерживая приятную мысль на поверхности памяти, взошёл по лестнице на равнину набережной и побрёл в сторону Благовещенской площади, не желая ещё раз ходить Дворцовым мостом. Что-то его отсюда оттолкнуло.
Тысячу двести шестьдесят с чуть-чутью метров от моста до моста Профессор Предтеченский превратил в пятнадцатиминутное переживание всех чувств чисто во времени. Привычное с детства пространственное восприятие спало с него и улетучилось. Его тело теперь обтекало единственное и непорочное время, без пространственной примеси. Он даже интуитивно чувствовал, как оно обтекает. А материальные органы пространственных чувств попросту отключились. Временную толщу между мостами продевал нудный такой тон, возможно, один из тех звуков, что пребывали в сердцевинной музыке. Он, оказывается, и в действительности прошивал собой не только нечто между мостами, но и самое сердце Профессора, создавая невыразимо щемящее состояние. Но, едва свернув на Благовещенский мост, Клод Георгиевич вдруг будто очнулся после странного переживания и сходу открыл для себя красоту Главного городского пространства, одновременно вновь обретая и собственное объёмное тело. Оно теперь обволакивалось обычным ветром, по обыкновению гуляющим вдоль простора Невы. Это великое пространство даже несколько поглощало профессора, и он радовался тому поглощению – с покорностью и самозабвением. Так, намеренно медленно пройдя удачно здесь возведённым мостом, он снова неведомым для себя усилием переменил восприятие мира и уже не чувствовал повелительного течения времени. Время умчалось куда-то, в перспективу пространства и обратилось незаметною точкой. Профессор теперь купался исключительно в девственном, не тронутом временем пространстве берега реки. Он будто бы шёл, но совершенно не предполагал для того присутствия времени. Ходьба вселяла в него удивление совершенной легкостью, словно и не он шёл вовсе, а всякое пространство переливалось вокруг, продолжая поглощать. Пространство увлекало профессора, то ли каким-то рукавом бескрайней спирали-воронки, то ли красотой. А, может быть, – бесчисленными родниками пыталось пробудить в нём круги волн? Те волны, неподвластные времени, раскачивали его на себе, а иногда и подталкивали чуть выше голов редких прохожих. В один из таких моментов пребывания на гребне волны, Клод Георгиевич, двигаясь мимо бронзового Крузенштерна, потрепал его за ногу и проговорил: «Молодец, Крузик», представив неохватный взору круг земного пространства, пройденный знаменитым адмиралом.
– Дядя, дядя, сними меня отсюда, – слышит чуткое ухо музыканта детский вопль со стороны импровизированного кладбища кораблей. Кроме профессора, других дядей на месте не оказалось. Только пара тёть и собаки виднелись в зоне слышимости детского призыва.
Предтеченский приземлился, потом, превозмогая вернувшееся обычное время и пространство, преодолел и палубу старого баркаса, давшего крен на один борт и на корму, перелез на соседний бывший парусник и снял мальчика с огрызка бушприта, как того и требовал потерпевший. Перейдя на твёрдый берег и вертикально установив на нём ребёнка подальше от воды, профессор незамедлительно снова полез по кораблям. Его тянула туда неведомая сила, сродни то ли с гравитацией, то ли со страстью, то ли с простым любопытством. Зачем? Надо, и баста. И совсем даже не какой-нибудь безвестный предмет имел столь притягательное значение. Наоборот. Что-то, по-видимому, чересчур знакомое мелькнуло среди его поля зрения в момент снятия дитяти с бушприта. А? Да, наверняка, то клочковатое и усеянное чем попало обозначенное нами поле, припрятало в себе заведомо привлекательную вещицу, оснащённою таинственной природой притяжения, и чуть-чуть приоткрыло её краешек, ради интриги. Она-то и потянула профессора к себе.
– Дядя, дядя, ты особо далеко не залезай, а то никто тебя оттуда не снимет, – сказало дитя.
Чемодан с куклами торчал на том же месте, где его обнаружил Босикомшин часами двумя ранее. Но до него от «дяди» простиралось расстояние по воде, примерно с десяток кабельтов, как говорят моряки.
ГЛАВА 7
Однако слишком долго на длинном стуле Босикомшину поспать не пришлось. Дровишки прогорели, и сразу стало холодно. В одночасье прекратили земное существование любимые поленья и любимое пламя. Также пропали не менее любимые сны. На их земное место заступил кругленький холод, свёртывающий в калачик и самого влюблённого. Открыв глаза, Босикомшин всё ещё не хотел осознавать кончины любимых вещей. И холод всё круче и круче закруглял его тело и его мысль. «Конец», – проговорил про себя скорченный хозяин леденеющего помещения. Вставать не поднималось, и лежать не вытягивалось. Свёртываться туже было некуда. Ресурс закругления иссяк. «Конец», – повторил он и смело разжался. Сразу же прошла дрожь по спине и по икрам. Босикомшин вспрыгнул и поиграл всеми мышцами, подбавив к дрожанию ещё и потряхивание, надел пальтишко и, продолжая разночастотные вибрационные движения, вышел на палубу.
Там его взгляд и встретился со взглядом профессора Предтеченского. Тот сидел на палубе корабля, ещё более далеко отстоящего от берега. Сидением служила старая автомобильная покрышка – из тех, которые обычно висят по бортам судов для амортизации в момент причаливания. На том корабле и вообще в той стороне, из-за сложного попадания в те места без тренировки и навыка, люди бывали исключительно редко, поэтому Босикомшину пришла необходимость ещё и вздрогнуть. После чего вибрация немедленно улеглась.
– Такой большой город, – сказал профессор, – а у меня впечатление, будто в нём всего два жителя: вы да я.
– А чемоданчик, никак ваш будет? – спросил Босикомшин, то ли соглашаясь с впечатлением профессора, то ли вовсе просто так. И опустил взгляд в воду.
– Чемоданчик? А, да, тот предмет, похожий на чемодан, и правда был моим, но стал мне вроде бы и ни к чему; а вот ключик, видите, ключик там лежит, так это я его случайно туда уронил, да не заметил, и теперь в квартиру не попасть.
– Ах, так это, оказывается, вы его туда уронили. А то я сразу не догадался; и действительно, дырок нет в кармане, и значит, он по собственной воле не мог выпасть; а если именно вы взяли да уронили, тогда понятно. И как я сразу не догадался? – Босикомшин говорил, утверждая в себе мысль о том, что имеет дело с магом, и похлопывал рукой по накладному карману пальтишка, лишний раз удостоверяясь в его цельности и не поврежденности. Но профессор не мог видеть того выразительного намёка, поскольку находился с другой стороны собеседника, скорее вынужденного, чем желаемого.
– А в большом городе только вы да я, получается оттого, что остальной народ сидит в троллейбусах, которые не ходят, – ответил Босикомшин вроде бы на впечатление профессора, но заодно вкладывал в слова исключительно ему одному известный смысл.
Предтеченский не обнаружил остроумия в словах горожанина-профессионала и продолжал смотреть на прежде потерянный им ключ.
– А я, знаете ли, на вас подумал, грешным делом, – проговорил он, не отрываясь взглядом от ключа.
– Был такой коротенький эпизод, версия, – продолжил он, пересев на корточки, – но я сразу отмёл её.
– Ха-ха, оказывается правильно, что отмёл, – снова сказал профессор, не отрывая глаз от ключа, – факт, он везде факт. Пропажа – вон она, в чемодане, как вы изволили назвать мой бывший инструмент.
– Что говорить-то зря, доставать надо, если нужда того требует, – повеселев от такого поворота дела, сказал Босикомшин и перегнулся через борт, повторив тот злосчастный момент выпадения ключа из безупречно целого кармана пальто: случая, необъяснимого в ту пору, а теперь, как говорится, поставленного на место.
– Так не достать. Орудие необходимо, – профессор, поднялся с корточек и выискивал глазами названный им необходимый предмет.
А Босикомшин внезапно нырнул в обжитую собой каморку и немедля вынес оттуда новенькие доски, приготовленные для приспособления иного, другое предназначение у этих досок: в общем-то, уничтожение взамен приобретения кратковременного тепла.
– Вот.
– Ну, нет, нужен крючок.
– Сделаем.
Босикомшин снова исчез в каюте и вскоре возник с молотком и гвоздями.
– Вот.
Он в торец доски вбил гвозди и загнул.
– Хе-хе, ну попробуйте, только пусть он у вас не выпадет, как выпал у меня, – сказал профессор без тени всякой надежды: ни простой, ни обманной, ни отчаянной, ни надеждой на надежду.
Босикомшин опустил доску с гвоздями вниз и коснулся чемодана. Тот мгновенно отпрянул и подался вдоль борта босикомшевого судна вверх по течению. Потом он мягко обогнул катер профессора и двинулся поперёк Невы, подобно парому на невидимом тросе, к противоположному берегу.
– Во даёт!
– Даёт, браток, ох, даёт.
– А он что у вас, самоходный?
– Именно самоходный, сам ходит, не управляемо.
– А зачем?
– Чего зачем?
– Того зачем. Почему вы его таким сделали? Зачем он ходит сам, а вам не повинуется?
– Э, да он повинуется, повинуется, здорово повинуется, и знаете, кому?
– Знаю.
– Эка, прямо-таки и знаете?
– Догадался: он покоряется звёздам.
– Ух, ты, и верно, звёздам, ну, вы и догадливый.
– Это я просто так сказал, потому что думал о них сегодня. И ещё они мне снились. Днём. Тоже сегодня. Минуту назад.
– А, так это совпадение.
– Угу, чисто случайное.
ГЛАВА 8
Возможно, профессор сам навязался посидеть у Босикомшина.
– Да, заходите, конечно, – владелец каюты сконфузился и доску чуть не выронил в воду. Но, заметив неожиданную слабину в руках, стиснул пальцы покрепче. Он уже давно мог бы поднять её обратно на палубу, но что-то не позволяло ему осуществить простое движение. Растерянность? Сожаление? Что же делать, когда по руслу реки уплыли предметы, которые уже начали, было, активно участвовать и в его русле, жизненном? Руки опустились, но доску не выпускали. Она лишь кончиком окунулась в воду.
Пока профессор пробирался в обход, с кораблика одного на судёнышко другое, Босикомшин всё держался за доску. За доску судьбы, что ли? Эта доска – печать судьбы? Таинственные линии на ней действительно знаменовали неисповедимые пути. Вот одна длинная линия, толщиною изменяемая, а другая ровная, но, не доходя до конца, поворачивается обратно и теряется. А вон ещё много мелких чёрточек, они появляются не из чего и пропадают в нём же. Те, что прямые и длинные, так они прерываются еле заметными штрихами и уже не могут претендовать на идеал. И трещина есть на доске. Сразу не заметишь. Да не одна. Босикомшин и вздохнул вдруг шумно, с прерывистостью, видя судьбу далеко не совершенной. Так, расслабив жилы в пальцах, он самопроизвольно отпустил печать судьбы в вольное плаванье. Та, поднырнув под накопленный тут язык мусора, состоящего из сухого камыша, пробок и пластиковых бутылок, приняла неколебимо горизонтальное положение и двинулась в сторону моря по узкому проходу меж мёртвых судов. А на переднем кончике этого нового плавсредства, оказавшегося единственным подвижным средь кладбищенских экспонатов, зацепившись за гвоздь, висел, поблёскивая наполовину под водой, золотистый ключ от двери квартиры профессора Предтеченского. Он будто символизировал поднятый якорь новоявленного судна. Но никто не увидел здесь красоты обновления сцены, поскольку профессор уже удалился, а Босикомшин в тот же момент обернулся назад.
– Эка история, – Босикомшин обернулся назад, разыскивая взглядом профессора. И разыскал. Тот как раз подходил к нему из-за спины, – глядите-ка, и доска уплыла. Только не своим ходом, как чемодан, а по течению. – Он машинально показывал рукой куда-то за борт, но смотрел на пришельца.
– Да, верно, что было, то сплыло, – ответил профессор, тоже не глядя в сторону доски с крючком и с тем, что на нём.
И оба прошли в каюту.
– Что же, дорогой мой встречник. Если целый день нас сводили да сближали и даже сталкивали, то, наверное, не просто так. В подобном предприятии, думаю, смысл неразгаданный есть. Звёзды, говорите? О них вы размышляли, и они вам снились? Значит, совпадение произошло нарочно.
– Я и не сомневаюсь, что нарочно.
– А хотите, я вам расскажу о чемодане?
– Хочу. Нет, я не из вежливости говорю, я и вправду, по-настоящему хочу. Но подождите немного. Печку затопим? Дрова имеются, – и Босикомшин с большим удовольствием стал разделывать теперь уже единственную доску. Сначала он старательно расщепил деревянный предмет по таинственным линиям судьбы до палочек такой толщины, при которой их достаточно разламывать через колено. И колено он тоже отдал в жертву удовольствия. Немножко больно, да оно того стоит. Хорошая оказалась доска – на целую затопку.
– Щас.
И вновь загудело пламя в печи. Двое мужчин оказались в окружении всех классических стихий: подле огня, гудящего в воздухе, в железном корабле, сидящем в воде на земляной мели.
– Давайте про чемодан.
– Это, знаете, такой инструмент, прибор для преобразования перспективы.
– Телескоп, что ли?
– Нет, телескоп меняет фокусное расстояние, угол зрения, но перспектива сама по себе сохраняется. А мой прибор преобразовывает зрение. Ну, не человеческое зрение, а зрение прибора. Его он делает цилиндрическим с параллельными лучами.
– Как у стрекозы.
– Может быть. Не совсем. У неё всё-таки фасетка линзевидная, фокусируется там свет. Есть и ходы параллельных лучей. Не знаю, особо не изучал. Хотя, аналог есть. Глаз у стрекозы умеет различать цвет. Но в моём аппарате создаётся вход лучам только параллельно. И с нацеливанием на звёзды. Каждая трубочка на миг будто вонзается в звезду и получает от неё колоссальный световой импульс. Потому что перспектива исчезает, и трубочка видит звезду как бы в упор.
– Ага, лазер. Гиперболоид инженера Гарина.
– Ну. Лазер излучает свет, а этот прибор, наоборот, принимает. Он – приёмник света. Есть же приёмники радио. А этот – света. Он может разглядеть в упор даже очень далёкую звезду. На миг. Только вот конфуз произошёл у меня. Вместе со светом принимается и жар. Хе-хе. Что произошло в трубочках, я и сам не понял. Делал одно, вышло другое. Затеялся у них там приём энергии через неизвестного рода проводник или, как говорится, сверхпроводник, передающий эту энергию от любой звезды, несмотря на расстояние. И только на звёзды настроен он, более ни на что. Каждая трубочка донышком принимает на мгновенье температуру в миллион градусов. Это происходит именно в тот миг, когда она точно попадает зрением на какую-нибудь звезду. И свет видит и жар принимает. Вы же знаете, – звёзд очень много, потому и вероятность попадания на одну из них довольно большая. Тем более, качаясь на волнах, мой приёмник постоянно в движении, а значит, беспрерывно шарит по небу. Вот так, получая сконцентрированные энергетические импульсы от звёзд, мой прибор или «чемодан», как вы его прозвали, и передвигается. Моторчик у него простой, реактивный.
– Так он может и печкой работать, – обрадовался Босикомшин, – вы же говорите о миллионе градусов.
– Конечно. И печкой.
– Жалко, упустили, – Босикомшин с горечью смотрел на догорающий огонь в печи, – а то бы и погрелись.
– А я и такое пробовал. Только не в помещении, конечно, а на природе, под открытым небом. Подвесишь его там, где ветерок дует, он покачивается на ветерке и греет.
«Правда, я мечтал тогда о другом, – подумал про себя Клод Георгиевич, – я представлял себе другой механизм и совсем для других целей».
– Так это же колоссальное изобретение! Нобелевская премия, а вы его выставили в Неву. Зачем?
– Да затем, что не нужно ничего такого. От подобных изобретений одна беда, и более ничего.
– Не знаю, какая беда. И свет, и электричество, и движение, и тепло. Ведь до вас ещё никто не додумался иметь пользу от звёзд. Солнцем единым питаемся. А от звёзд ещё никто не питался. Вы первый. Неисчерпаемый кладезь! Наконец-то появился толк от этих великанов. А то, что же получается – миллиарды огненных шаров, совершенно никчёмных и бесполезных, заполняют всё вокруг. Но теперь нам не грозит никакой энергетический кризис. И жечь ничего не надо. Оно ведь главнее всего на свете. Ничего не надо жечь. Огонь вообще не нужен. Все эти дрова, уголь, нефть, – сущая первобытовщина!
Босикомшин сделал паузу и посмотрел в окошко на Неву.
– А можно и просто плотик самоходный сделать. Чтоб через Неву и без мостов перебираться. А? – он прищурил глаза, – и не просто плотик, а с удобствами: с печкой, электричеством. И корабль можно… да, но корабль одному не построить, а вот плотик с домиком…
– Ну, вообще-то я не собирался изобретать аппарат для, так сказать, бытовых удобств. Я делал музыкальный инструмент, вернее, проигрыватель. Звёздный проигрыватель. Это, когда проведёшь по небу приёмником, и каждая звезда, их свет преобразовываются в звук. Получается музыка. Проводишь так – одна музыка, проводишь иначе – другая. И нет никакого повтора. Музыка разная. Каждая трубочка ловит случайную звезду. Одновременно несколько трубочек ловят разные звёзды. Производится совершенно естественная музыка, ранее никем не слышимая. И она меняется, меняется. Я хотел ещё соединить механизмы, двигающие трубочки-проигрыватели с механизмами других трубочек, ловящих ветер. Об этом я уже успел сказать вам, когда вспомнил о том, как пробовал заставить чемодан работать печкой на природе, под открытым небом. Я подвесил его там, где ветерок дует, он покачивался на ветерке и грел. Но я представлял тогда, будто начинает играть орган. Ну, куда там органу до такого звучания. Всё естественно – звёзды и ветер… Звёзды двигают ловушки для ветра, и тот извлекает звук из труб. Ветер двигает ловушки для звёзд, и они извлекают звук. Не обязательно двигать им, достаточно лишь навести на один из участков неба. Звёзды перемещаются по определённому участку и звучат. Меняешь участки, меняется музыка. Фонотека – бескрайняя… Но получилось так, что преобразовывая свет в звук, само собой получилось преобразование жара в двигатель. Такие выходят преобразования. И, вот, пока, похоже… похоже, – Клод Георгиевич готов был сказать, что нужный инструмент у него пока до полной отчётливости создался только в воображении, но тут же сам перестроился и сказал совершенно иное.
– Похоже, я построил такой инструмент… О, сколько лет я его строил. Я боялся, что меня осмеют, я делал всё в тайне…
Профессор затих, пытаясь проделать верное движение в переполненной памяти и при её помощи воспроизвести картину прошедших мук. Движение было, конечно же, непохожим на звёздный проигрыватель. И то, что оно воспроизводило, ничем не напоминало музыку.
– Ты опять дома сидишь? А кто же работать будет? Сколько можно сидеть и ни черта не делать, – говорит жена с заученной интонацией упрёка. Она зашла домой во время обеденного перерыва или просто, выкроив несколько минут из плотного рабочего времени.
Клод Георгиевич ничего не отвечал. Он лишь быстро прятал всё, что успел нарисовать. Прятал в старинные деревянные шкатулки, постоянно расположенные в постоянном порядке под роялем. Он это делал неуклюже, заметно. Потом, также ничего не говоря, выходил из дома. И такое бывало почти каждый день. Иногда удавалось успеть уйти до прихода жены, но всё равно сосредоточение нарушалось, а вдохновение разом пропадало. Дело почти не продвигалось. Для восстановления творческого настроя – времени уже не оставалось. Было, скорее, больше желания делать, чем самого дела. Желание перехлёстывало, забегало вперёд и собой заменяло задуманное дело. Из-за него вообще всё стопорилось. Надо выбирать одно из двух: или делать, или мечтать о деле. То и другое вместе, вперемежку, останавливает дело. И желание тоже. Это большое и, думается, пожизненное несчастье – не уметь отделять такие два противоположных действия. И Предтеченский, не отличаясь от многих себе подобных людей, вроде бы творческих, но в то же время и весьма зависящих от внешних обстоятельств, никак не мог избавиться от обычного такого несчастья. Та беда крепко сидела в нём генетически. Оттого на собственно делание – времени у него не хватало. Длинные стояния мечтаний и желаний заменяли предполагаемое дело, фальсифицировали его. Получалось так: пережив в душе и в уме то, что предстояло ему сделать, он уже испытывал… ну, не усталость, а почти убедительное ощущение необязательности, ненужности работать. Выходило, будто уже высказался, а повторяться ему очень даже не любилось. Такая несильная натура профессора не позволяла имеющимися в нём скромными потугами помочь далеко идущим помыслам. Тем более, и сами помыслы, имея что-то общее с мечтами и желаниями, частенько заигрывали с ними, да так и пропадали в их огне. А уклад его жизни, вернее, бытовой части существования ещё более способствовал неделанию. Ну что с того, если он сейчас не дома. Жене-то ясно, что не нравилось. Ей не нравилось его сидение дома вместо хождения на работу. А на какую работу? Разумеется: на такую, где платят деньги. И Предтеченский каторжно вынуждал себя делать вид, будто ищет именно денежную работу. Вернее, он, порой, и по-настоящему искал. Думал найти. Но не находил. Всё то же несчастье. Желание перехлёстывало дело и оказывалось в выигрыше. Дело куда-то пряталось внутри желания, не давалось, не показывалось на глаза, подобно тому утерянному ключу от собственной квартиры. Время, как ему и подобает, уходило в прошлое, а воплощение идей простиралось в более и более далёкое будущее. Господи, о каком будущем мы говорим? У такого будущего нет и не должно быть видимой и невидимой дали. Мы же знаем, что истинное будущее, – исключительно в том случае будущее, если оно никогда не станет прошлым. Оно живо в самом себе. А то, что представляется нами впереди, но затем причудливым образом перекидывается назад, по правде говоря, и есть всегдашнее прошлое, оно имеет природу прошлого, оно оттуда и явилось пред наши очи. Ай-ай-ай, как нехорошо оно поступает. Ожидание события, непременно всегда происходящего друг за другом (время-то продолжается), такое ожидание не будущего, а именно прошлого, минующего. Если мы хотим получить желаемое в виде успеха, хотим, чтобы оно сбылось, значит, и получим только приходящего и проходящего. Прошлого мы хотим. Само слово “сбылось” потрясающе точно говорит о том: нечто состоялось былым, стало тем, что прошло. Выходит, представляемый нами мир будущего находится как раз в мире прошлого. И словечко для него давно придумано: преходящее. Все мы какие-то прошлецы. А будущее остаётся будущим при единственном условии, для нас таинственном, страшном. Условие, конечно же, и проще простого, – в конце времён… Да, будущее дюже страшновато. А прошлое полностью безопасно. Возможно, именно поэтому средь человечества существует стремление из любого будущего сделать прошлое. Для надёжности. Но профессор, конечно, попрекнул бы нас за излишнее философствование. Он ведь имел в виду то, что правильнее бы назвать попросту воткнутом в вечность предмете, для нас предстоящим в аморфно текущем варенье времени. Задумка потому что у него. Музыкант собирался прибор сделать, инструмент, хорошее орудие. Надо было завершить мечту. Сначала полагал спроектировать, а потом изготовить, воплотить исключительно без свидетелей. Когда он его рисовал на бумаге, получалось одно, а когда стал изготавливать, то получилось другое – само как-то изменилось. Вернее, прорвалось. То другое, поначалу вовсе не задумывалось. Но вдруг это «оно» в такой степени нагло возникло, что без всякого стеснения изъявляло о себе ежечасно. Ну что, скажите, в музыке есть такого очень уж полезного? Не светит и не греет. Физически не светит и не греет. А то, что прорвалось, обладало именно такими качествами: поистине и светит, и греет. Профессору был необходим преобразователь звёздного света в музыку, вообще в звук. Но сначала надо было достать свет с далёких звёзд. Здесь ключевая задача. Для решения такой ключевой задачи понадобился его математический талант, который, кстати, не затухал на протяжении бесчисленных лет музыкальных занятий и, нате вам, – сработал наилучшим образом. Так, решив задачу, без чего нельзя было бы воплотить главную идею, получив, наконец, на дне трубочек исключительно заветный свет и совершенно непредвиденный жар, всякое дальнейшее делание профессор прекратил. Главная идея потускнела. Построив модель ловушки звёздного света, а попутно и жара, профессор приостановил дальнейшее производство настоящего изделия, заслонился от жгучей мечты. Факт получения энергии непосредственно от звёзд оказался настолько сильным, что главная первоначальная идея, ради которой та энергия доставалась, – как-то изгладилась, ушла даже за черту желаемого, стала второстепенной, а то и вовсе ненужной. Звёздная энергия в чемодане. Разве того мало человеку? У него есть всё… да, да, да, – всё. Но звёзды? Потерпят ли такое звёзды? Странным образом только они поддаются проводнику, соединяющему их с «чемоданом». Вот вопросик. Мало ли чего вздумает обладатель этого чемодана. Пожалуй, всё и вздумает. Ну, звёзды, может быть, и потерпят. Пусть, даже неохотно. А кто другой? Кто?
Картина в памяти погасла.
– …Вот и любимым делам конец, – Клод Георгиевич, говоря это вслух, внутри себя заключил впечатление от воспоминаний.
– Но почему же? Я не понял. Вы же сказали, будто сделали тот музыкальный инструмент. И я точно знаю, что сделали. Я это почувствовал сегодня на мосту. Я слышал ту вашу музыку. А теперь вы о ней повествуете словами.
– Как? Вы слышали звёздную музыку? – Предтеченский воодушевился и усомнился одновременно.
– Да, я слышал звёздный оркестр, но не обычным слухом, не ушами, а так, мысленно. Я мысленно вслушивался в мысленные звуки. Я проводил взгляд по невидимым днём звёздам и слышал их музыку в прорехах между облаками. Красиво. Колоссальный стереофонический эффект.
– Боже! Откуда такое воображение? Как вы до того додумались? – теперь в голосе профессора блеснули нотки восторга.
– А оно само. Вернее, я подумал, будто это вы наколдовали. Я принял вас тогда за мага и факира вместе с волхвом, это когда наблюдал за вашими делами на спуске у львов.
– Наколдовал! Ха-ха-ха! Ну, брат! А ты говоришь, нет инструмента. Значит, натурально сделал я его, коли ты услышал звуки, им воспроизводимые. Сделал, а о том и не знал. Ну, брат, дела.
– Ещё бы! Такая музыка! Только вот порой прерывалась, как, знаете, если связь барахлит. Это из-за праха.
– Праха? – переспросил Клод Георгиевич.
– Ну да. Межзвёздная пыль. Космический прах. Он заслоняет нам большую часть Млечного Пути.
– Да?
– Да. Но ничего. Всё равно хорошо звук идёт.
– Идёт, брат, идёт. Значит, есть инструмент.
– Так я и говорю, есть он.
– Да, – профессор погрустнел, – да, есть, но, опять же, мысленно. Я имею в виду, что он только на бумаге. То, что я сделал, построил – ничтожная модель вылавливания звёздной энергии и преобразования в реактивную. Так сказать, полуфабрикат. К нему я приделал моторчик. Но испугался.
– Чего испугались?
– А я уже говорил. Все изобретения приносят беду. Вроде бы добрые, вроде бы свет несут людям, а тот обязательно может произвести один лишь прах. Подобно тому вашему праху. Космическому. Он всё может засыпать, не только Млечный Путь, а вообще все пути-дороги человеческой радости. Одним словом, пусть куклы покатаются. Того достаточно. Куклы, те не произведут ничего дурного. Только покатаются. Хе-хе, порадуются. А потом, глядишь, и утонут вместе с теплоходом, тепло-свето-ходом, звездоходом.