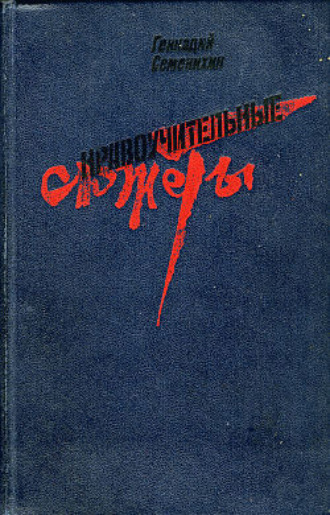
Геннадий Александрович Семенихин
Высота
– Я думал, что ты встретишь старшего брата при полном параде, – укорил Гордей, усаживаясь на пододвинутый стул.
– Так ведь тридцать два по Цельсию, – махнул рукой Павел.
– Это не ответ, – укоряюще возразил брат.
Они стали расспрашивать друг друга о семьях, о службе. Размахивая руками, Гордей описывал брату недавно отстроенное новое здание десятилетки.
– Понимаешь, – горячился он, – ни чердаков, на которые мы когда-то забирались курить тайком ото всех, ни узких лестниц, все светло, окна выходят на реку и в сад… вид, как в санатории. А шахту ты бы и совсем не узнал. Подземный дворец, а не шахта. Встал бы наш батька из гроба да посмотрел на угольный комбайн второй половины двадцатого века, слеза бы его прошибла.
Всматриваясь в загорелое лицо брата, Павел с удовлетворением отмечал про себя необычную перемену. Гордей опять стал таким же шумливым и веселым, каким был в юности. Горестные складки больше не собирались над его переносьем и в жестах сквозил прежний задор. Раньше он не любил вслух говорить о своем недуге, болезненно морщился, когда приходилось в присутствии других брать в руку палку. А теперь он шутливо поигрывал расписанной по-кавказски самшитовой тростью, будто носил ее лишь для украшения. Эта перемена радовала Павла, ожидавшего увидеть брата таким, каким он был при последней их встрече: сдержанно вежливого внешне, подавленного и удрученного душевно. Гордей с интересом расспрашивал Павла о системе слепой посадки и полетах на первых реактивных конструкциях. От приглашения отобедать в столовой решительно отказался, но когда брат достал из шкафа заранее приготовленную бутылку армянского коньяка, открыл сардины, тонкими ломтями нарезал колбасу и сыр, глаза у Гордея заблестели:
– Вот это отлично, Павлик. Пропустим ради встречи по рюмочке, не взирая на субтропическую жару.
После первой Гордей покраснел, достал старомодный клетчатый платок и отер вспотевший лоб.
– Покурим?
Павел подал пачку «Северной Пальмиры», но брат отвел его руку.
– Благодарствую, у меня свой самосад… наш, уральский. Хочешь и тебя угощу, если, разумеется, старшим офицерам не зазорно самосад курить на шестом послевоенном году.
– А разве от этого этикет фронтового офицера пострадает, – засмеялся летчик и стал с удовольствием сворачивать самокрутку. Две струйки дыма встали над их белокурыми головами.
– А ты не замечаешь, что я теперь повеселел! – с вызовом спросил Гордей. – Ведь наверняка помнишь, каким я был при последней нашей встрече? Вы небось меня жалели с Наташей, думали, что до гробовой доски буду тосковать о случившемся? Сознайся, жалели?
– Было, – коротко подтвердил Павел и вопрошающе посмотрел на брата. Он никак не ожидал, что сразу начнется этот откровенный разговор. Гордей, заметив его смущение, понимающе покачал головой:
– Вот и сейчас для тебя неожиданность эти мои слова. А ведь в них больше закономерности, чем неожиданности. Послушай, Павлик. Бывают у человека события, ломающие его характер, психологию, душевные силы. Ты летчик, и это тебе не надо объяснять. Небось и ты в первый воздушный бой вступал совсем не таким, каким в последний. И нервишки сдавали и сердце екало. Вот и у меня так. После катастрофы в годы войны я в педагогическом учился. И как было горько сознавать, что ты неполноценный человек, что инвалидность отдаляет тебя от людей, защищающих твой дом и твою судьбину. Каждой фотографии фронтовика, появившейся в газете, завидовал. И одна мысль все время точила: а разве ты не мог быть таким, если бы не поврежденный позвоночник? Ведь и сила какая была. Ведь помнишь, Павлик, как я подковы голой рукой на спор гнул… ну, вот. – Гордей закашлялся, и большой кадык на его шее пришел в движение. Помолчав, выпустил облако горьковатого самосадного табачного дыма. – А учительская доля нелегко мне поначалу давалась. Ой, как нелегко. Сам понимал, что на моих уроках ребята были рассеянными и равнодушными. Это и вовсе выводило из равновесия. Нет, думал, ни Ушинского, ни Макаренко никогда из тебя не выйдет. Однажды чуть не расплакался с досады в пустой холодной учительской. Долго в ней просидел с поникшей головой. Помню, за окнами уже мелькали звезды, когда на мое плечо легла чья-то рука. Глаза поднял – надо мной доброе лицо седого Михаила Васильевича. И голос его добрый, все понимающий. «Что, плохо?», «Плохо, Михаил Васильевич», «Не получается?», «Не получается», «А вы знаете почему? Потому что вы еще и не представляете, какой великий и благородный наш труд, поставить девчонку или мальчишку на ноги, сделать настоящим человеком. Их сорок в классе, и все они сливаются у вас в глазах. А вы научитесь различать каждого, знать его душу, тогда все пойдет как по маслу. Я письмо получил сегодня с фронта, и оно для меня дороже любого ордена. Сколько я с ним бился в свое время, каким неподдающимся считал. И вот за все мои старания благодарность, – он протянул мне листок, и я прочел подчеркнутые старым учителем слова. – „Дорогой Михаил Васильевич! Пишет вам тот самый детдомовец Костя Волков, который столько раз выводил вас из себя. Если вы успели поседеть, то считайте, что половина седых ваших волос на моей совести. Но вы сделали меня человеком. Я не знаю ни отца, ни матери. Сейчас моя танковая рота готовится форсировать Днепр. Подошел в сумерках начальник политотдела и сказал: „Слушай, старший лейтенант Волков. Ты должен первым провести своих танкистов по переправе. Это трудно и очень опасно. Но когда ты пойдешь сквозь завесу вражеского огня, думай о самом для тебя любимом человеке, о том, что ты идешь в бой за него, и тогда никакая смерть не будет страшна. И не важно, кто это будет: отец, мать или жена, лишь бы это был самый дорогой тебе человек“. Я его выслушал и ответил: „А у меня нет ни отца, ни матери, ни жены“. Начальник политотдела несколько растерялся: „Так кто же у тебя самый дорогой человек на нашей советской земле?“ И тогда я ответил: „Наш классный руководитель Михаил Васильевич“. И вот эта беседа, Павлик, душу мне перевернула. Откуда и силы взялись, и слова на уроках не казенные, а душевные, бьющие в самую точку. Словом, та минута, вернее, тот вечер в холодной учительской и добрый Михаил Васильевич опять толкнули меня к жизни“.»







