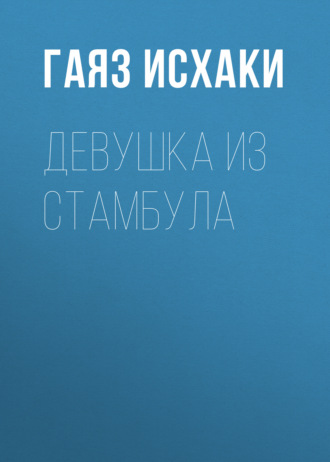
Гаяз Исхаки
Девушка из Стамбула
Обе женщины проговорили всю ночь. Завтра они прибудут на место. Одной новый день сулил радость, другой – лишь новые страдания.
Но вот рассвело. Утро выявило на рано отцветшем лице Гульсум множество морщин, тогда как озарённому счастливой улыбкой лицу Нафисы придало новые краски, делавшие её моложе своих лет.
Небо было ярко. Напитанные влагой луга и поля помолодели, леса красовались своим пёстрым осенним нарядом. И река, бесконечно долгий Идель, лениво раскинулась под ласковыми лучами солнца, словно устав от своего вечного жребия – катить и катить волны. Над головой крикливым беспокойным хороводом кружили чайки. На ближайшей пристани надо было выбираться на берег, поэтому Нафиса и Гульсум заранее одели детей и стали ждать, когда приблизятся к маячившему вдали дебаркадеру. Две женщины, случайно встретившись на пароходе и вместе проведя длинную тёмную ночь, разговорившись неожиданно, поведали друг другу свои самые затаённые секреты и стали близки, словно старинные школьные подруги, дороги другу другу, как родные. Пароход подал длинный печальный гудок. Дети Нафисы запрыгали, крича: «Мы к папе приехали, к папе!» А дети Гульсум жались к матери, будто страшась встречи с каким-то чудовищем, и спрашивали: «Мама, а папы нет там? Не надо его!»
Пароход, красиво развернувшись, пошёл к берегу. Гульсум с Нафисой стали всматриваться, выискивая глазами: одна – человека, который подарил ей счастье, покой, дружбу, по которому успела соскучиться так, словно не видела целый век; другая – того, кто погубил её молодость, превратив за короткое время в старуху. Радостное ожидание, сладостные мечты зажгли в глазах одной мягкую тёплую улыбку. У другой же в глазах появился испуг.
Дети Нафисы первыми увидели отца.
– Папа! Папа! – закричали они.
И Нафиса помахала платком. С пристани ей ответили таким же приветствием. Глаза супругов встретились, и выражение их было такое же, как тогда, в театре. Они улыбнулись друг другу.
Нафиса забыла о Гульсум.
Завидев на пристани пьяного в полувоенной одежде, который, слоняясь по причалу, пытался обнять русскую торговку пирожками и яблоками, Нафиса засмеялась. Человек кричал что-то, приставая к посторонним, а те грубо отпихивали его.
– Гульсум-ханум, Гульсум-ханум! Взгляни-ка на того глупца! – смеялась Нафиса, но, повернувшись к подруге, вдруг осеклась.
Та стояла бледная, сама не своя: губы синие, в глазах отчаяние. Нафиса смотрела на неё с удивлением. Гульсум повернулась и, не желая разговаривать, отошла. Забрав вещи, детей, она пошла на выход. Нафиса осталась ждать мужа.
В толпе людей, идущих на берег, доктор увидел Гульсум и пытался вспомнить, где же он мог видеть эту женщину. Она взглянула в его сторону, и вдруг в исхудавшей немолодой женщине доктор узнал нежную и лёгкую, как бабочка, восемнадцатилетнюю Гульсум, в жертву которой готов был принести когда-то свою жизнь. Хотя она держала за руки детей, он сказал:
– Гульсум-туташ, вы ли это? – и протянул ей руку. Пожав холодную, как лёд, ладонь, он остановился в недоумении, увидев на лице женщины неестественную улыбку. Ему стало жаль её. – Так вы ещё здесь? – спросил он.
Не успела она ответить, как пьяница в шинели с оторванными погонами приблизился и толкнул доктора, собираясь взять из рук Гульсум вещи. Доктор, решив, что хулиган собирается поглумиться над женщиной, как только что глумился над торговкой, сделал попытку защитить Гульсум. Лицо пьяницы налилось кровью:
– Это жена моя! Моя! – заорал он по-русски и снова толкнул доктора. Потом взял из рук жены вещи.
Доктор с изумлением уставился на женщину. Та, боясь повстречаться с ним взглядом, быстро взяла мужа под руку и пыталась увести его.
Тут появилась Нафиса с детьми. Малыши обняли отца, засыпали вопросами. Нафиса, оказавшись в объятиях мужа, спросила, весело взглянув на него:
– Ну как ты, здоров?
Снова поднялся шум. Пьяница, отцепившись от жены, сидел посреди моста, ведущего на берег, широко расставив ноги и покачиваясь, как маятник, мешая людям ходить.
– Стойте! Стойте! – кричал он. Глядя на торговок, бил себя кулаком в грудь, хвастаясь: – Понимаете, я потомственный почётный дворянин!..
Народ остановился в замешательстве. Дети Гульсум ревели. Нафиса, оставив мужа, быстро подошла к пьянице и взяла его под руку, говоря что-то по-татарски. Дорога открылась. Пьяница взял под козырёк и пытался поцеловать женщине руку. Нафиса, крепко вцепившись в него, вывела с моста. Все – Гульсум с мужем и детьми, Нафиса с детьми – остановились возле тарантаса доктора.
– Как поедем? – спросила Нафиса мужа. – Нельзя же бросать Гульсум-ханум с детьми.
Решено было до поворота ехать вместе.
– Спасибо, – пыталась отказаться Гульсум. – Не беспокойтесь, мы привыкли.
Но Нафиса не стала её слушать. В коляску усадила детей, доктора и Гульсум. Она почти силом усадила пьяницу в тарантас. Тот вылез и стал орать, требуя жену к себе.
– Я сама желаю ехать с вами, – заявила Нафиса и села рядом.
Дети в коляске без умолку галдели о чём-то, а Гульсум с доктором ехали молча, углубившись в воспоминания. В тарантасе пьяница громко выкрикивал какие-то угрозы, ругательства, размахивал кулаками и залился, наконец, пьяными слезами.
– Вы – золотая женщина, вы – счастье. – Он поцеловал Нафисе руку. – А что моя жена? Тряпка! Сгубила она меня… – жаловался он сквозь слёзы. – Вот если бы вы встретились мне, мы с вами жили бы припеваючи…
Нафиса в жизни не видела ничего подобного. Пьяница был противен и жалок ей. В конце концов, жалость одержала верх. Она стала утешать его. Тот, по-видимому, понял всё по-своему и засмеялся. Он слушал её сочувственные, добрые слова, разинув рот, и постепенно задремал, преклонив голову ей на плечо. Нафиса задыхалась от запаха перегара, ей хотелось столкнуть пропойцу на дорогу, но она терпела из жалости. Тяжёлая голова очень мешала ей. «Пусть бедолага поспит», – утешала она себя.
Сидя одиноко в тарантасе, она задумалась о Гульсум и об этом существе, потерявшем человеческий облик. «Почему не смогли они как-то поладить? – размышляла она. – Чего им не хватало? Оба образованные, получили хорошее воспитание… Оба были молоды… Почему?» В голове кружилось много ответов, но ни один не казался ей убедительным… Нафиса переключилась на себя. Перед глазами прошла вся её жизнь, начиная с юных лет. Она радовалась, что ей повезло с мужем. Хотелось теперь же бежать к нему, почтительно поцеловать руку. Её переполняло ощущение счастья оттого, что каждый её день наполнен любовью, что семья – муж и дети – живут, радуясь, тихо и спокойно. Хотелось повторять: «Спасибо, спасибо тысячу раз, что мы не стали такими, как эти двое, ведь они тоже люди и могли быть счастливы».
Растрогавшись, она принялась читать суры из Корана. Повозка катилась против ласкового осеннего солнца, дул лёгкий ветерок. Отвратительный запах изо рта мужчины мешал ей. Она осторожно, боясь разбудить пьяного, отвернула его голову от себя. Непонятные слова Корана, в особенности мелодия его, мягко согревали душу, наполняли благодатным покоем, который невозможно описать словами. Женщина, погрузившись в молитву всем своим существом, произносила её всё громче и громче. Стук колёс придавал мелодии Корана некий ритм. Тихий ветерок подхватывал священные звуки и уносил вдаль.
Пьяница захрапел. Вонь из его рта с новой силой ударила Нафисе в нос. «Что бы я делала, – с содроганием подумала она, – если бы муж мой был таким?» Молитвенно сложив руки, она обратилась к Аллаху на родном языке и принялась просить его, чтобы счастье, которое он дал им, длилось вечно. Почувствовав успокоение, она вытерла глаза и дочитала молитву до конца. Страх растаял, словно облачко на весеннем небе. Солнце её жизни засияло снова.
Лошади продолжали бежать. Пьяница храпел.
В коляске же разговор долгое время не клеился. Дети шалили, приставали с вопросами: то о пролетавшей мимо птице, то о рябине, увешанной яркими, как коралл, гроздьями, но ни Гульсум, ни доктора от дум это не отвлекало. Завязать разговор не удавалось. Дети, убаюканные мягким покачиванием тарантаса, стали засыпать один за другим. Гульсум с доктором остались с глазу на глаз. Она теперь сожалела о том, что была столь откровенна с Нафисой. Неожиданная встреча с Пашой оказалась для неё новым ударом судьбы и вызвала только смущение и растерянность. Гульсум не смела поднять голову и посмотреть другу в глаза, не могла начать разговор, повторяла лишь про себя: «Простите меня за всё, что было!» Собралась было произнести это вслух и уж раскрыла рот, но мысли вдруг спутались, и она забыла, что собиралась сказать. Ей хотелось бы скрыть правду, сказать: «Слава Аллаху, всё у меня хорошо», но выходки пьяницы выдавали правду… И доктор, вначале собиравшийся было высказать обиду за то, что не получил ответа на свои многочисленные письма, увидев, как жестоко обошлась с Гульсум судьба, не посмел упрекнуть её, пожалел.
Вот сынишка Гульсум снова проснулся в испуге.
– Он всегда так просыпается, – пожаловалась она. – Вы – доктор, скажите, что с этим делать?
– Это связано с нервами, – проговорил он. – Ребёнку нужен покой.
Они снова замолчали, не зная, с чего начать разговор. Наконец доктор спросил:
– Так вы что же, всё ещё здесь? А я слышал, что уехали.
– Да, это правда, – сказала она. – Я приехала только по делу.
Разговор снова оборвался. «Если бы вы хотели знать, как сложилась моя судьба, разве нельзя было выяснить, где я?» – подумала она, но говорить не стала.
– Когда умер ваш отец, – сказал доктор, – я отправил письма по адресу в Петрограде и сюда. Но ответа не было, и письма не вернулись…
Гульсум залилась краской:
– Я не получала от вас ни одного письма, – взволнованно воскликнула она. – С того самого дня – ни строчки… Я очень ждала… Думала, не оставите меня, как вы сами выразились, в болоте, очень ждала, не зная о вас ничего, не получая ни одного письма, – сказала она и снова уронила голову…
– Вы, вероятно, знаете, как уезжал я после того, как вы ответили офицеру отказом. Во всём виноватым оказался я. Все осуждали меня, офицер приставал, требуя дуэли, старый мурза обзывался последними словами. Тётка ваша при всём народе указала мне на дверь со словами: «Пошёл вон!» После такого увидеть вас не было никакой возможности. Я написал вам письмо, указав несколько адресов, и оставил служанке.
– Письмо это тётя у служанки забрала, я его не видела, – сказала Гульсум.
– Ответа не было, и я снова написал в два адреса, и опять ничего не получил. Писал ещё. Ездил в Петроград, делал всё, чтобы увидеть вас. Ходил в театр, целыми днями караулил возле вашего дома, звонил по телефону. Всё напрасно. И вот однажды все мои письма вернулись на мой адрес назад. Я не знал вашего почерка, поэтому не мог судить, кто это сделал. Услышав, что вы выходите замуж за какого-то кавказца, я потерял всякую надежду. Жить в Петрограде стало очень тяжело, и я перевёлся в киевский университет. Даже после этого я продолжал посылать вам поздравления по праздникам, – сказал он.
Глаза Гульсум вспыхнули, лицо покраснело.
– Клянусь, я не видела ни единого вашего письма и ничего вам не возвращала, – сказала она, и из глаз её закапали слёзы.
Доктор был растерян.
Тут лошадь остановилась, и кучер, обернувшись, сказал:
– Приехали. Вы расстаётесь здесь.
Гульсум вздрогнула: опять разлука! Ведь они только что нашли друг друга… Хотелось крикнуть: «Нет, не надо расставаться!» Она посмотрела на спящих детей, подняла глаза на доктора:
– Да, здесь пути наши расходятся!..
Как только коляска остановилась, дети – все четверо – тотчас пробудились. Они, как котята, попрыгали на землю. Нафиса, подъехав, стала махать из тарантаса рукой, подзывая к себе. Доктор и Гульсум испуганно бросились к ней, думая, не случилось ли чего. Пьяница спал на плече Нафисы, а она сидела, притиснутая им, с неловко повёрнутой головой. Хотели спихнуть пьяницу и освободить Нафису, но она сказала:
– Тихо, осторожно! Принесите подушку, пусть спит, глядишь, протрезвится.
Нафиса бережно переложила голову спящего со своего плеча на подушку. Её освободили из плена.
С самого начала, не подумав, Нафиса с пьяницей оказалась в тарантасе доктора. Теперь повозку надо было освободить. Посоветовавшись, решили пьянице дать выспаться, боясь, что снова начнёт буянить.
Время было раннее, день чудесный, коней пустили пастись на луг. Натаскали хвороста и разожгли костёр. У батраков взяли чайник, приготовили чай. Компания устроилась чаёвничать под ласковым осенним солнцем. Нафисе хотелось порадовать несчастную подругу, её болезненных детей, и она хлопотала так, словно принимала гостей у себя дома, – всё делала сама: выложив из корзин, разложила угощение, усадила детей, раздала им сладости, и села разливать чай. Всем было весело, и чай удался на славу. Морщины Гульсум разгладились, щёки порозовели, на лице заиграла улыбка. Она вздохнула свободно. Чай ещё не был допит, а дети побежали в лес. Доктор с Гульсум, неторопливо шагая, тоже скрылись в лесу. Нафиса наводила порядок, поила кучеров чаем и в конце концов осталась одна.
Лес наполнился голосами детей. Гроздья рябины то тут, то там призывно выглядывали из-за обнажённых ветвей. Дети бросались в одну сторону, бежали в другую. Их манили несколько орешков, высоко висевших на кустах лещины. Малыши смешно пыхтели, пытаясь достать их. Белка, прыгавшая с дерева на дерево, вначале напугала детей, но потом они весело смеялись, глядя на неё, и пустились за ней вдогонку.
А Гульсум с доктором уходили всё дальше и дальше. Вот они разом остановились, словно наткнувшись на препятствие, и посмотрели друг на друга. Перед ними стояло большое дерево, горделиво красуясь своим нарядом из ярко-жёлтых листьев. Под ним бежала, извиваясь, речка. За ней раскинулся широкий луг, покрытый зелёным дёрном, на котором поблёскивали, переливаясь на солнце, капельки росы. А дальше стеной поднималась лесная чаща из елей, с головы до пят закутанных в зелёные покрывала, берёз, обёрнутых в белые холсты, осин в нарядных трепещущих на ветерке платьях. Многоцветье, повторяясь тысячи раз, устремлялось вдаль, делая лес похожим на огромный букет или на толпу бегущих, обгоняя друг друга, людей в цветных одеждах. И доктор, и Гульсум смотрели перед собой, и видения прошлого оживали перед их мысленным взором. Места эти были знакомы им. Сюда приходили они когда-то на рыбалку. Гульсум в розовом платье с чуть встрёпанными волосами сидела на берегу. Крепкий, здоровый Халиль, помнится, вон с того камня закинул вторую удочку, и они долго стояли, будто наблюдая за серебристыми рыбками, а на самом деле смотрели на отражения друг друга, мысленно объясняясь в любви. Гульсум вытащила удочку с трепыхавшейся на крючке рыбкой. Рыбка прыгала-прыгала и, сорвавшись, плюхнулась в речку. А когда вода успокоилась, и они снова стали видеть друг друга, оба засмеялись. Руки их невольно встретились. Холодная ладошка Гульсум, попав в горячую руку Халиля, согрелась…
Гульсум с доктором посмотрели друг на друга. Он сказал:
– Мы же вон там рыбачили.
– Да, там, – отозвалась Гульсум и замолчала. Говорить она не могла – душили слёзы. – Я очень виновата перед вами, – заговорила она. – Конечно же, я не участвовала в гадостях, которые затевали против вас, но не сделала ничего, чтобы защитить… Простите… Я была так слаба. Теперь расплачиваюсь за это. – Она разрыдалась. Халиль обнял её за талию, положил её голову к себе на плечо. Как ребёнка, погладил по голове. Гульсум всё глубже уходила в его объятия, словно ища защиты. Он ощущал на своём лице её горячее дыхание, слышал, как сильно бьётся её сердце, видел сквозь мокрые ресницы грустный взгляд её глаз. Халиль тихонько повернул лицо Гульсум к себе. Щёки и губы их соприкоснулись…
Лес ожил. Послышались детские голоса. Мальчик и девочка Гульсум плаксиво звали:
– Мама! Мама!
Дети Халиля кричали:
– Папа! Где ты?!
Это вернуло их в реальность. Оба испуганно отшатнулись друг от друга. Вдали слышался голос Нафисы:
– А-ау!
Гульсум испуганно дёрнулась, Халиль ответил:
– Ау!
Гульсум собралась с духом и, боясь упустить удобный момент, призналась:
– Я всегда любила тебя, люблю и сейчас…
Халиль не успел ответить, помешала выскочившая из леса ватага малышей. Они бросились кто – к маме, а кто – к папе.
– Мы змею видели! – кричали они.
Халиль, посмотрев в глаза Гульсум, перевёл взгляд на детей.
– Теперь осень, Гульсум-туташ. Посмотрите, на каждом дереве свои плоды и зреют они по-своему: рябина так, а яблони иначе!.. – сказал он, и глаза его наполнились слезами.
Словно соглашаясь с ним, над лесом пролетел свежий осенний ветер, забросав Гульсум пожелтевшими листьями.
Тут появилась Нафиса. Заметив их несколько растерянный вид, сказала:
– Чего вы тут приуныли?
В Гульсум пробудилось желание как-то подколоть эту счастливую, беззаботную женщину.
– Вспомнили молодость. Мы с Халилем-эфенде встречались здесь совсем молодыми, ещё по весне жизни. И вот осенью довелось опять, – сказала она.
– Вы что же, давно знакомы? – спросила Нафиса, взглянув на Халиля.
– Да, я был тогда студентом! – ответил он.
– Так вот оно что, – протянула Нафиса.
Чуть-чуть поколебавшись, она решительно взяла под руку мужа, другой рукой подхватила Гульсум.
– Пойдёмте, снова надвигаются тучи. Осеннее солнышко обманчиво. Муж ваш проснулся, – сообщила она Гульсум и направилась к повозкам.
В дорогу готовились молча. Пьяница протрезвился и превратился в стыдливого человека, который не решался поднять глаза. Гульсум было горько, оттого что самые прекрасные, чистые переживания молодости, внезапно вернувшись к ней, оборвались так резко.
Давно забытые за годы счастливой жизни с Нафисой воспоминания юности налетели на Халиля, словно бесовский вихрь, и взбаламутили безмятежную душу. Халилю стало стыдно перед чистой, великодушной женой. Он был восхищён её величием.
В Нафисе, всю жизнь верившей в людей, в доброту, боготворившей супруга, пробудилось сомнение. Холодный влажный ветер в осеннем, скудно убранном ягодами рябины и калины лесу, завёрнутом в саван из жёлтых листьев, усилил эти печальные мысли. Она знала, что не скоро избавится от них, и чувствовала себя обманутой. Улыбка сошла с её лица. Они холодно простились и сели в повозки, которые от развилки дороги устремились в разные стороны.
Нафиса с Халилем отъехали уже довольно далеко, когда она посмотрела мужу в глаза и спросила:
– Так это и есть твоя первая любовь?
– Да, – кивнул он. Помолчав, спросил: – А ты что же, ревнуешь?
Глаза Нафисы заблестели, на лице зарделся румянец.
– О Аллах! К этой бедняжке, что ли?
Она помолчала, потом добавила:
– К убогой-то? – Но слово, видимо, показалось ей слишком тяжёлым, будто она ранила человека, который и без того жестоко наказан судьбой, и она поправилась: – К горемычной этой?..
Оба обернулись на дорогу, по которой ехала Гульсум. Осенний ветер кружил там, подняв в воздух листья, соломинки, пыль. Он гнался за повозкой – вот-вот настигнет. А следом мчался уже новый порыв. Повозка исчезла из вида, осталась лишь дуга лошади, но вот пропала и она… Начал моросить осенний дождь. За его пологом скрылось всё. Нафиса чувствовала, как по спине побежал мокрый холодок. Она теснее придвинулась к мужу. Халиль обнял её одной рукой и привлёк к себе… Обоим стало хорошо, тепло – приятно мириться после размолвки.
– Гони быстрее, – сказал Халиль кучеру, – пока сильный дождь не накрыл нас!
Кучер щёлкнул кнутом, лошади рванулись вперёд, колокольчики залились звоном. Впереди ждал дом, где так тепло, сухо и нет ветра.
Берлин, 1923
Девушка из Стамбула
У Загиды в последнее время пропало настроение. Ей было очень грустно. Из-за ссор с матерью в их отношениях не оставалось ни искренности, ни теплоты. С требованием Малахат-ханум она решительно не могла согласиться. Матери хотелось выдать её за Лутфи-бея, который имел благородное происхождение. Занимаясь поставками, он зарабатывал неплохие деньги. Загида просто терпеть не могла этого коротышку с гнилыми зубами и писклявым бабьим голосом, который в разговоре к месту и не к месту вставлял французское «мон шер». Особенное отвращение вызывала в ней его манера пожимать руку вечно мокрой от пота ладонью. Как ни старалась, она не могла представить себе этого похожего на еврейского маклера человека своим мужем.
В представлении Загиды муж, кем бы он ни служил, обязан быть выше неё ростом, сильным и обладать красивым, истинно мужским голосом и воплощать в себе гордость и властность.
Мало того, что Лутфи-бей не обладал ни одним из этих достоинств, он ещё и передвигался, как баба. Ни его благородное происхождение, ни деньги его не могли заглушить брезгливость, которую он внушал.
Загиде было больно, что на этой почве возникла ссора с матерью. Она понимала, что многим обязана своей матери, и искренне любила её. Ведь та самоотверженно заботилась о Загиде, положила всю жизнь, чтобы дать ей хорошее воспитание, образование, рассталась даже с мужем, чтобы уделять дочери больше внимания, ограждая от дурного влияния. Помня обо всём этом, Загида не могла взять в толк, как может мать настаивать на замужестве, желая якобы для дочери счастливого будущего.
Загида никогда не согласится с матерью. Однако та, похоже, отступать не собирается и с каждым днём становится всё настойчивей. Если раньше они говорили об этом спокойно, стараясь держать себя в руках, то в последние недели беседы превращались в откровенные скандалы.
Вот и сегодня мать завела неприятный разговор, и Загида решила бежать на Адалары к мадам Марике, их давней знакомой. Мать не возражала, говоря: «Вот и ладно, будет время хорошенько подумать своей головой».
Загида собрала в маленькую сумку вещи, которые могли ей понадобиться, и отправилась на пристань, чтобы на пароходе добраться до острова. Грустные думы теснились в голове девушки. От них не мог отвлечь и роман, который она начала читать. Загида стала украдкой поглядывать по сторонам, изучая пассажиров, ехавших в салоне. Знакомых среди них не оказалось. Жаль, с ними ей было бы не так одиноко.
А отец?.. Будь у неё отец, с мамой, наверное, было бы легче разговаривать. Правда, у нас как-то не принято, чтобы отец с дочерью обсуждали подобные дела. Такого не встретишь даже в романах. Но Загида непременно поведала бы ему всё. С отцом вообще было бы легче, не перебивались бы на маленькое учительское жалование мамы. И о Лутфи не было бы разговоров.
«Всё же интересно, каким был мой отец? – думала Загида. – Диким татарином, потомком чингизханского воина, лишённым всяких человеческих чувств, как любила повторять бабушка? Если это не так, то почему он бросил дочь, которая оказалась теперь в столь трудном положении? Почему не интересовался её воспитанием, учёбой и ни разу не попытался найти её, не захотел узнать, как закончила она школу?»
Ей вспомнились слова Зухры-жинги[9]. Когда они ругались с бабушкой, она кричала: «Не женщина, змея ты! Ради своих капризов разлучила свою дочь с мужем и оставила золотце наше крошку Загиду сироткой!» Но если слова её – правда, почему отец не нашёл дочку? А может, искал да не сумел найти? Может, в Стамбуле нет его, остался в Анатолии? А что, если её прятали от него?
В детстве ей приходилось видеть, как цыгане прячут своих детей-воришек, которые таскали у людей вещи. Она вспомнила, как мама с бабушкой тоже прятали её от кого-то за дверью и за окном. Вспомнила также, что ей запрещалось вскрывать письма. Были в семье какие-то тайны, неизвестные ей.
Загида долго не могла отвлечься от нахлынувших воспоминаний. Но вот внимание её привлекли две взволнованные чем-то девчушки-школьницы лет двенадцати-тринадцати. Милые создания голосами, похожими на птичий щебет, говорили о школе, о переходе из класса в класс. Загида стала невольно прислушиваться к их словам. Она вспомнила о счастливых днях своего детства, когда у неё тоже не было других забот, кроме школы. Чтобы девочки не заподозрили её в подслушивании, она время от времени перелистывала страницы книги.
Одна из девочек была недовольна своими отметками в дневнике.
– Как же я теперь покажу дневник эни[10]? И не только ей. Ати[11] ведь тоже будет дома. Он говорил мне: «Хорошо закончишь класс, куплю тебе наручные часы». Что же будет теперь? – сокрушалась девочка.
Ученица постарше сказала:
– Ты же перешла в следующий класс! Так что всё хорошо будет.
– Перейти-то я перешла, да только не с такими отметками, как хотела.
– Так постараться надо было, – заметила подруга.
– Думаешь, я не старалась? Да я по географии всё знаю – реки, горы, высочайшие вершины гор. Они думают, будто не знаю, где добывают соль! И это называется экзаменом! Кому же не известно, что соль – в продовольственном магазине?
Девочки достали из сумок дневники. Загида заговорила с ними в надежде, что это поможет ей забыть на время о своей беде.
– Вы в какой школе учитесь? – спросила она, чтобы начать разговор.
– В школе Нишанташа, – ответили они в два голоса.
– А можно мне взглянуть на ваши дневники?
Обе охотно протянули ей дневники. Загида прочла имена девочек, которые, как оказалось, принадлежали к народу, о котором она до сего времени не слышала. Одну звали Сююм, другую Гульчачак. Поинтересовалась отметками.
– Какая красота! Да вы молодцы, – хорошие оценки! А что вас так встревожило? – спросила она.
– Я географию знаю очень хорошо, – сказала девочка, которую звали Гульчачак, – а получила всего-навсего «девять»… За прилежание ещё хуже – только «шесть».
– Такое бывает, только не стоит из-за этого так переживать.
– Это верно, переживать вроде не стоит, но что скажет ати, когда узнает?
– А кто это «ати»?
– Так мы называем нашего отца, – пояснила Сююм. – А маму зовём «эни».
– Мы – татары, – добавила Гульчачак.
Загида посмотрела на своих юных собеседниц внимательней.
– А кто такие татары? Разве все мы здесь не турки? Нет теперь ни албанцев, ни бушнаков, всех нас называют турками, не так ли?
– Нет! Нас везде татарами зовут, – возразила девочка поменьше.
Эти искренние и общительные девочки очень нравились Загиде.
– А какая разница между турками и татарами? – спросила она. – Объясните, пожалуйста.
Младшая девочка сказала:
– Татары не двуличные. Они откровенные и трудолюбивые.
А старшая добавила:
– Строгие немного, зато очень искренние.
Так они беседовали всю дорогу. Загида узнала, что отец девочек инженер и до сегодняшнего дня служил в разных местах Анатолии. Девочкам пришлось учиться в нескольких школах, но в этом году их семья переехала в Стамбул.
Загида отметила, что в отношении девочек к родителям чувствуется исключительное уважение и искренняя любовь. Для Загиды это было необычно. Она просила детей почитать ей татарские стихи, интересовалась татарской кухней. Ей хотелось также знать обычаи этого народа. Девочки с удовольствием отвечали на все вопросы. Загида слушала, и боль души отступала. Так они проговорили до того момента, когда пароход причалил к их пристани «Хайбалия». Девочки легко сбежали на берег и вскоре исчезли из вида. Загида же не спеша отправилась к дому мадам Марики. Хозяйка встретила её, приветливо улыбаясь.
– Ты приехала одна? А где же мама? Надеюсь, она здорова? – мадам засыпала гостью вопросами. – Сейчас я приготовлю тебе кофе, а потом провожу в комнату Катины. Она, конечно, тесновата, но что поделать? Жизнь сильно подорожала. Вашу комнату я вынуждена сдавать квартирантам. Когда приедет твоя мама, придумаем что-нибудь… От Катины нет вестей, ничего не знаю. Что с ней стало?.. Мы, матери, с такими трудностями растим детей, – сказала мадам, сокрушаясь, – а они потом забывают о нас. – Женщина смахнула с лица слезинки.
– Нет, мадам! Катина о вас никогда не забудет! Вы же знаете, почтовая служба у нас так несовершенна. Как знать, может, Катина сейчас точно так же горюет, думая о маме?
– Все так говорят. Только бы здорова была! Я с пароходом «Кортылыш» отправила ей письмо. Может, дождусь ответа. В дальние края девочек нельзя отпускать одних. Так вот у нас вышло… Вы, дочери, не слушаетесь матерей.
Загида почувствовала, что краснеет.
– Это верно.
Мадам отвела Загиду на самый верхний этаж. Открыла окно в сад соседского дома. Взгляд её задержался на рисунке дочери на стене.
В соседском саду началось какое-то движение и шум. Там с большущим самоваром, над которым курился дым, появился мужчина средних лет На нём были армейские штаны и рубашка с короткими рукавами. Сзади поспевал мальчик лет девяти-десяти с трубой, похожей на печную. На расстоянии от них малыш лет пяти-шести закидывал на деревья игрушку, приговаривая: «Пароход уходит! Он идёт в Атау!» Потом побежал за отцом и братом.
Мужчина поставил самовар под высокую сосну. Старший мальчик опустился на колени и стал дуть в низ самовара, пока оттуда не посыпались искры, потом водрузил на самовар трубу.
– Совсем как труба цементного завода, ати! – вскричал он и добавил: – Мы в моряков играем. Я – капитан!
Услышав знакомое «ати», Загида спросила:
– Кто эти люди, мадам?
– Это квартиранты Хулуси-бея. Отец их вернулся только сегодня. Они каждый день в это время пьют чай. И ещё как пьют!.. Однажды я понаблюдала за ними. Так только малыш целых три пиалы выдул. А когда к ним гости приходят, до полуночи сидят за самоваром. Я всё думаю, как бы пожар не натворили, но они, похоже, люди осмотрительные. Жена уж очень аккуратная… Татарами себя называют.
Загида неожиданно увидела знакомых девочек, своих спутниц по пароходу Сююм и Гульчачак. Одна несла чашки и чайные принадлежности, другая – скатерть с тарелками. На девочках были одинаковые халаты, украшенные вышивкой, на ногах лёгкие чувяки одного фасона. Загида принялась внимательно наблюдать за ними. Сююм застелила скатертью стоявший под деревом стол. Девочки вместе расставляли посуду. Старший из мальчиков носил скамейки. Малыш всё время вертелся возле отца и трещал без умолку.
Вскоре из дома вышла высокая женщина средних лет в лёгком халате с казаном в руках, накрытым крышкой. Она несла казан чрезвычайно осторожно. Подойдя к столу, потрогала самовар и что-то сказала старшему сыну. Тот молнией метнулся в дом и появился со старым отцовским сапогом. Мальчик снял трубу, надел на самовар сапог и стал раздувать угли, действуя сапогом, как кузнец мехами. Самовар ожил. Из отверстий внизу посыпались искры.
Мадам Марика, стоявшая рядом, сказала:
– Это не мальчишка, а бесёнок какой-то, нет дерева, на которое он не залез бы. На земле ни одной сосновой шишки не осталось, всё подобрал.



