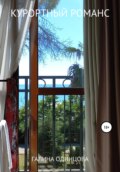Галина Одинцова
Письма прошедшего времени
– Помню, бегаем, в салки играем. Царь Николай как идёт мимо, мы, ребятишки, выстроимся в ряд, головки опустим, он всех нас по головке-то и погладит. И Алёша с нами тут же. Всегда руки царя пахли одеколоном. Мне нравился этот запах. А сапоги его так всегда начищены, как зеркало! Себя видишь в отражении. Алёше нельзя было сильно двигаться, болел часто. Но он же ребёнок – заводной, весёлый. За ним постоянно присмотр был…
Мама моя боялась бабушки Александры, невзлюбила её сразу же. И приняла защитную позу. Держала нас, детей, близко к себе круглосуточно, в споры не вступала, на нервные выпады родственников отца не отвечала, плакала в уголке, старалась у них не есть, ела только то, в чём была уверена, что не отравят. Худела сильно. Тянула отца обратно «к своим», но ему нравилось здесь, на родине, в Москве. Он мечтал, что его дети вырастут, дочку, то есть меня, он отдаст заниматься балетом, и я буду танцевать в Большом театре. Самая заветная мечта его была – увидеть меня на сцене Большого театра. Любил «Лебединое озеро». Скрипку обожал, плакал, когда слушал скрипичную музыку. Но мама была неумолима. Эх!..
– Молодец, сынок. Достойную жену выбрал. Красавица, умница, а детей как обхаживает, – одобрил выбор сына его отец, мой московский дед. – И чистенькие, и аккуратные, и воспитанные. На мать не обращай внимания – ей никто не нравится. Характер у неё такой.
А вот повлиять на свою жену московский дед не мог. Ей не давали покоя мамин украинский говор, её украинские и польские корни, а ещё её забитость – и в то же время неумение соглашаться. Упрямство жены сына её бесило. А та никак не подчинилась воле свекрови, и это не прощалось.
Признала маму сестра бабушки, тётя Лена, пережившая оккупацию под Москвой в посёлке Красная Поляна*, а точнее – в деревне Пучки входившей в состав посёлка *. Во время войны в их доме обосновался немецкий штаб. Тётушка Елена рассказывала о тех днях, о том, что она пережила, пока немцы были в доме. Рыдала всей душой, вспоминая весь тот ужас. Немцы её не тронули, она с детства была горбатенькой и незаметной. Находились немцы в доме совсем не долго, но было страшно. Они спали в одеждах, ожидая наступления Красной Армии, а убегая, бросили всё своё имущество. Очень жаль, что обо всём было рассказано скупо, неохотно.
* Посёлок Красная Поляна вошёл в историю Великой Отечественной войны как самая ближняя точка к Москве, на которой были остановлены вражеские войска. Сейчас это микрорайон в составе города областного подчинения Лобня Московской области. Расположен в 39 км к северу от центра Москвы и в 20 км от МКАД (Википедия).
Всю жизнь баба Лена прожила одна в Подмосковье, в поместье, оставшемся от родителей. Сад с яблонями, вишней, красной смородиной, белой смородиной, черникой. Каких только ягод там не было! Скамеечки и тропинки по саду, кормушки для птиц на деревьях. В огромном доме всем хватало места. Чистота идеальная, всё строго расставлено по своим местам и никогда не перемещалось. Баба Лена строго следила за этим, аккуратистка, педантичная, спокойная до предела. Никому не мешала, восхищалась миром, как ребёнок, всех жалела и гладила детей по голове, как котят. Начитанная, грамотная, она знала много историй и сказок.
Я любила слушать её сладкий голос с удивительным московским акцентом. Пыталась подражать, избавиться от своего гэканья, но ничего не получалось. С этим надо было родиться и жить всю жизнь. Московский говор ни с каким другим не перепутаешь!
Ко всему баба Лена относилась с юмором. Когда в семье начинался раздор, она хихикала она в ладошку:
– Чего ругаются? Посмотрели бы на себя со стороны!
Я смотрела со стороны на эти «дебаты» глазами бабы Лены, и мне тоже становилось смешно. Мы сидели с ней на лавочке у дома в обнимку и наблюдали этоточередной переполох. Видимо, так Елена Сергеевна, мудрая старушка, защищала меня от страданий и переживаний за родителей. В конце жизни любила выпить. Каждый вечер по стопочке водочки. В поликлинике на учёте не стояла, ни разу ничем не болела, даже медицинской карточки у неё не было.
Амурская бабушка родилась в семье украинки и поляка. Высокая, статная, тёмная коса до пояса и синие-синие глаза. Слыла самой красивой девушкой в округе. Но замуж её выдали за маленького, юркого, вредного парнишку Марка. Не было парней, а девку пора пришла замуж отдавать! Бил Марк Елизавету. Справиться не мог, а вот щипал её от злости постоянно. Ревновал. До старости злился, что красавица ему досталась. Но и побаивался её. Не раз и он был бабушкой бит.
Бабушка Елизавета не понимала, что мама нашла в «москале». В деревне отца моего никак не могли принять за «своего». Мамины родственники смотрели на него, слегка отступив назад, не подпуская близко к своим душам. Они наблюдали за зятем, как за обезьяной, которая выделывается и так, и сяк, чтобы понравиться зрителям. А отец очень старался. Он называл бабушку «маткой», почему-то так было положено, а дедушку – батей. На что дед покрякивал, отмахивался, бубня что-то под нос: типа дескать, какой я тебе батя, своих сынов хватает.
И так продолжалось долгие годы. Бабушки не смогли развести моих родителей, смирились и со временем привыкли. А родители, ругаясь, разводясь бесчисленное количество раз, снова сходились, мотая нервы нам, своим детям, и прожили вместе почти шестьдесят лет. Никакие трудности и распри не смогли их развести. Так и получалось у них: и сам не гам, и другому не дам. Только в последние дни жизни отец, уже совсем слабый, признался, что всю жизнь прожил не так, как хотел. Мама сломала его. Как сорвала из армии, так всё и пошло кувырком…
Страдал. Плакал, вытирал старческие скупые слёзы. Впервые я видела слёзы отца. И мне было его впервые так жаль, ведь я никогда прежде не понимала его. Никогда не жалела: мама не позволяла этого делать. Она была сильнее отца.
Любви ни у тёщи, ни у свекрови так и не возникло к «чужакам». Но, независимо от отношений, к бабушке на Дальний Восток и к бабушке в Москву мы стабильно ездили через всю страну каждый год. Чередуя: одно лето – деревня, другое – столица.
Я часто думаю об этом периоде жизни. Очень хочется понять своих родителей, найти оправдание их поступкам и решениям, хочется понять бабушек, дедушек. Ведь это целая жизнь таких разных, но волею судьбы родных мне людей.
Каждый год был полон событий и новых открытий. Обе мои бабушки были абсолютно не похожи друг на друга, но каждая из них главенствовала в своём семействе. А вот дедушки – и там, и там – играли роли второго плана. Они были всегда рядом с главным героем – бабушкой, но нисколько не меняли ход действия событий. Их мнения никто не учитывал, хотя они и пытались где-то наладить атмосферу взаимоотношений в семье.
Мы росли. Менялось время, менялось и отношение ко мне. Я стала нужна обеим бабушкам. У них наступала старость, а значит, и одиночество. Только сейчас я остро понимаю, как они меня ждали. Они нуждались в любви, во внимании, в присутствии близкого человека. Независимо от того, что в моём детстве я так мало получила от них этого внимания, любви, заботы. И только мои родители сумели, несмотря ни на что, посеять в моей душе уважение и любовь к обеим, упрямо таская нас через всю страну то к одной, то к другой бабушке… Чего только не происходило в эти годы. И я копаюсь в дебрях своего сознания, пытаясь вытащить наружу подробности того времени, тех событий, которые, так или иначе, формировали мою будущую жизнь, мой характер, моё восприятие окружающего.
Меня не отпускает прошлое. Мне хочется понять, почему мои родители выбрали такой путь Абсолютно кочевой образ жизни. А мне так хотелось, чтобы у нас был дом, чтобы у меня была своя комната, шкаф с платьями и своим постельным бельём, как у одноклассниц, – но… увы!
Письмо 22. Про переселенцев
Это грустный рассказ, полный трагедий и потерь. Я с детства знала о переселении своих амурских родственников с Украины на Дальний Восток. Приходилось долго уговаривать бабушку Елизавету рассказать что-то о себе.
– Отвьяжися, николы мэни! Ось прыстала, як смола до пьят, не отшкрабаешь! Робиты ничого тоби? Тильки байки слухаты горазда! Що прыстала?
Но поддавалась уговорам. Доставала из сундука чистый белый платок, не спеша надевала его на голову, садилась на лавку, натруженные больные руки клала на стол ладонями вниз, спиной прижималась к белой стене. Закрывала глаза. И становилась бабушка похожей на статую. Замирала на несколько коротких минут. Морщины на её лице становились глубже, уголки губ опускались. Было такое впечатление, что она мысленно вызволяет из недр своей памяти ту информацию, которую я запросила. Затем оживала, открывала глаза, причмокивала губами, как бы набираясь сил для тяжёлых воспоминаний. Над головой тикают часы, напоминая о том, что время безвозвратно уносит назад все события, а бабушкин рассказ о своём детстве и молодости уплывает в прошлое всё дальше и дальше, унося каждое слово в далёкую неизвестность, где происходили эти события.
Бабушка, тщательно перебирая, как мелкий бисер, воспоминания, складывая мозаику из множества фрагментов в одну картинку, смешивая русские и украинские слова, не спеша, не замечая своих слёз, лишь иногда смахивая их кончиком чистого платка, рассказывает о том, как жили на западе, страдали от голода, потому что кроме яблок в этот год ничего не уродилось. О том, как родители двинулись на восток, о страшных трудностях в этом долгом пути. О том, как за длинную многомесячную дорогу потеряла всех своих сестёр.
Первая сестричка, совсем малышка, выпала из окна поезда, когда состав медленно двигался мимо озера Байкал. Железнодорожные пути проходили так близко к урезу воды, что казалось – поезд плывёт вдоль берега. Ребёнок радовался, протягивал к воде ручонки. Не досмотрели за дитём, не успели поймать малышку. Поезд шёл дальше, а девочка так и осталась там, в холодной байкальской воде. И никто не смог помочь бедным родителям. Никто! Кричи не кричи, хоть все волосы вырви на голове – поезд движется без остановки, вагоны заперты снаружи. Словно скот везли. На станциях открывали, давая возможность кипятку набрать да в туалет сбегать. Рассказывала и о том, как убивалась в слезах её мать, но больше всех страдал отец – мой прадед Тарас. Я уже была наслышана о нём: моя мама, её братья и сёстры любили своего деда Тараса больше, чем бабушку.
Вторая сестра, подросток, упала с плота во время сплава по Амуру к месту распределения переселенцев. Присела с ведром, чтобы набрать воды. Ведро перетянуло девчушку, утащило за собой вниз. Так и унесло её течением. Течение быстрое, вода тёмная. Горе, такое горе! Бабушка замолкает. Глаза прикрыла, лицо осунулось, потемнело. Я молчу, прижавшись к ней.
Третья сестричка сгорела.
– Дуже красивою дивчинкою була, рукодильница, умелица! У бабушки появляется улыбка, глаза оживают! Она смеётся, вспоминая сестру. И продолжает свои горькие воспоминания.
Эта сестра любила плести из берёзовой коры разные поделки: браслеты, серёжки, бусы. И вот, уже прибыв на место, вечером пекли картошку в костре. Девочка доставала картофелину палочкой, берестяной браслет на руке её и вспыхнул. Девчонка испугалась, подскочила, с визгом побежала опрометью в лес, а пока стремительно неслась, пламя охватило её всю. Так и не спасли сестру. Гнались за ней – и догнали, когда она на землю упала. Но было уже поздно.
И помнит бабушка это пламя, уносящееся в глубину леса, помнит крики, погоню и онемевшие от страха ноги. Потому что даже привстать не смогла, чтобы бежать за сестрой…
Остался брат. С братом Сидором так и прожили всю жизнь бок о бок.
У бабушки Елизаветы и деда Марка было четырнадцать детей. Пятерых не стало маленькими, а из девяти выживших почти все дожили до глубокой старости.
Я слушаю, прижавшись к бабушке, и вижу картину как наяву: и поезд, и бурную реку, и лес, в котором сгинула её младшая сестра. Мы сидим в тишине ещё некоторое время, а часики на стене тикают и тикают, размеренно унося каждое слово и вздох в даль – в ту далёкую и непонятную даль, в которой осталось столько неизвестного и непонятного мне.
Письмо 23. Про прадеда
Я очень жалею, что так мало расспрашивала своих предков о прошлом. Об их молодости и детстве. Как же любила эти редкие и короткие моменты, когда бабушка находила несколько минут и предавалась воспоминаниям.
– Отца моего, а твоего, Галю, прадеда, – (бабушка Елизавета звук «г» произносила особенно, как бы выдыхая его, он был похож на смешанное сочетание звуков «г» и «х», и обращение ко мне звучало как «Гхалю»), – звали Тарас Васильевич Слатвинский…
И я слушала рассказ о своём прадеде. Он был могучего телосложения, косая сажень в плечах, громадного роста и непокорного нрава. Никогда никому не прислуживал и ни перед кем не пресмыкался. Был гордым и независимым. Работал у пана. Пан был крутого характера, никого не щадил, наказывал работников за любые проступки. А Тарас быстрее всех выполнял свою норму, получал свои заработанные двадцать копеек и уходил. Никогда не спорил, ни о чём не просил. Однако пан побаивался его и всё грозил проучить за независимость и упрямство.
Однажды в имение к пану приехал цирк-шапито. В труппе цирка был известный в те годы силач – негр Бамбула. Бамбула был важным и гордым. Он считал себя непобедимым, поднимал тяжести, крутил брёвна на одной руке, подкидывал гири, играл мышцами… Зрители, в том числе и работники пана, и сам пан, смотрели, открыв рот. Ахи и вздохи царили в зале. Вдруг Бамбула остановился, осмотрел зал и пригласил на арену любого, желающего побороться с ним. Зрители затихли и втянули головы в плечи. Тут пан и решил,что настал удобный момент.
– Ну, Тарас, что сидишь, как воды в рот набрал? – крикнул он. – Это ты со мной смелый, а здесь – трусишь, боишься? Ты ж у нас самый сильный, покажи себя, не опозорь своего пана!
Зрители начали подначивать Тараса, а Бамбула ходил по помосту и посмеивался, играя мышцами.
– Давай, давай, Тарас! – кричали зрители. – Положи на лопатки этого чёрного! Дай ему, дай ему под дых, пусть знает наших! Та-рас! Та-рас! Та-рас!
Не хотелось Тарасу связываться со знаменитым артистом-силачом. Но и смеяться над собой не позволил бы. Ну а пан очень хотел всем доказать, что он и сам не лыком шит, если такого работника имеет!
Бабушка вздохнула, поправила платочек на голове, прикрыла глаза, задумалась. Горела свеча, тени плясали на стене, а я уже там, в неведомом мне далеке, видела своего прадеда Тараса, огромного мужика с окладистой бородой, в длинной полотняной рубахе, подвязанной пояском. И силача негра, обмазанного с ног до головы жиром, в коротких трусах и практически безволосого. А бабушкина украинская речь, вперемешку с польскими и русскими словами, журчала, как тёплый летний ручеёк, унося меня в те далёкие годы.
Суть борьбы заключалась в том, что оба борца надевают на себя специальные пояса из толстой кожи, сходятся, берут крест-накрест друг друга за пояса и по очереди пытаются один другого бросить на помост. Бамбула сколько ни пытался сдвинуть Тараса с места – ничего не получилось, выдохся весь. Все попытки были холостыми, ни к чему не привели! Бамбула взбесился, пытался столкнуть Тараса, не соблюдая правил, но зрители начали шуметь! Подошла очередь Тараса. Он спокойно подошёл к силачу Бамбуле, взял его за пояс – и так тряхнул, что пояс лопнул и остался в руках Тараса, а силач Бамбула вообще улетел с помоста! Зрители пришли в восторг. Но и пан был рад, прямо раздулся от гордости. В награду Тарас получил от него… две папуши табака – две связки табачных листьев.
– Бабушка, а ты была там? Видела того Бамбулу?
– Ни, Галю, нэ бачила. Це батько мэни розповидав. Вин любыв ци истории. И мы ж любылы. Дуже любылы його слухаты.
Как я смеялась и радовалась победе Тараса! А бабушка с ласковой улыбкой глядела на свою любознательную внучку и гладила её по голове шершавой натруженной рукой.
– А расскажи, расскажи ещё что-нибудь, бабушка! Каким ещё был мой прадед?
И я слушала дальше. Уже здесь, на Дальнем Востоке, о Тарасе Васильевиче шла слава по всей округе как о знахаре. В Алексеевку шли люди со своими болезнями, и никому дед Тарас не отказывал Он умело правил грыжи, поправлял позвонки, снимал боли. К нему на лечение привозили даже лётчиков из Украинки, которые имели серьёзные травмы. Он и их ставил на ноги. А в знак благодарности ему оставляли мыло, продукты…
Вспоминая эти посиделки с бабушкой Елизаветой Тарасовной, я хочу верить, что главные черты характера Тараса Васильевича,такие как смелость, честность, упрямство, уважение и любовь к людям, в какой-то мере передались по наследству и мне, и моим детям, и внукам.
Письмо 24. Про Алексеевку
Деревня Алексеевка. Тогда, в детстве, мне казалось, что находится она на краю земли. Первоначально называлась Дуриловка. Основали её в 1909 году на юге нынешнего Мазановского района Амурской области переселенцы из западных губерний, но вскоре переименовали в честь наследника престола царевича Алексея.
Странное совпадение: московская бабушка Александра росла и дружила с цесаревичем Алексеем в детстве, а амурская бабушка Елизавета жила в деревне, названной в честь цесаревича Алексея! Это что? Кто там, свыше, так играет и распоряжается судьбами людей, связывает их, далёких и чужих во всём, такими странными фактами? Удивительно и необъяснимо.
Смутно вспоминаю тесную хатку-мазанку: окна маленькие, тусклые, из бычьего мочевого пузыря. Да-да! Отец мой всё удивлялся: как это? Как так? И вот именно его удивительные восклицания врезались в мою память. Помню, как я рассматривала эти мутные желтоватые оконца, через которые скупо пробивался дневной свет. Помню погремушки с горохом для младенцев, тоже из бычьего пузыря. Мячи, набитые соломой. О Господи, как давно я там была!
Вижу, как сейчас: бабушка месит ногами в корыте коровий навоз с соломой и глиной, затем мажет этим составом стены хаты, обитые по диагонали дранкой. Я кручусь возле корыта, пытаюсь вмешаться, помочь, но меня отгоняют. Я хватаю руками эту смесь и тоже растираю её по стене. Затем стены белят, и получается такая сказочная беленькая хатка. Залюбуешься!
Какой это был год? Не помню. Первая половина пятидесятых? Хорошо помню холодный земляной пол, чёрный, утоптанный до блеска. Посреди комнаты – стол, вдоль стен —лавки. Широкие. На них спали. Матрасы, набитые соломой или сеном, были колючими и пахучими. Под головой – мешок с гречкой или пшеницей. Однажды ночью проснулась от суеты: принесли новорождённого телёнка и положили его в угол комнаты. Утром он пытается встать на ножки. Я глажу его шёрстку, он прикасается ко мне влажным носом, и я визжу от восторга. Он писает. В разные стороны летят брызги. Они попадают мне на лицо, я верещу от восторга ещё громче. Меня никто не прогоняет, не ругает. Почему? Я не помню, почему и когда я была в том доме, без родителей, босиком на земляном полу. Именно босиком: я помню его атласную гладкость и нежность под ногами, его прохладу. А ведь в детстве именно холод нравится ногам. У меня было так! И по снегу босиком – ничего особенного. И валенки надевали на босу ногу. А если подошва у валенок протёрта до дыр, то снега – полные валенки. Ноги так и горят! Это – пока родители не знают, что пора подшивать обувку. А как заметят, что уже, по сути дела, босыми ногами по снегу бегаешь, могут и ремня хорошего поддать! Не церемонились. Чуть что – за ремень! Ох, боялась я его!
Помню тёплую печку. Я сверху наблюдаю за всем, что происходит в комнате. Сколько мне было тогда? Неужели я какое-то время воспитывалась бабушкой? Никто никогда мне не рассказывал об этом. Помню, помню эти маленькие мутные окна, из-за которых и днём в доме мрачно и темно.
А по вечерам бабушка читала Библию. Ставила на стол плошку, поджигала фитилёк, пропитанный жиром, и крошечное пламя скупо освещало небольшое пространство маленькой хатёнки. Мне нравилось наблюдать за живым огоньком, за чёрным дымком, вьющимся вверх от пламени. Я слушала монотонный бабушкин голос. Она водила пальцем по странице Библии и произносила слова по слогам, нараспев. Я мало что смыслила в том, о чём она читала. Задавала вопросы невпопад. Бабушка одёргивала меня. Теряла строчку, вновь искала место, где остановилась, смешно шевелила губами, разыскивая утерянное слово. Я, подперев кулачками голову, наблюдала за ней, сосредоточенной на чтении, в беленьком платочке, завязанным под подбородком… Переводила взгляд на огонёк фитилька в плошке, и в голове начинали роиться картинки… реальность удалялась, голос бабушки становился всё напевнее, протяжнее, тише…
Просыпалась я рано утром на печке, а в хате уже никого не было. Я прыгала на земляной пол, садилась за стол и пила ещё тёплое парное молоко из глиняной кружки, накрытой куском ароматного хлеба. Так начинался день.
Через несколько лет появился дом из брёвен. Он тоже был невелик – квадратов двадцать, не больше. Одна комнатка, в ней всё – и кухня, и спальня. Но пол уже из досок. Дед Марк постоянно скрёб их ножом, и пол становился белым, чистым, тёплым. В дом никто никогда не заходил в обуви. Вся обувь в сенцах или на крыльце. Днём дед детей не запускал в хату. Грозил своей осиновой палкой, сидя на завалинке с самокруткой. Та смешно торчала из бороды с усами, как из болотной кочки! Нам было интересно, мы спрашивали деда, зачем ему борода. А он всё поглаживал её да посмеивался над ребятнёй.
А детей на лето в деревню съезжалось много, в том числе и внуков деда Марка и бабушки Лизаветы. Мальчики и девочки разных возрастов, от разных сыновей и дочек, а у каждого – свой вредный характер. Вечно голодные, как саранча, всеядные, крикливые и драчливые. Дед Марко пытался уберечь от нашествия вечно голодного стада неуправляемых детей приготовленные на зиму запасы. На бочки с огурцами и арбузами клал неподъёмные камни, мешки с семечками и орехами зарывал в стоге сена, банки с вареньем засыпал в отсеках амбара душистой пшеницей. Что-то подвешивал к потолку в сенцах, что-то прятал в погребе, что-то на чердаке. Ходил – и всё той же осиновой палкой постоянно грозил своим многочисленным внукам. Издалека – потому что ему было не угнаться за этой оравой. Ходил кругами, чтобы не пропустить очередной налёт на охраняемый объект. Но силы его были малы против армии голопузых и необузданных детей. Вылазки за запретным плодом, который всегда слаще, происходили бесконечно. Идетям попадало уже не от деда, а от родителей.
А в основном родителям было не до детей. Они помогали старикам по хозяйству, на сенокосе, в поле, собирали грибы-ягоды. А хозяйство в то время было большим: свиньи, коровы, козы, бараны, конь, куры, утки, гуси, кошки, собаки… И все просили есть, пить, требовали ухода, выгула, стрижек и много чего ещё. Как со всем этим управлялись бабушка и дедушка – непонятно! Но это было тогда в порядке вещей.
Мне нравились летние каникулы в деревне. Здесь я чувствовала себя в своей тарелке. Никто не мешал моей независимости. Я, упрямая и строптивая, как козочка, была никому практически не нужна. Все были заняты делами. А моя вредность оставалась без должного внимания. Так и носилась я с ней, как своенравная птица галка.
Мы всей беспризорной толпой убегали за сосняк на речку и могли там существовать весь день. По дороге на речку надо было преодолеть огромную лужу. Её называли Байкал. Байкал – это экзамен на смелость, выносливость, решительность. Если первый раз получилось пройти его, то дальше уже не страшно. Если замешкался, струсил, увяз в тине – всё пропало. Толпа галопом уносилась к реке, не дожидаясь «слабака». Пощады не было!
Слабому не место в деревенском коллективе. Однако я не сразу преодолела это препятствие: рыдала, падала в мутную воду, вязла. Но потом сообразила: бежать надо, быстро бежать! Как все! Почти лететь над коварным болотцем, не высыхающим даже в жару.
Ели мы всё подряд – корешки каких-то цветов, побеги трав и сосны, ягоды и листья. Вечером баба Елизавета наливала в корыто ледяной воды из колодца, заставляла всех мыть ноги. Это было самое нелюбимое занятие за весь день! Наевшись до отвала яичницы с салом и хлебом, падали на прохладные одеяла, постеленные на пол в чистом доме и укрытые ситцевыми цветными простынями, – и тут же засыпали мёртвым сном. А утром на столе в летней кухне, под белым вышитым рушником, нас уже ждала трёхлитровая банка парного молока и каравай горячего хлеба. Мы жадно рвали на куски свежий ароматный хлеб, запивали его густым молоком и громко смеялись над образовавшимися молочными усами, показывая друг на друга пальцем.
По сей день помню все запахи тех летних дней. И понимаю, сколько любви, терпения было в сердце и душе бабушки Лизы и деда Марка. Иногда я отбивалась от общего стада ребятни, обидевшись непонятно на что и за что. Бродила по двору среди кур и гусей и придумывая новый план вливания в коллектив. Мой характер, упрямый и настырный, брал надо мной верх. И я училась уже с детства его обуздывать.
В деревне была всего одна улица из тридцати домов, а ещё колхозный свинарник, молочная ферма, конюшня, контора, зерновой двор… Тогда в селе было всё! И все жители села были при деле. Никто не бездельничал, не роптал на жизнь, не искал виноватых. Вся надежда была только на себя.
– Як потопав, так и полопав,– говорила бабушка, приучая и детей к посильному труду. В колхозе колхозники работали за трудодни. А получали за работу не только деньги, но и натуральный продукт от колхоза: комбикорм для животных, уголь, дрова. До 1966 года действовала такая форма оплаты. Часто среди взрослых шли разговоры взрослых про эти трудодни. Споры, рассуждения. Трудодням вёлся строгий учёт. Смешно сейчас – а тогда не до смеха было, всё серьёзно! У бабушки была специальная книжечка, в которой все они были записаны. Мне книжечка так понравилась, что я её выкрала и изрисовала. За что была строго наказана.
Жизнь взрослых на селе казалась чем-то сказочным, нужным, высоким и значимым. Дети тоже ни минуты не сидели без дела и не знали, что бывает такое состояние, как скука. Куда только ребятня не совали свой нос! Со свинарника таскали соевый жмых, комбикорм, предназначенный для корма свиней, и ели его так, как будто это был самый элитный шоколад. На ферме доярки угощали ватагу ребятишек сливками. Мы подставляли свой ненасытный рот под сепаратор и ловили тонкие струйки этой густой вкусной жидкости. Конюхи катали нас на лошадях, а мы любили подкладывать в кормушки коням свежее пахнущее летним лугом сено. Поглядывали в щель амбара за жеребцом, которого приводили из района для осеменения лошадей. Он казался нам исполином! И мы визжали от страха, разбегаясь в разные стороны, когда жеребец поворачивал голову в нашу сторону и смотрел своими огромными чёрными масляными глазами. Фантазии зашкаливали, когда мы делились своими впечатлениями об увиденном в сарае!
Будучи взрослой, я часто вспоминала эти дни, проведённые с двоюродными братьями и сёстрами. Но жизнь распорядилась так, что во взрослой жизни мы не общались и почти никогда не встречались. И не переписывались. Жизнь раскидала по миру это многочисленное собрание родственников так, что все стали чужими друг другу. И стремления встретиться, собраться ни у кого не возникало. Кроме одного двоюродного брата, Бориса Вершинина, который мне стал ближе родного, хотя мы и не видимся годами. Да и мало уже кто остался на этом свете. Все живы только в том, далёком времени, о котором часто думаю и скучаю.
Письмо 25. Про хлеб
Помню, как однажды я проснулась от сочного потрескивания дров в печке. Отодвинула уголок ситцевой занавески, прикрывающей широкую лежанку на тёплой печи, стала наблюдать за бабушкой Елизаветой. Вот она поправляет белый платок на голове, надевает поверх цветного фартука беленький и начинает замешивать тесто для хлеба. Но прежде чем замесить его, тщательно просеивает муку через сито.
– Нехай надышится, наберется свежего воздуха, нагуляется на свободе, – ласково приговаривая, постукивает ладошкой по бортику сита из берёзовой коры. Наливает густую закваску из глиняного горшка, подливает тёплой воды и заводит опару.
– Як опара подыметься, запузыриться, тут уж треба постараться, – всегда говорит бабуля. – Тесто треба вымешивать до тех пор, поки хребет нэ заломить и три пота с тэбэ нэ сойдэ!
И вымешивает его, читая молитву, и снова месит, месит, месит, стряхивая уголком платка капельки пота со лба.
Накрывает квашню вышитым полотенцем и оставляет её в покое. Никто не должен мешать тесту оживать, подходить. Никто не должен даже рядом топтаться. Никаких сквозняков и хлопанья дверью. Всё делается тихо, молча, как будто в доме кто-то отдыхает после тяжкой работы.
Проходит время – и снова бабушка хлопочет у квашни. Снова она – в белом переднике с карманом на груди и с полотенцем на плече. Что-то нашёптывая, обминает пышное тесто, упрямо вылезающее из деревянной квашни. Квашня, кадка, или ласково – дежа… С ней обращались почтительно, уважительно, осторожно. Её берегли. Она никогда не мылась водой, а после теста бабушка тщательно выскребала её ножом. После выпечки в ней хранился хлеб, накрытый белым полотенцем. И запах у дежи был удивительно тёплый, хлебный, родной, незабываемый по сей день.
Наконец-то тесто, всхлипывая и недовольно шипя, выпуская прозрачные пузыри, укладывается в широкой кадке. Бабушка собирает остатки теста с правой руки, кладёт в рот, жуёт, прикрыв глаза, одобрительно кивает головой. Что-то тихо бормоча себе под нос, накрывает будущий хлеб полотенцем, моет руки в ведре.
Здесь ничего не пропадает зря. И вода, в которой бабуля ополоснула руки, пойдёт не на улицу, а в корм свиньям. Они уже верещат в своём загоне во дворе, ожидая, когда их будут кормить. В алюминиевом баке, в котором всегда готовится пища для животных, бабушка большой деревянной толкушкой толчёт картошку, разбавляя её водой из ведра.
Тихо скрипит дверь. Дед, ночевавший на сеновале, заходит в дом. Дедуля малоразговорчив, всегда угрюм, любит с цигаркой посидеть на завалинке, глядя куда-то вдаль. Не говоря ни слова, берёт ведро с едой для свиней. Уходит, не до конца затворив за собой дверь. Он знает: по субботам бабушка ставит тесто на хлеб, поэтому дверью хлопать нельзя. Никаких резких звуков и громких разговоров. Тесто не любит шума.
Тут же в щель просовывается шустрая головка курицы с гребешком набок. Оценив обстановку, она, поочерёдно поднимая лапки высоко вверх, сжимая длинные пальчики с острыми коготками в кулачок, чтобы смягчить свою поступь и сделать её неслышной, направляется к столу. Бабушка разгребает в печи жар, ухватом ловко подхватывает чугуны и засовывает их в раскалённое жерло. Она стоит спиной к столу. Искоса поглядывая на бабушку, курица спешно собирает невидимые крошки с пола. Её многочисленные подружки следуют за ней, совсем не обращая внимания на хозяйку. Самая смелая несушка уже на столе, где лежит ломоть хлеба. Торопливо отрывает от него куски, тряся головой и придерживая ломоть длинными когтистыми пальчиками лапы, как собака. Крошки хлеба летят в разные стороны. Курица давится, спешит. А вокруг стола уже толкотня, назревает драка между осмелевшими курами.