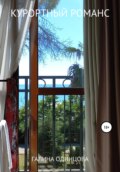Галина Одинцова
Письма прошедшего времени
Леониду Тимофеевичу, папе моему, нравилось на родине, в Москве. Ему нравилась цивилизация. Он любил театры, рестораны, кино. Любил просто бродить по Москве и любоваться архитектурой, любил в парках сидеть на лавочках и читать маме стихи. Он мечтал, чтобы его дети получили достойное столичное образование, чтобы дочка стала балериной и танцевала в Большом театре. Он был романтиком. А мама стояла на земле,никогда не витала в облаках. Она и сама готова была всю жизнь прожить рядом со своей мамой в деревне. Потому что таким же невидимым канатом была привязана к ней. Не пришлась ко двору в семье московской интеллигенции деревенская красавица. Да и не старалась прижиться там.
До последней минуты родители были со мной. Умирали на моих руках. Первым уходил отец. Я в эти дни была сама не своя. Понимала остро, до изнеможения: сколько же потеряно, не понято, не узнано! Сколько не сказано, не спрошено! Отчаяние такое – хоть на стену лезь. Да бесполезны сейчас эти запоздалые сетования.
Примерно за месяц до его ухода я дала отцу чистую тетрадь и ручку.
– Пиши. Всё что помнишь, пиши, рассказывай внукам своим о своей жизни. Ведь мы так мало общались. Оказывается, мы совсем ничего не знаем о тебе! О твоих прародителях, тётушках, дядьках.
– Да, пора, время пришло. О многом можно говорить. Даже не знаю, с чего начать.
– А начни с детства. С интересного случая. А остальное приложится, раскроется, словно весенний цветок. Помнишь, у вас в саду сирень цвела? И ты сфотографирован под этой сиренью. В Подмосковье, помнишь?
– Да, я помню всё!
Отец взял ручку, открыл тетрадь. И я ушла, не стала ему мешать. После его похорон открыла тетрадку, а на первой странице всего одно слово и запятая: «Однажды,..».
Папа не сдавался. Он знал, что уходит, но боролся до последней минуты. И отвечал на мои вопросы словно уже из далёкого далека. До последней секунды он старался жить!
В ночь перед этим я вызвала скорую помощь. Врачи, два парня, старались что-то сделать. А я, не знаю почему, сфотографировала их. После похорон увидела на фото нечто необъяснимое: над папой витало облако, очертаниями похожее на его фигуру. Показала дочке, и мы решили удалить это фото. Мне кажется, чтоэта мистическая странность ещё раз говорит о его жизненной силе. О силе духа. Перед самым уходом, в феврале, отец подал мне своё трико и попросил:
– Убери его в шкаф. Я летом в нём буду в огороде работать…
Письмо 9. Про маму
Мама была мастерицей на все руки! Она умела всё: шить, вязать, стряпать, рисовать. В архивах нашлись документы, в которых сказано, что маме, Кузьменко Екатерине Марковне, объявляется благодарность за подарок фронту – мешок связанных носков и мешок перчаток для солдат. А тогда ей было всего шестнадцать лет! По сей день храню мамины вязаные вещи, вышивки… Она была талантлива. Очень.
Тысяча девятьсот пятьдесят восьмой год. Мне шесть лет, брату пять. Утром, сквозь сон, слышу, как отец, уходя на работу, говорит маме, что хочет пригласить друзей на своё тридцатилетие:
– Ты приготовь тут всё. Пирожков испеки, стол собери. Давно на тебя хотят посмотреть…
Мама нагрела бак воды, налила в ванночку алюминиевую. Накупала нас с братом по очереди и приказала:
– Сидите на кровати и не мешайте! К папке гости придут, готовиться буду!
Мы сидели на узкой солдатской кровати, листали потрёпанные книжки, дрались по разным причинам. А мама готовилась к приходу гостей.
Намочила пол, посыпала содой, затем ножиком выскребла его до белизны.
Натёрла картошку, отжала и слила в тарелку крахмал. В тазик с водой вылила кипяток с крахмалом и замочила там две белые простыни.
Накалила на печке утюг – и влажные простыни прогладила до глянца. Разложила одну простыню на полу, взяла химический карандаш, и, макая его в воду, нарисовала потрясающие ромашки. Получилась скатерть. С ромашками по краю.
Разрезала вторую простыню на квадраты и в уголке каждого квадрата нарисовала такие же ромашки. Получились салфетки.
Тесто уже вылезало из ведра. Мама быстро превратила его в пирожки с повидлом и засунула их в духовку.
Газетами протёрла два маленьких окошка. Полила цветущую герань, поставила горшок с цветком на середину стола.
Намотала на тряпичные полоски газетные валики и закрутила на них влажные волосы. Сняла свои розовые хлопковые трусики, простирнула их в ванночке и, положив в вафельное полотенце, плотно отжала, затем ещё раз и ещё, досуха, и, на ходу надев их, достала из духовки пирожки, выложила на большую тарелку горкой и накрыла белым полотенцем.
Надела чулки «со швом» из коричневого капрона. Встала в ванночку, в которой купала детей, тщательно промыла ноги в чулках – чтобы капрон хорошо их обтянул, вытерла досуха вафельным полотенцем, а полотенце простирнула и вынесла во двор, развесила на веревке.
Почистила картошку, поставила варить. Разделала селёдку, нарезала на мелкие кусочки, посыпала лучком и полила маслом. Нарезала хлеб, положила огурцы из банки.
Сняла самодельные «бигуди», нарисовала карандашом брови, и поставила на щеке чёрную «мушку». Это было очень модно. Надела платье сорокового размера, затянула широкий пояс, подложила в бюстгальтер кусочки ваты. Села ждать… И мы с братом тоже, наевшись пирожков, ждали затаив дыхание.
До конца жизни отец помнил и рассказывал, как восхищались его женой, – такой красоты и чистоты никто из его никогда не видывал и такой вкуснятины не пробовал!
О своих родителях я скажу ещё много слов в своих письмах. Не всегда хвалебных, иногда и горьких. Это жизнь…
Письмо 10. Про сумочку
Если смотреть поверхностно, свысока, не углубляясь в суть, то можно решить, что эта банальная история не заслуживает абсолютно никакого внимания. Подумаешь, ребёнок страдает. Да и кто бы из взрослых считался с детскими переживаниями? Не до того было, когда приходилось выживать, сводить концы с концами. Никто бы из них и не догадался задуматься, сколько уже шрамов на сердце маленького человечка. А ведь впереди у него целая жизнь. Надолго ли его хватит?
Когда мне исполнилось лет пять, мама подарила мне удивительную голубую лаковую сумочку. Германскую. С ней я не расставалась даже ложась спать. В пластиковом окошке находилась беленькая фигурка собачки. У собачки моргали глазки, а лапки и хвостик были на резинках. Она была как живая. Я могла часами её рассматривать и мечтать о таком замечательном друге.
В сумочке хранились самые дорогие вещички: например, стёклышки для «секретиков». Каждой девочке того времени знакома была эта забава – собирать цветные стёкла от бутылок и смотреть на мир через эти чудесные призмы. А мне очень нравилось рассматривать сквозь них облака. Пушистые лёгкие облака меняли цвет и форму, и я придумывала разные волшебные истории, которые разворачивались там, высоко на небе. Очень хотелось взлететь и путешествовать в этих сказочных историях, нестись вместе с облаками в удивительные страны, о которых так увлечённо рассказывал папа. Он читал вслух на ночь сказки разных народов, и мы мечтали побывать там, где жили герои этих необыкновенных приключений.
А сколько фантазии и творчества было в этих «секретиках»! Существовал особый ритуал сооружения тайника. И только избранные могли его увидеть. Всё самое ценное – пёрышки, пуговицы, фольга и тому подобное добро – хранилось в сумочке, чтобы превратиться в удивительный тайный мир, спрятанный от посторонних глаз в землю.
Фантики от конфет занимали в сумочке особое место. Они настолько были востребованы, что почти истёрлись. Я доставала цветные бумажки, раскладывала их на столе, проглаживала ладошкой и любовалась рисунками. Каждая картинка имела свою удивительную историю. Они были волшебными и со счастливым концом. Таких красивых фантиков нельзя было достать нигде, кроме как в Москве. Только там угощали вкуснейшими шоколадными конфетами «Мишка на севере», «Ну-ка отними», «Красный мак», «Красная шапочка», «Белочка»… Развернёшь на конфете цветной фантик, а под ним ещё одна обёртка – из фольги, так называемая «золотинка», хотя чаще она была серебристой. Уж они-то были настоящим сокровищем, эти сверкающие кусочки фольги! Из них можно было сделать платье для бумажной куклы, колечко себе на палец – да что угодно!
В глубине сумочки хранилась тряпичная куколка с нарисованными огромными глазищами, которую сшила мама. Кукла жила среди этих сокровищ и была счастлива. Её руки-жгутики торчали в разные стороны, а нарисованные глаза с растопыренными ресницами удивлённо смотрели в этот мир.
Я никогда не расставалась с этой волшебной сумочкой. Даже ложась спать, укладывала её рядом с подушкой, предварительно проверив все свои сокровища и налюбовавшись собачкой в пластиковом окошке. Наша семья часто переезжала – то на новое место жительства, то в гости к родне. И в поезде, и в телеге, когда ехали на лошадях в деревню, я всегда прижимала сумочку к себе, как величайшую драгоценность.
И вот… она исчезла. Вместе со всем содержимым. Навсегда. Как же сильно переболела я эту потерю – с высокой температурой и бредом.
И только через несколько лет узнала: моя голубая лаковая сумочка была продана по дороге в деревню, потому что не на что было кормить в дальней дороге семью.
Письмо 11. Про яйца
Московская бабушка была интеллигенткой до глубины души. А нашей семье, помотавшейся по России из одного конца в другой, было не до традиций и жеманства. Отец мойпо привычке ещё придерживался каких-то правил, навыки воспитания в культурной семье не отпускали его, но детям их никто не прививал – не до того было.
А вот когда мы приезжали в Москву, нашу семью запирали в строгие рамки. Тут уж никуда не деться: салфеточки, вилочки, ножички. А у нас-то доме – какие там вилочки-ножички!Были две алюминиевые ложки на четверых, и ели ими по очереди – сначала дети, потом взрослые. Да и дома-то никакого, по сути, не было! Больше года не задерживались нигде. Отец, подвыпив, всегда говорил, что он цыганских кровей и на месте ему сидеть скучно. Мама не сопротивлялась, смиренно следовала за мужем, крепко держа нас, детей за руки. И так – всегда и везде.
На завтрак московская бабушка готовила яйца всмятку или «в мешочек». А табабушка, что в амурской деревне, набрав в курятнике полный фартук яиц, промывала их все сразу в ведре, очищая от навоза и перьев, опускала в большую кастрюлю, десятка два-три, заливала водой из колодца и варила яйца долго, до посинения. Никто эти яйца никогда не охлаждал. Чистились они всегда плохо. Дети, вечно голодные, давясь и обжигаясь, поглощали их чуть ли не со скорлупой. А детей всегда – полный двор. На лето съезжались в деревню внуки от многочисленных бабушкиных детей. И эту ораву надо было кормить. Хотя бы утром и вечером. Потому что днём никого не дозовёшься, не найдёшь: гоняют то по лесу, то на речку.
У московской бабушки всё не так. Она промывала яйца – по одному на человека – водой под краном. Протирала каждое салфеткой, предварительно проверив его на свежесть. Для этого в стеклянную пол-литровую банку наливала воды и по очереди опускала в неё сырые яйца. Если яйцо опускалось на дно – значит, свежее и его можно варить всмятку. Это была целая эпопея – бабушка варит яйца всмятку! Дождавшись, когда вода закипит, бабуля сыплет в неё ложку соли. Размешивает, ждёт повторного закипания. Затем каждое яйцо бережно, как что-то драгоценное, кладёт на столовую ложку и аккуратно погружает в кипящую воду. И такое проделывается с каждым яйцом. Затем бабушка ждёт, когда закипит вода. Как только начинается бурление, она переворачивает песочные часы и следит, как песок в них сыплется вниз.
Я стою рядом, наблюдаю за этим важным процессом варки яиц «в мешочек» или всмятку. Бабушка всё делает молча, не обращая на меня внимания. Внучка для неё ничего не значит. Стороннийобъект. Ребёнок от женщины, которая пришлась не ко двору. Я – есть, я – рядом, но на меня никто не тратит своих эмоций. Все эмоции достаются младшему брату. Он свой, он похож на отца. Ему все дифирамбы и восхищения.
Как только песочные часы отмеряют положенное время, горячая вода сливается и кастрюля с яйцами ставится под кран с холодной водой. На красивой тарелке яйца красуются в центре стола. Каждому подаётся блюдце, на блюдце специальная рюмочка-пашотница. Для меня это дико, но интересно. Яйцо кладётся в эту рюмочку острым концом вниз – иначе нельзя: с тупого конца яйцо разбивается легче и чистится легче тоже, и желток находится ближе к тупому концу. Бабушка за этим следит строго. Рядом с блюдцем – ножик и ложка. Ложечка по размеру меньше чайной, с расширенным концом. Надо ножиком разбить верхушку яйца или аккуратно срезать её, а скорлупу убрать и сложить на край блюдца.
Я часто получала подзатыльник за то, что не так ковыряю отверстие для ложечки. Скорлупа лопается, содержимое начинает сочиться через край пашотницы, жидкий желток предательски оказывается на скатерти. У меня всё не так! Руки тут же оказывается все в вязком желтке, потому что, пытаясь скрыть свои неловкие действии, я начинаю пальцами или языком ловить содержимое, медленно выползающее из недоваренного яйца, облизывать пальцы, размазывая эту субстанцию и по лицу. Меня гнали в ванную умываться, больно вытирали руки и лицо жёстким полотенцем, а потом, подталкивая в спину, отправляли снова за стол.
– Галя, разве так можно! Ты же девочка! Почему мать тебя не научила быть аккуратной. Вот как, скажи, с тобой можно пойти в гости?
– Я не хочу в гости. Я хочу быть дома.
– Нет, мы должны ходить в гости. Но для этого надо научиться правильно вести себя за столом.
Бабушка ежедневно воспитывала меня, ей не нравилось всё, что бы я ни делала. Мама терпеливо молчала, папа тоже. Они избегали конфликтов как могли.
– Галя, смотри, как правильно есть яйцо всмятку! Проделав дырочку… Видишь, какая дырочка у меня? Я сняла скорлупу только на макушке…
От слова «макушка» меня раздирал смех. Я стучала себя ложкой по своей макушке, за что получала снова подзатыльник от отца.
– Слушай бабушку и делай так, как она говорит. Не безобразничай!
Я ненавидела эти яйца. Мне хотелось взять яйцо, засунуть целиком в рот и разжевать!
– Леонид, не трогай девочку – я сама… Теперь, Галя, надо взять солонку, слегка присолить через дырочку внутренность яйца и ложечкой размешать!
Странной ложечкой с тупым концом я медленно месила белок с желтком, при этом разламывая бока яйца. Нечаянно, конечно, не нарочно же!
– Вот неуклюжая! Не получится из тебя барышни. Нет, не получится.
Я старалась как можно скорее съесть эту дурацкую бело-жёлтую жижу, тщательно очищая внутренние стенки скорлупы. И одним яйцом никогда не наедалась. Мне было непонятно, как это все молчат и не требуют у бабушки добавки.
В это время бабушка уже намазывала шоколадным маслом, тонким прозрачным слоем, кусочки ароматного батона и подавала каждому в руку. Мне хотелось, чтобы слой масла был толстым, чтобы можно было сначала съесть масло, а потом уже приступить к поглощению белого батона. Но масло так прочно вмазывалось в мякоть хлеба, что слизывать было уже нечего. Чайные фарфоровые, в зелёный горошек, чашки на блюдцах наполнялись горячим чаем. Можно было пить из блюдца: осторожно наклоняя чашку, наливать понемногу и не спеша, аккуратно отхлёбывать.
– Галя, ну кто же так пьёт чай! Не швыркай так громко, это некрасиво!.. Куда так дуешь? Брызги же летят во все стороны. Галя!..
Но мне было не до замечаний. Мне хотелось всего сразу и поскорее!
Никто не роптал, все выходили из-за стола, благодарили бабушку за завтрак. Меня заставляли произнести это нелюбимое слово – «спасибо». А я, практически голодная, выдавливала его сквозь слёзы. Мне хотелось есть!
Я очень хотела большой кусок белого батона с толстым слоем шоколадного масла. За это, высказанное вслух, снова получала подзатыльник и отправлялась в угол с игрушками. Среди игрушек была кукольная посуда. Её мне подарила бабушка. Посуда была настоящая, фарфоровая, разрисованная голубенькими незабудками. И пашотница была тоже. И я с удовольствием обучала кукол есть яйца всмятку, щедро раздавая им подзатыльники.
Письмо 12. Про оливье
Никогда в нашей семье не приветствовались салаты, кроме маминого, приготовленного из своих овощей, выращенных в огороде. Всю жизнь родители резали огурцы, колбасу, селёдку и прочие продукты в разные тарелки. Огурчики – значит огурчики. Селёдочка – значит с лучком и полита маслицем. Вот так ласково, с любовью и нежностью называли мама и отец каждый кусочек простого, доступного продукта. Остатки хлеба – на сухарики. Не на сухари – безобразные ломти засохшего хлеба, а на аккуратно порезанные кубики, засушенные до румянца в духовке. Сухарики обожали все. Любила их грызть и я. Даже на уроках.
– Заморишь червячка – смеялась мама, насыпая в карман школьного фартука жменьку румяных кубиков.
Мама частенько варила суп «чисто картофельный». Такое название ему придумал отец.
– О, сегодня мой любимый суп – чисто картофельный! – восклицал он, садясь за стол после рабочего дня. Я не понимала, сколько было горькой иронии в его радостном восклицании. Это сейчас, анализируя то время конца пятидесятых годов прошлого века, понимаю, как бедно мы жили. И тогда «чисто картофельный» суп был самым вкусным, горячим, ароматным. Мелкие кусочки картофеля плавали в желтоватом картофельном бульоне, а бульон был в меру солёным и насыщенным картофельным запахом, смешанным с запахом лаврового листа, который всю жизнь добавлялся родителями во все первые и вторые блюда.
В один из наших приездов в Москву – мне было тогда лет шесть-семь – бабушка накрыла стол. В центре стола стояла большая салатница с салатом оливье. Нет, тогда я не знала названия этому популярному салату. Но я хорошо запомнила его содержимое ещё и потому, что мама, дождавшись, когда бабушка выйдет из комнаты, громким шёпотом всем нам приказала салат не есть!
– Не вздумайте есть это! – восклицала она. – Мало ли что там понамешано! И какими руками эта гадость делалась!
Я рассматривала горку салата в своей тарелке, и мне очень-очень хотелось его съесть. Завораживал не столько запах этого кушанья, сколько зелёный горошек, который я видела впервые в жизни. Мне казалось, это ягоды – сочные, сладкие, тающие во рту. Но строгий взгляд мамы останавливал. Этот взгляд зорко следил за нами. У мамы со свекровью были сложные отношения, маме во всём виделся подвох – и она всем своим нутром стремилась предостеречь нас от опасности.
У бабушки была высокая кровать, белое покрывало с кружевами понизу спускалось до самого пола, и что там под кроватью – неизвестно! Но очень интересно. Меня туда манило, тянуло. Там была тайна. Дождавшись, когда в комнате никого не будет, я нырнула в эту завораживающую темноту…
Бабушка жила в коммунальной квартире. Длинный коридор и четыре комнаты. В большой общей кухне – четыре стола. Можно подходить только к своему столу и ни в коем случае к чужому. До сих пор, с болью в сердце, помню запах подъезда, квартиры, кухни, помню окна – огромные, сверкающие чистыми стёклами, и высоченные потолки с замысловатыми вензелями и рисунками. Это был мир, который должен был быть моим. Но он им не стал. Это уже другая история…
Итак, я под кроватью. Вдоль стены – коробки, ящички, свёртки. Бабушка работала в сфере торговли. Одаривала нашу семью одеждой, посудой, подарками на разные случаи жизни. Хорошо помню, как тяжелы были чемоданы, когда мы в очередной раз покидали Москву…
Обследовав подкроватное богатство, я подползаю к тазику, накрытому полотенцем. Приподнимаю его, а там – салат! Салат, который нам запретили есть. И в нём – зелёные ягоды! Которые я никогда не пробовала, но так желала их вкусить, разжевать, насладиться незнакомым вкусом.
Достав «ягодку», кладу её в рот, жую – и прихожу в состояние шока: ягодка солёная! Невкусная! Пришлось выплюнуть. Зато с удовольствием отведала кусочки колбасы. Я их тщательно выковыривала из салата до тех пор, пока меня не вытащили за ноги из-под кровати и не отпороли отцовским ремнём. За салат, в котором я копалась руками, за непослушание запрету – не есть эту «гадость», и за все грехи, нынешние и будущие.
Я стойко выдержала это наказание. Потому что никто меня не защитил, не пожалел. А слёзы, как известно, льются рекой тогда, когда кто-то прижмёт, защитит и пожалеет. В этот день меня осудили все. Но зато я впервые в жизни ела салат оливье под кроватью, руками, выбирая колбасу, которая для меня была такой же диковиной, как и зелёный горошек…
Письмо 13. Про пальто
В альбоме лежат фотографии. Они сделаны весной 1953 года. Мне год. Папа держит меня на руках, а мама – рядом. На фото мама в новом пальто. Отец купил его той же весной в Москве, в ГУМе, отстояв почти сутки в жестокой очереди. Отец много раз с восторгом рассказывал об этом. Особенно о том, как почти ввязался в драку со спекулянтами – те чуть не вырвали из рук добытую столь долгим стоянием вожделенную вещь.
Пальто было дорогое, сшитое из шерстяного сукна, а точнее – из лодена. Длинное,прямое, с подплечниками. Подплечники в то время вошли в моду, и такой силуэт очень шёл маме. Хорошо помню это пальто синего цвета. Тёмно-синего, почти чёрного. Ткань на ощупь плотная, но мягкая и ворсистая. Её приятно было поглаживать рукой снизу вверх. А когда сверху вниз – ткань сопротивлялась, ершилась и становилась темнее. На пальто пришиты большие пуговицы и очень украшают его.
Сшитое в классическом английском стиле, оно очень долго не выходило из моды. Мама любила его носить нараспашку. Она не любила никакого насилия одежды над собой, никаких застежек под горло и свитеров с высоким воротом. Была открыта для всех.
Почему я его так хорошо помню? Всё просто. Я росла – а мамино пальто оставалась одним и тем же. Всегда с ней и на ней. Во все сезоны.
Мама была аккуратной и умела беречь вещи. Это сейчас я знаю, что синий цвет очень сильно выгорает на солнце, а тогда…
В 1958 году наша семья в очередной раз переехала жить в Москву. Надеть было катастрофически нечего! Кроме этого пальто у мамы не было тёплых вещей. Я помню, как мама налила чернил в баночку от консервов, намотала ватку на карандаш, и мы красили пальто. А точнее – плечи: они были белёсыми. Мы водили ватой по ткани, а ткань с удовольствием впитывала чернила внутрь – и окрас получался полосатым. Мама плакала. И, глядя на неё, плакала я. Но мне нравилось то, что мы делаем. И я стала делать полоски не сверху вниз, как мама, а из стороны в сторону. Получалась клетка. Мама совсем отчаялась и отругала меня.
А утром она пошла устраиваться на работу и взяла меня с собой. Было холодно. Ткань на пальто уже высохла, и «рисунка» на плечах почти не было видно. Мама надела пальто. Мы торопились, мама нервничала, переживала, что её не примут. Но её приняли. Радостные, мы забежали в магазин, накупили сладостей: зефир, пастилу, вафельный торт. Настроение было прекрасным! Несмотря на то, что пошёл сильный дождь.
Когда пришли домой, мама сняла пальто и… о ужас! Белая блузка из тонкого шифона пропиталась чернилами. И по телу мамы текли чернильные ручьи.
Московская бабушка сильно ругалась:
– Как можно было до такого додуматься! Покрасить чернилами пальто! Где это видано!
–У нас в деревне все так делали…
– В деревне! Эх, деревня, деревня!
И замочила мамино пальто в ванне. Мама сидела над ванной и плакала. И я тоже плакала.
Пальто высохло через несколько дней. И стало выглядеть ещё ужаснее. На работу мама бегала в тёплом пиджаке, его она связала сама из настоящей овечьей деревенской шерсти.
На первомайских выходных мы распороли пальто. С изнанки ткань была как новая. Прекрасная ткань, цвет – тёмно-синий, почти чёрный, как ночное озеро. Мама его «перелицевала», перешила. Скопировала все строчки и обметала петли лучше, чем фабричная машина «оверлог». И носила его ещё лет пять.
А в то время, в начале шестидесятых, снова в моду вошёл мамин стиль. Английский. В таком же стиле одевались непревзойдённые красавицы того времени – актрисы Фэй Данауэй, Эди Седжвик, Миа Фэрроу. И моя мама. Она всю жизнь слыла модницей, не имея для этого достаточных средств и образования. Я помню взгляды мужчин, провожавшие маму. А отец – ревновал. Ревновал!..
Письмо 14. Про побег
Обосновавшись в Москве, мои родители устроились на работу, а нас с братом устроили в детский сад. Мы, дикие дети, бесконечно прицепленные к маме, были в шоке. Нас нарядили в одинаковую казённую одежду. На мне было серое платье, чулочки. Я чувствовала себя неловко. Мне было стыдно, как будто на меня напялили толстые трусы с начёсом. Именно такое было состояние. Я не могла шевелиться. Стояла, расставив ноги, и раскинув руки в стороны. Орала! Звала маму. Воспитательница никак не могла меня успокоить. Из соседней группы привели брата в чужой одежде. Нас посадили рядом. Так мы и сидели первые дня три, держась за руки, пока немного не привыкли к незнакомым людям и к одинаковой серой одежде. Но примерно через неделю наши страдания в детском саду закончились.
Мама очень гордилась моими косами. Заплетала с любовью, вплетала красивые банты и любовалась этой красотой. Все хвалили мои косы. Я стеснялась, опускала голову и ковыряла носком ноги пол или землю.
И вот, примерно через неделю, в садике случился карантин. И детей, не спрашивая родителей, увезли в инфекционную больницу. Скарлатина. Там моим косам пришёл конец. Сначала их беспощадно отрезали ножницами, затем меня, как и всех детей, машинкой постригли наголо.
Дети смотрели друг на друга и орали благим матом, не узнавая друг друга. Мы все поголовно были в белых широких рубашках, как привидения. Слёзы и сопли текли по нашим красным лицам. А нянечки бесцеремонно швыряли детей по кроватям и шлёпали по голым попкам.
Вечером мои родители постучали в окно. Показали жестами, как его открыть. Я долго тянула щеколду на окне. Кое-как справилась. Вытолкнула в окно сначала брата, потом вылезла сама. И мы сразу же поехали на вокзал. У меня была температура. Брат оказался здоров. Я помню, что все ладошки и моё тело было покрыто сыпью. Мама прятала меня под простынями. Мы ехали на восток. Я почти умирала. Мама закрывала меня своим телом, чтобы пассажиры не поняли, что я больна заразной болезнью. Но всё-таки тайное стало явным, и нас пообещали на большой стоянке сдать в милицию. К счастью, поезд остановился на минуту на станции с коротким названием «Ту», гдебыло всего два домика, и в одном из них жила мамина сестра Мария. Почти месяц мы прожили там, пока я не выздоровела.
Что это? Слепая родительская любовь? До сих пор не понимаю.
Письмо 15. Про дорожки
Как-то внезапно вспомнилось: дорожка! Мама вышивала дорожки. Интересно звучит: «дорожка»! Ушло это слово, не вяжется оно с современностью. Не на слуху. И неудобное слово какое-то. Дорожка… Белоснежное ажурное ришелье – или вышивка нитками мулине, крестиком или гладью, волшебной, сказочной, гладкой, как лента из атласа, вплетённая в мои косички.
Я любила смотреть, как мама вышивает. Под её пальцами рождались удивительные узоры, цветы, романтические сюжеты. Это была ювелирная работа. Я помогала маме подбирать нитки по цвету. А разноцветья в толстой «косе», сплетённой из великого множества ниток, было не перечесть! Мне нравилось вдевать ниточку в иголку, втыкать её в специально сшитую для иголок подушечку и ждать, когда же эта ниточка «зазвучит» в мамином исполнении.
Мама вышивала по ночам. Помню, как она, наклонившись над пяльцами, колдовала над очередным рисунком. Тусклый свет единственной лампочки, обрамлённой самодельным абажуром, скупо освещал её силуэт. Я любовалась мамой. Её рука, как птица, привязанная невидимой нитью, металась вверх-вниз, вверх-вниз. Иногда рука останавливалась и поправляла волосы, спадавшие на глаза. Изредка мама поднимала пяльцы ближе к свету и любовалась своей работой, поглаживая рисунок рукой. Я не сводила с мамы глаз, пока внезапно прилетевший сон не обрывал эту милую сердцу картину. И я проваливалась в бездну, ещё силясь открыть глаза и продолжать любоваться мамой.
Дорожки служили украшением в доме. Вышивки крепились булавками на плюшевый коврик или кнопками на стену. Это была картины. Произведения искусства, созданные своими руками в бессонные ночи.
Мама гордилась своими работами. Они делали наш дом ярким, уютным, сказочно красивым. Гости рассматривали дорожки, скатерти, полотенца, вышитые мамой. Хвалили, восхищались, а мама смущалась, краснела, отмахивалась от похвал и смеялась… Ей были приятны хвалебные речи.
Со временем нитки на вышивках выцвели, вещи износились, перестали быть модными и незаметно исчезли из нашей жизни.
Только память хранит то волшебство, которое никогда не повторится. И уйдёт уже навсегда вместе со мной.
Письмо 16. Про мясо
Странно, но первым моим прочитанным словом было слово «МЯСО». Мне было лет шесть. Жили мы тогда в Сибири, под городом Кемерово, в небольшом городке угольщиков с диковинным названием Анжеро-Судженск, или Анжерка, как его называли по-простому. Переехали туда из Райчихинска, Амурской области, не прожив там и года. Отец завербовался туда на работу – крановщиком на шахту.
Поселили нас в бараке. Тот район городка, где пришлось жить, весь состоял из низких, как будто присевших бараках, похожих на серые сараи и расположенных вдоль улицы, Каждый барак имел одну тяжёлую дверь и много подслеповатых маленьких окон. Окна, расчленённые на несколько частей деревянными рамами, упирались в завалинку. Было такое впечатление, что они утопают в ней или растут из неё: криво, несговорчиво, как придётся. Внутри барака – длинный коридор и большое количество разномастных дверей, обшарпанных и увешанных навесными замками. На многих дверях красовались заплатыизфанеры или картона, изрисованные детскими каракулями. За каждой дверью – небольшие комнаты с жильцами. А жильцы – разные, очень разные, очень…
Отец сутками был на работе. Приходил домой чёрный до такой степени, что первое время мы с братом его боялись и прятались под кроватью с провалившейся почти до пола железной сеткой. Но когда папа раздевался у порога и снимал рубашку, чёрными оставались только кисти рук и лицо. А на чёрном лице сверкали огромные глаза. Он был похож на негра, и это было очень страшно!
Со временем мы привыкли к этому необычному образу, смеялись над отцом и с удовольствием помогали маме его отмывать. Вода была приготовлена заранее из снега. Мама приносила вёдрами снег с улицы и растапливала в баке на печи. Отец садился в алюминиевую детскую ванну. Он в ней не умещался, коленки торчали до самых плеч. Широкие тёмно-синие сатиновые трусы до колен прилипали к худым ногам. Отец намыливал голову коричнево-серым хозяйственным мылом, которое имело неприятный запах, но зато пены давало много! Он фыркал, плотная, как вата, пена летела кусками в разные стороны, а мы с братом, смеясь, ловили её и размазывали себе по лицу. Громко галдели и хохотали, наперегонки черпали воду из бака серыми, хорошо помню, что помятыми, алюминиевыми кружками, и поливали ею голову отцу, а мама ругала нас за то, что много воды расходуем, ведь она в баке быстро кончалась. Это были очень счастливые минуты, которые я часто вспоминаю, вызывая из далёкого прошлого свои детские впечатления.