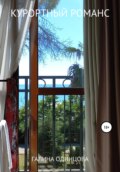Галина Одинцова
Письма прошедшего времени
Всю неделю мама шила платья из очень красивого шифона, креп-жоржета и крепдешина. Ткани раскладывались на чистом полу, мама кроила детали платья и сшивала их вручную. Я, просыпаясь ночью, видела, как мама, низко склонившись над изделием, шьёт. Её профиль в тусклом свете лампы до сих пор стоит у меня перед глазами – и ниспадающая прядь волос, которую она то и дело торопливо закладывает за ухо, продолжая свою кропотливую работу.
А в субботу, часов в пять утра, нас с братом поднимали и вели на рынок. Родители никогда не оставляли нас одних, везде таскали за собой. Мама надевала одно из новых платьев, сшитых ею на неделе, и стояла в толпе, как манекен, крепко держа меня за руку. Так крепко, что у меня горела ладонь, я хотела её выдернуть, но мама не отпускала! У неё была очень маленькая, но сильная рука.
К ней подходили женщины и о чём-то спрашивали. Мама толкала меня в спину, чтобы я бежала к отцу. Отец спешно доставал из-за пазухи небольшой свёрток, и я, крепко прижав этот свёрток к себе, несла его маме.
Вот так мы продавали сшитые мамой платья. А зимой мама очередное красивое платье надевала под пальто, которое как бы невзначай расстёгивала, чтобы наряд видели. Маме было холодно, но она терпела. Платья продавались хорошо всегда.
Но внезапно могла образоваться облава. «Спекулянтов ловят!» – кричали люди. Многие пришли не продать, акупить что-то, но тоже бежали, чтобы не попасть под горячую руку в милицию. Мама тащила меня за руку так, что я спотыкалась, падала, получала подзатыльник, и опять мы бежали. Бежали с рынкавсе – в разные стороны, кто куда!
С отцом и братом мы встречались уже дома. Родители долго обсуждали событие утра, считали мятые рубли, распределяли, что на ткань, что на продукты, что на чёрный день.
Однажды зимой мы шли на рынок. Я отчётливо помню это утро. Отец – в шинели: он долгие годы ходил в шинели, не мог расстаться с ней после армии. Мама – в пальто из драпа. Пальто осеннее, тёмно-синего цвета. На голове у неё – пуховый платок. Мы все были в валенках и шли продавать мамины платья. Было ещё темно, раннее утро. Но люди уже двигались к рынку, похожие на чёрные тени, – шли молча, спешно, укутавшись в высокие воротники, поскрипывая снегом под подошвами. Пар клубился в морозном воздухе над людским потоком.
Вдруг я увидела впереди силуэт барака. Фонарь, качавшийся из стороны в сторону, освещал вывеску тёмного цвета. А на ней белыми толстыми буквами было написано «МЯСО».
– Мама, мясо, смотри, там мясо! – кричала я.
Чёрные тени, похожие на людей, оборачивались. Многие останавливались, смотрели в нашу сторону. Мама дёргала меня за руку, успокаивала, и спрашивала, откуда я знаю, что там мясо.
– Мама, там написано – мясо! Прочитай – мя-со!
– Леонид, Галя наша читать умеет! Она прочитала слово!
Этот миг очень значим для меня. До сих пор не пойму, умела я тогда читать или нет. Мясо в нашем доме было редким угощением, а мне его всегда очень хотелось. Может быть, я просто узнала вывеску, которую видела раньше. Но она по сей день перед моими глазами, освещённая качающимся фонарём, то появляющаяся, то исчезающая, но с чётким словом, написанным печатными белыми буквами – «МЯСО»…
А мясо я практически не ем. Видимо, привычка, заложенная в детские годы благодаря его частому отсутствию. Мясо у нас было только по праздникам.
Письмо 17. Про метель
В комнате полумрак. Одинокая тусклая лампочка на длинном скрученном проводе спускается с потолка. Её матовая желтизна скупо освещает небольшую комнату. На улице день, но в крохотные оконца не льётся дневной свет. Сугробы – до самой крыши, так чтоокна полностью завалены снегом. Снег плотно прилегает к стёклам, горкой лежит и не тает между деревянными рамами, кое-где пробиваясь из щелей на узкий некрашеный подоконник.
В комнате холодно. Очень холодно. Воздух пахнет морозом, он живой, пробирает до слёз.
Мне шесть лет. Я лежу под тонким байковым одеялом в полоску. Поверх одеяла – моя шубка из цигейки. Рядом младший брат. Ему тоже холодно. Он жмётся ко мне своим худым телом и скулит, как щенок. Он хочет есть. Мама ещё не кормила нас. Она лежит в полумраке на такой же солдатской железной кровати у противоположной стены. Не шевелится. Глаза закрыты. И мне страшно. Потому что вместо глаз вижу чёрные круги, а очертания лица неясны и расплывчаты. Брат достал меня своим нудным нытьём, и я пинаю его ногой. Он отбивается и скулит ещё громче.
Мама зашевелилась. Я замираю, я вся дрожу. Не узнаю свою маму. Боюсь. Брат, чувствуя мою дрожь в теле, мой страх, затихает и укрывается одеялом с головой.
– Доченька, подойди…
Мне не знаком этот слабый голос, я знаю другую маму: хлопотливую, заботливую, ласковую.
– Доченька, иди ко мне!
– Нет! Я не пойду! – плачу я. – Я тебя боюсь. Ты не моя мама, ты чужая! Моя мама не такая!
Брат противно ноет под одеялом. Он дышит мне в спину. Мне становится жарко. И это меня ещё больше раздражает, просто бесит, и я луплю его по пальто, которое наброшено на одеяло с его стороны. Родители всегда укрывали нас на ночь верхней тёплой одеждой, потому что барак, в котором жили, не держал тепло.
– Доченька, подойди, это я, мама…
Из-под одеяла показалась худая рука и поманила меня к себе. Я закричала во всё горло и нырнула под одеяло к брату. Мы оба кричали во всю мочь, крепко обнявшись. Стало очень жарко – и мокро от слёз. Но никто нас не убивал и не трогал.
Я осторожно высунулась из-под укрытия. Мама сидела на кровати, спустив голые ноги. Она плакала – я видела её трясущиеся плечи. Я начала узнавать свою маму. Узнала привычный жест руки, поправляющей волосы, плечи, ноги.
– Мама! – закричала я, спрыгнула с кровати на ледяной пол и бросилась к ней.
– Валенки! Надень валенки, доченька, а то простынешь. Заболела я сильно. Папе ничего не сказала – он на шахту ушёл на сутки. Надо за хлебом пойти, а я встать не могу. Сходи, деточка моя?
Мама гладила меня по голове. Я чувствовала, как её рука, лёгкая, почти безжизненная, прикасается к моим волосам. Мама прикасалась губами к моим щекам, а губы её были сухими и холодными, глаза – чужими. Они глубоко провалились в глазницы и блестели непривычно, и холодно.
На мне моя шубка из цигейки, купленная «на вырост». Валенки подшиты, хотя правый на пятке уже протёрся. Снег забивался в эту дырку и морозил пятку, но я боялась сказать об этом отцу: уж очень быстро протёрла подошву, катаясь с горы. Шерстяной платок накинут на плечи, скрещён на груди и накрепко завязан сзади. Ненавижу этот платок: он сковывает движения, давит, мешает рукам. Ещё эта шапка! Наползает на глаза, а резинка сдавливает подбородок и ощущается узлом на макушке.
Я иду по длинному коридору барака, раскинув в стороны руки: из-за такого количества одежды они не прилегают к моему телу. А в ладошке крепко зажата денежка.
Коридор тёмный и длинный. За закрытыми дверьми кипит жизнь, оттуда слышатся плач детей, гармонь, песни и крики.
Я бегу в магазин. За хлебом. Впервые в жизни ухожу из дома одна.
Дверь из барака на улицу тяжёлая, открывается туго. Обычно мама с трудом открывает её и держит до тех пор, пока мы с братом не вывалимся за порог. Сегодня мамы нет рядом. Я, как могу, толкаю эту дверь всем телом, пинаю ногой, пытаюсь открыть, разбежавшись издалека. Неожиданно она открылась, и я вываливаюсь за порог, в снег. Полупьяный сосед с бутылкой в руке выругался, видимо, испугавшись.
Сильный ветер со снегом дует в лицо. Медленно продвигаюсь в сторону магазина. Путь к магазину не очень-то близкий. Да ещё предстоит забраться на высокую горку. Ветер беспощаден, то и дело сбивает меня с ног. Снежная метель не щадит. Я падаю, поднимаюсь, опять падаю, но двигаюсь вперёд. Вот и горка. В хорошую погоду мы всей семьёй катались с неё на санках, которые отец сделал сам. Санки были многоместными, полозья тонкими, чугунными, отлично скользили. И ещё на них была стальная спинка – ажурная, высокая, крепкая. Наши санки вызывали зависть у жильцов барака. Отец гордился своим изобретением.
Ветер не даёт забраться на вершину горы. Я ползу наверх, но, не достигнув цели, скатываюсь вниз. Ещё раз. Потом ещё много раз упорно лезу наверх. Варежки промокли и задубели от снега, рука, сжимающая денежку в варежке, онемела. Горячие слёзы от бессилия катятся по щекам, они жгут замёрзшие щёки, а я всё никак не могу забраться на эту крутую горку. Ветер сметает моё тело вниз раз за разом.
Вдруг чьи-то сильные руки подхватывают меня, несут и ставят на ноги уже наверху.
– Кто ж тебя из дома-то выпустил? – возмущённо прокричал незнакомый мужчина и пошёл прочь быстрыми шагами, нагнувшись и укрываясь от ветра поднятым большим воротником пальто.
Вваливаюсь в магазин, как снежный ком. Ни говорить, ни двигаться уже не могу. Продавщица выскочила из-за прилавка и стала меня трясти, как грушу, развязала платок, сняла шапку, растёрла своими горячими ладонями мои щёки.
– Кто ж тебя отправил-то из дому, горемычная? – приговаривала она. – Что ж за мать такая, что ребёнка выпустила в такую пургу!
– Мама заболела, – чуть слышно бормочу я. Меня клонит в сон от тепла и растираний. Продавщица силой раскрыла мои пальцы и извлекла из ладони рубль
–Зачем пришла-то?
– За хлебушком,– промямлила я.
Добрая женщина напоила меня горячим сладким чаем. Вытряхнула снег из валенок, обмотала обёрточной бумагой мои замершие ноги, натянула штанины с начёсом на обувки, снова укутала меня, крепко завязав платок сзади, достала из моего кармана сетку-авоську, положила в неё буханку душистого хлеба и привязала сетку к моей руке.
– Чтобы по дороге не потеряла. Пурга-то какая на дворе, ветрище-то так и воет… Ну, иди, детка, с Богом! – И выпроводила меня за дверь.
Теперь ветер дует в спину и подгоняет так, что приходится бежать. Падаю, поднимаюсь и бегу дальше. Кубарем скатываюсь с горы. Привязанная к руке сетка с буханкой хлеба бьёт то по голове, то по животу. Но я не чувствую боли. Понимаю, что уже осталась бы без хлеба, если бы не привязали сетку к руке. Сетка тащится за мной по снегу, а я, едва удерживаясь, чтобы не упасть, вприпрыжку несусь домой. Тяжёлая дверь не поддаётся. Ветер силой прижимает меня к ней. Обняв буханку, я через дырку в сетке грызу корочку хлеба вместе со снегом и бегущими градом слезами. Вдруг дверь открылась, и из неё вывалился тот же сосед, но уже очень пьяный. Обернувшись назад, он громко ругался в тёмный коридор. Я прошмыгнула под его рукой в барак и побежала к своей двери.
Мама по-прежнему лежит на кровати и не шевелится. Брат тихо сидит рядом с ней в своём зимнем пальто – голые ступни ножек торчат из-под полы. На голове у него меховая шапка, на шее шерстяной шарф. Подбегаю к брату, и мы пытаемся отвязать сетку от моей руки зубами. Кое-как справившись с крепким мокрым узлом, по очереди кусаем мокрый хлеб. Мама открыла глаза. Мы откусываем маленькие кусочки хлеба и суем ей в рот. Но мама не может есть, она выплёвывает их. А мы тихо плачем, и гладим её по голове, и целуем её ставшее таким незнакомым лицо.
– Пи-и-ить… – тихо шепчет мама.
Чайник на плите, и я не могу дотянуться до него. Ведро с водой стоит на стуле у дверей. Вода в ведре замёрзла. Железной кружкой пробиваю тонкую корку льда и зачерпываю ледяной воды. Алюминиевой ложкой набираю по капле воды из кружки и даю эти капли маме.
К вечеру заглянула соседка. Увидев нас, она запричитала и увела в свою тёплую комнату. Накормила жареной картошкой, напоила горячим кипятком с сахаром, уложила спать.
Утром пришёл с работы отец. Натопил комнату, сварил суп. Через несколько дней мама стала поправляться. И жизнь потекла своим чередом… Это был 1959 год.
И много лет мне снится, как я пытаюсь залезть на снежную гору, но, не достигнув вершины, скатываюсь вниз! Однако я упрямо лезу и лезу вверх, к своей цели…
Письмо 18. Про розу
Есть категория людей, с которыми постоянно что-то случается. В эту категорию я вхожу «как своя» – будто в ней родилась. Сколько себя помню, разные мелкие неприятности так и липли ко мне. Будучи уже взрослой и самостоятельной, я продолжала с завидным постоянством попадать в то место и в то время, где нарвусь на что-то непредвиденное. Судьба мне даже день для этих досадных мелочей выделила – пятницу. Именно в пятницу я попадала в разные истории, от которых приходилось страдать.
Все новые вещи, купленные с большим трудом и на «последние копейки», приходили в негодный вид в первые же дни их носки: чаще всего – в первую же пятницу. Я их рвала, абсолютно не желая этого. Попадала под дождь – и тут же что-то расползалось, красилось или расклеивалось. Падала в грязь, обязательно в новой кофточке или платье. Раздирала напрочь последние чулочки через минуту после того, как их надевала. С обувью мои проблемы никогда не кончались, да и по сей день не кончаются. Мне попадалась такая обувь, которая тут же расклеивалась, обдиралась, ломались каблуки и терялись шнурки. Я помню все свои сапоги, туфли, босоножки. Жизнь у них оказывалась недолгой. А я страдала. Помню все свои платья и пальто, купленные с любовью. Но всех их ждал плачевный конец. Уму непостижимо, как это всё случалось, но это происходило с завидной периодичностью и постоянством.
Я никогда не жила без проблем. Они толпились вокруг меня, ожидая своей очереди. Некоторые просто нагло, перебивая друг друга, наслаивались одна на другую! И приходилось их решать одновременно. Зато не приходилось скучать, бездействовать, некогда было валяться на кровати, дела неотложные находились всегда.
По сей день помню пальто. Цвета тёмно-вишнёвого, из мягкого драпа с цигейковым воротником. Подарок был сделан родителями к Новому году. Я его долго выпрашивала, но у них всё не хватало средств, чтобы купить мне обновку. Приходилось донашивать вытертую до основания шубку. Шубка стала совсем мала! Рукава были до такой степени коротки, что еле прикрывали локти. Пуговицы были перешиты на самый край – и пришлось делать «накидные» петли, потому что настоящие петли уже не доставали пуговиц. Длина шубки была чуть ниже пояса. И поэтому на меня напяливали две пары тёплых штанов с начёсом – чтобы компенсировать недостаточную длину этого предмета якобы зимней верхней одежды. Разве это шубка? Это курточка! Пиджачок! В ней уже стыдно «на людях» бывать. И я так ходила в школу. В первый класс! Мальчишки-забияки дразнили меня:
– Смотрите, голодранка-ободранка идёт. У неё шуба из драной кошки! Кошка сдохла, хвост облез…
Я неслась домой, захлёбываясь слезами, сбрасывала эту ненавистную вещь, топтала её ногами. И требовала пальто – как у всех!
И вот – пальто. Как у взрослой. Правда, на вырост – лет на пять. В те пятидесятые-шестидесятые годы всегда покупали одежду детям размера на три больше, потому что достаток был невелик. Экономили.
Итак, пальто куплено, рукава у него завёрнуты, пояском от маминого халата оно подвязано, чтобы короче было. И вот вам вещь – залюбуешься: добротная, дорогая, перед людьми показаться не стыдно!
Я с нетерпением ждала выхода в школу. И пусть все увидят, какое у меня замечательное пальто. Цвета спелой вишни, как говорила моя мама. Хотя я к тому времени никакой вишни и в глаза не видела, и вкуса её не знала, но звучало красиво – спелая вишня! Моё новое пальтишко висело на гвозде у дверей, рядом с маминым, заново перелицованным, пальто. И выглядело, как пальто взрослого человека. Я подходила к нему по несколько раз в день, трогала его и мечтала скорее-скорее надеть эту очень полюбившуюся мне вещь.
В то время наша семья жила в Сибири. И когда начинались метели, дети неделями не ходили в школу. Наконец ветер немного стих, выглянуло солнышко, и мама повела меня учиться. А после школы возвращалась домой уже без мамы, с одноклассниками-первоклассниками. Я гордо несла новое пальто на своём худеньком туловище, уткнувшись носом в ласковый воротник из полированной цигейки. От него исходил невообразимо и замечательно незнакомый мне запах чего-то неизвестного, как от желанной, ещё ни разу не попробованной конфеты. Мальчишки наконец-то от меня отстали, их больше не волновал мой внешний вид. А девочкам хотелось идти рядом со мной. Как же – у меня новое пальто! Цвета спелой вишни! А это значительно повышало мой статус. Я была горда и независима.
Снова началась метель, ветер усиливался. Он стал таким мощным, что пришлось под его натиском уже не прогуливаться, размахивая портфелем, а прятаться от этого ветра за домами, чтобы можно было ухватиться за что-то рукой при его сильных порывах. Я прижалась к завалинке деревянного барака, продолжая медленно двигаться вперёд. И, вдруг – о ужас! – почувствовала, что кто-то держит меня сзади! Оглянулась. Моё пальто зацепилось за гвоздь, торчащий из доски! Машинально дёргаюсь – и кусок ткани, оторванный, словно по линейке, под прямым углом, отваливается и повисает, как маленький флажок! Я оцепенела от неожиданности и нереальности увиденного. Мне не верилось, что это случилось! Я не могла поверить своим глазам, что моё пальто цвета спелой вишни, первый раз надетое, было ранено. И – дырка! Дырка, через которую была видна белая ватная подкладка, находилась на самом видном месте! Сбоку, под самым карманом. Кусок ткани трепался по ветру, как будто хотел оторваться и улететь, спасаясь от стыда.
Я так и села в сугроб. Мои ноги не двигались. Девочки ушли далеко вперёд, ветер усиливается. А я сижу, глотая горячие слёзы со снегом, задыхаясь от пронзительного ветра, и оплакиваю своё любимое пальто!
Вдруг кто-то сзади меня поднимает, забирает портфель. Мама! Мама… Я пытаюсь ей рассказать о своей беде, но мама тянет меня за руку вперёд, загораживая от ветра, а ветер уносит мои слова вместе со снегом, который валит уже так, что ничего не видно.
Дома мама долго отряхивает мне пальто, шапку, валенки веником, помогает раздеться. Растирает мои замёрзшие щёки тёплыми руками, целует, прижимает к себе. Я рыдаю и пытаюсь рассказать маме, что я не виновата, я не хотела… что теперь делать?..
– Только папе не говори, когда он придёт с работы. Ох и отругает он нас за эту дырку! – шепчет мне на ухо мама. – Сейчас я её зашью, пальтишко твоё будет, как новое…
Утром я рассматривала вышитую гладью на месте дырки розу! Как будто она всегда была здесь, на моём пальто, а я её почему-то не замечала. Роза с шипами и с зелёными листиками смело расположилась на подоле, и это было её законное место! Она распустилась, несмотря на снег и северный ветер, и роскошно цвела рядом с карманом, восхищая и радуя.
Пальто цвета спелой вишни с распустившейся в январе розой у кармана я носила три года. А когда оно совсем износилось, мама вырезала цветок. И он долго хранился в моих коробочках с девичьими секретиками.
Письмо 19. Про тряпичника
Как мы выживали в сибирском городке Анжеро-Судженске, я не понимаю! Та жизнь сейчас кажется нереальной, немыслимой. Даже прилагая все усилия, чтобы оживить в памяти подробности каких-то значимых событий, не могу вспомнить ничего хорошего. Нищета, скудная пища. А отец впоследствии, вспоминая нашу жизнь в Анжерке, всё это называл романтикой. И все верили ему! Он рассказывал об этих трудностях ярко, с удовольствием. Как красиво папа умел это делать! Только с открытым ртом можно было его слушать. Фантастика! А на самом деле ни о каких развлечениях, радостях, мороженых-пирожных мы и не помышляли. Потому что ничего о них не знали.
Игрушек тоже не было. Отец из чурочек сколотил брату машинку, и тот катал её весь день по полу, чего-то там фантазируя с ней и бормоча себе под нос диалоги, услышанные на улице. В тёплое время года улица для нас, детей, была спасением. А в жуткие морозы и в комнате барака было морозно, пахло снегом и ветром. Ветер гулял по комнате. Властвовал. Мама шила мне куклы из тряпок, набивала их серой ватой, а потом химическим карандашом усердно выводила черты лица. Куклы выглядели смешно: с растопыренными в разные стороны руками, вытаращенными на пол-лица глазами и торчащими в разные стороны нарисованными ресницами. Две точки – нос, фигурные губки… Химический карандаш, обильно смоченный слюной, расползался по белому материалу от старой простыни. Сшитая кукла казалась чумазой, но была очень родной и любимой. Каждая из кукол имела свой характер: одна – грустный, другая – весёлый. Всё зависело от черт лица, нарисованных мамой.
Как-то я взяла да и отрезала от подолов маминых платьев кусочки тканей, чтобы сшить куклам наряды. Отрезала наугад, сколько получится. Как только мама потом не вуалировала эти дыры – между делом похлёстывая меня отцовским ремешком, плача и кляня нищету постылую! Почти все платья она смогла искусно отремонтировать, а из одного, безнадёжно испорченного, сшила мне платье. Шила мамочка замечательно. Не помню, понимала ли я, за что меня бьют этим кожаным ремешком. Ведь я ничего плохого не хотела. Любила рукодельничать – как и мама моя, большая умница, рукодельница и фантазёрка.
Незамысловатые, простенькие игрушки можно было приобрести и у тряпичника. Невесть какие, но всё-таки! Мы собирали всякий мусор: кости, тряпки, верёвки, бумагу, бутылки, пробки. Этот хлам копили, чтобы позже сдать тряпичнику и получить взамен шарики, свистульки, ленточки, пуговицы. Даже пластмассовые пупсики бывали. Но за пупсика надо было отдать довольно много килограммов ненужных вещей. Иногда маме удавалось выменять на эти тряпки кусок ткани. Тогда она шила нам что-то новенькое.
Улицы и подворотни в городке были чисты: тряпичник брал всё! В яму выливались только помои – и эта яма всегда отвратительно воняла хлоркой, как и уличные туалеты за бараком. Тряпичники, в сущности говоря, собирали мусор. Всё собранное увозилось и сдавалось на переработку: на ткацкие фабрики, на бумажные для производства бумаги, в инвалидные артели для изготовления столярного клея, и так далее. Даже, как отец рассказывал, принимались пробки от бутылок – не нынешние пластиковые, а те, что из коры пробкового дерева, – их промывали и снова закупоривали ими бутылки с водкой.
Однажды мама укладывала нас с братом спать, да и уснула сама. Я незаметно выползла из-под её руки, села за стол и начала рисовать. Карандаш был один – химический. Я его тщательно облизывала и выводила на бумаге разные важные вещи. Тут мой взгляд упал на маму. Мама была модница. Её брови всегда были в идеальном порядке. Она их подрисовывала чёрным карандашом, который прятала от нас подальше. Эти же карандашом ставила на щеке мушку. Это было очень модно. Мне не понравилось, что в этот день мама не подвела брови, и мушки на её лице не было. И я исправила эту оплошность. Мама крепко спала и улыбалась во сне. А я радовалась, что маме нравится то, что я над ней вытворяю. Щедро смачивая слюной химический карандаш, тщательно вырисовывала маме брови. Да не просто обычные брови, тонкие, чуть заметные, а настоящие – широкие, изогнутые дугой! Над губой поставила жирную мушку – и залюбовалась своей работой.
Вдруг с улицы донёсся знакомый клич:
– Тряпки, кости, бумага! Налетай, налетай, наш товар выкупай!
– Мама, тряпичник приехал, побежали, а то всё расхватают!
Мама подскочила, спросонья схватила приготовленный мешок с разным барахлом и мусором, и мы понеслись во двор. Телегу уже обступила толпа. Тряпичник важно восседал на телеге рядом с огромным ящиком, а внутри ящика чего только не было! Он не спеша взвешивал ручными весами тряпьё, открывал этот ящик и так же не спеша, не обращая внимания на нетерпение покупателей, менял ненужный хлам на безделушки. Конь, размахивая хвостом, косился на вездесущих пацанов, переминался с ноги на ногу, фыркал. Не нравилась ему эта привычная работа – стоять без дела в шумной толпе. А толпа детей, снабжённая глиняными свистульками, его беспокоила: свист, гам, беготня!
Мама уже протискивалась к продавцу поближе, расталкивая неугомонных детей, как вдруг… начался хохот! И всем стало не до вожделенного товара! На маму показывали пальцами и громко смеялись. Все! Затем жестокая толпа заметила меня. И дети стали прыгать вокруг и тыкать пальцами мне в лицо. Мама схватила меня и потащила домой. Глянула в зеркало, схватилась за голову, затем за отцовский ремень. Я спряталась под кровать – как я успела под неё проскочить, не помню. Мама долго отмывала своё лицо. Кое-как вытащив меня за ноги из-под кровати, больно тёрла и мою мордаху. Ведь, смачивая химический карандаш, я вся измазалась фиолетовым: губы, щёки, даже нос…
Соседи долго посмеивались надо мной, припоминая мне, как мамку свою украсила. Вот такие тряпичные дела.
Письмо 20. Про какао
В пятидесятые-шестидесятые годы железнодорожные составы тащил паровоз. До Москвы от станции Белогорск поезд шёл почти полмесяца. Огромный чёрный локомотив еле тянул выгоны, натужно, громко пыхтя и шипя, выбрасывая из трубы клубы чёрного густого дыма. Дорога меня изматывала. Особенно было тяжело, когда вагон находился в начале состава. Уже на третий день я умирала от паровозного дыма, от копоти, угорала от запаха сажи. До сих пор помню этот изнуряющий горький запах. Не могла ни есть, ни пить. Спасало только какао! Густое, ароматное, пахнущее настоящим шоколадом.
– Какаó! Какаó! – кричала по утрам и вечерам толстая буфетчица из вагона-ресторана в белоснежном накрахмаленном переднике и кружевной диадемой на голове, катя перед собой по проходу тележку. – Кому какаó – пирожки?
– Мама, какао, какао несут! Доставай скорее кошелёк! И пирожки, пирожки! Мне два. Хочу два!
Я сгорала от нетерпения. Мне казалось, что всё происходит непозволительно медленно, и никто не понимает меня, не знает, как мне плохо.
Мне очень нравился огромный, начищенный до матового блеска алюминиевый чайник со спасительным сладким напитком. Буфетчица наливала какао в тонкие стаканы в подстаканниках. Поезд раскачивало из стороны в сторону, какао лениво плескалось, испуская ароматный дымок, и мне хотелось придержать его руками, чтобы оно случайно не выплеснулось! Я не могла оторвать глаз от этой красоты. Изнуряло долгое ожидание – пока оно остынет и можно уже насладиться этим напитком.
От буфетчицы всегда пахло жареными пирожками с капустой. Именно с капустой, потому что других начинок в пирожках до этой поры я не пробовала. А пирожки в корзине были как лапти: огромные, податливые, тающие во рту. Буфетчица натыкала их на двузубую вилку, сразу по два, совала в кусок газеты и подавала маме. Мама расплачивалась за вкусности, доставая деньги из маленького кошелька, который всегда хранился у неё за пазухой. И тут же бежала в туалет. Там мочила полотенце водой из-под крана. Долго тёрла наши чёрные руки, испачканные сажей, и больно очищала от чёрной жирной въедливой пыли лицо.
А мне не терпелось скорее, скорее глотнуть какао, эту молочную сладкую жидкость, и съесть кусочек вкусного тёплого пирожка, чтобы унять ноющую боль в желудке и тошноту от угара.
Сколько же было этих поездов! Не сосчитать…
Полжизни прошло в поездах. Что искали мои родители, куда постоянно ехали? До сих пор понять не могу. Все станции Великого Сибирского пути знаю наизусть. С самого раннего детства. Родители всегда знали, какими деликатесами какие станции славились. Где-то вкусные пирожки – такие продаются только на этой станции и только у этой бабушки. Где-то домашняя картошечка, солёные огурчики, котлетки, рыбка, где-то яблоки. Еды, взятой с собой, хватало на день-два. А в поезде постоянно был прекрасный аппетит.
Помню, в те времена, примерно до шестидесятых годов, во время получасовых стоянок поезда на больших станциях пассажиры бежали обедать в привокзальный ресторан. И мы бежали тоже – но лишь тогда, когда были деньги. Потратить деньги на комплексный за обед – для нашей семьи было непозволительно. Поэтому покупали обед на двоих, а ели вчетвером. Это я хорошо помню.
А мне так хотелось когда-нибудь съесть весь этот удивительно вкусный обед – там, в привокзальном ресторане, где белые скатерти и салфетки, где шустрые официантки подают на подносах еду, улыбаются и желают «приятного аппетита». Да, это было так! Именно так! Хотелось пододвинуть к себе полную тарелку с борщом, тарелку с нежным, тающим во рту картофельным пюре и котлетой с подливой, вкусной, пахнущей жареным хлебом, и стакан компота. И есть, есть! Ни с кем не делясь, не ломая котлету пополам, не оставляя ягоды в компоте для младшего брата. Мне всегда хотелось есть.
Письмо 21. Про бабушек
Я никогда не училась более года в одной школе. Никогда не имела близких школьных друзей и подруг. Не успевала заводить. А если и подружишься с кем-то – расставание эту дружбу обрывает на полуслове. Вначале пишем письма, а потом и письма заканчиваются: слишком частая смена адреса. Очень завидовала тем, кто все десять лет учился в одном классе. Ну, не десять, а хотя бы три! У меня такого не было никогда!
Я всегда была «новенькой». От того чувствовала себя скованно, долго всех сторонилась. И не всегда получалось раскрыть себя так, чтобы понравиться, подружиться.
Вокзалы, станции, поезда, вагоны – всё это мелькало перед глазами, как в калейдоскопе, путалось и не запоминалось. Основными, конечными были две точки – бабушка амурская и бабушка московская, соединившие невидимой нитью два узла в этом огромном пространстве. Семья по этой нити перемещалась туда и обратно, туда и обратно. Иногда застревая на год-полтора в какой-нибудь точке России, по пути на запад или на восток.
Бабушки никогда не встречались и никогда не интересовались друг другом. Были полюсами, которые не притягиваются, а с неимоверной силой отталкиваются друг от друга. Они были чужими по духу, по социальному положению, по отношению к окружающему миру, по отношению к внукам. Мы, их внуки, были от «чужих» половинок. И это мешало любить нас, особенно меня, так незабвенно и горячо, как любят внуков. Ведь московская бабушка никак не могла поверить, что её сынок, выпускник лётного училища смог, ещё не женившись, завести собственных детей. Московская бабушка Александра не понимала, зачем отец привёз из «глухомани», из краёв, где «медведи по улицам шастают» и в домах света нет, эту деревенскую девушку, да ещё с двумя детьми. Ладно, второго ребёнка примем – мальчик, вылитый отец, – а вот насчёт девочки надо подумать.
– Как же ты, сынок, попал в лапы этой хищнице из тайги? Ни образования, ни культуры… Где ты такую нашёл? – удивлялась она.
Интеллигентная, властная бабушка Александра долгие годы не признавала меня за свою внучку. Но увидела в правнучке черты лица сына – и раскаялась. Поздно.
В старости я часто её навещала. Она уже была совсем одна. И почти совсем не видела. Но не отчаивалась, держала себя гордо и независимо. Характер! Как-то рассказала о том, как дружила с сыном Николая Второго – цесаревичем Алексеем.