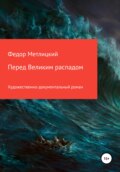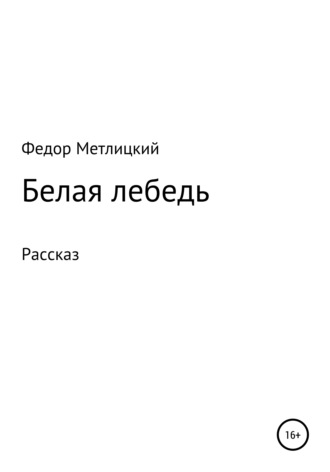
Федор Федорович Метлицкий
Белая лебедь. Рассказ
3
Жизнь замедлилась. В ходу была новая валюта – юани. Средства сообщения, вроде мобильного телефона или других гаджетов, исчезли из продажи, хотя Лопухов знал про их существование, но уже забыл, что есть проходящая по воздуху информация. Снова вернулись к массивным черным устройствам-телефонам, и письмам, вспомнив, как писали в старину: «Милостивый государь, в первых строках моего письма…», и заканчивая: «Жду ответа, как соловей лета».
Страна постоянно была занята разборками с обидчиками-соседями в Восточной Европе, в Малой Азии, на Дальнем Востоке. Стоит только почитать переписку глав государств из архива, чтобы понять, как возникают распри и войны. Все начинается с обид, нанесенных государям, сиречь их державам. Беспокойные соседи не дают жить миролюбивому монарху, вытесняя с рынков. «Брат мой, вы не соблюдаете обязательств между нами, – пишет один, обиженный. – Мы начинаем оборонительную войну». Беспокойный сосед отвечал: «Брат мой, вы империалистический хищник. Несмотря на добросовестность, с которой мы выполняем свои обязательства, ваши войска пересекли наши границы». Противник отвечает: «Я не испытываю к вам и вашим подданным враждебного чувства. Я хотел бы избавить вашу страну от бедствий, в которые она сама на себя вовлекла», и т. д.
Лопухова тоже долго жгла обида, когда во времена потепления дружественная держава помогала, чем могла, распадающейся стране. Ее консультанты шастали по министерству, и один, словно жалея, сунул ему дешевую импортную безделушку, он поклонился – проклятое воспитание! и тот инстинктивно отдернул руку, словно ее собирались поцеловать. С того позорного мгновения в нем тлел гнев против их снисходительного похлопывания по плечу – знай, мол, сверчок свой шесток. Страна и подавно не могла выдержать, когда ее ставили на место, как слугу.
Тогда в речах депутатов, официальных политологов и журналистов процветали сравнения. За сомнительные поступки своей страны они оправдывались не перед Богом, а кивали на «подлянки», допущенные зарубежными «партнерами»: «А вот у них там!»
Даже небольшая военная операция где-то в Африке, которая шла в это время, не могла повлиять на повседневные заботы Лопухова о своей семье – жене и маленьком пуделечке Норуше. Неважно, какая война, настоящая или гибридная, они обычно бывают во все времена, в прошлом, настоящем или будут в будущем, – ничего не поделать, он будет терпеть, пережидая напасть.
Однако от призывов наказать соседей он морщился, война казалась таким же безобразием, как рвать живое тело на куски. Однажды увидел, как забивают животных на скотобойне – обездвиживают током, подвешивают за ноги, вскрывают артерии и вены, сливая кровь, снимают шкуру, извлекают внутренние органы – бр-р! С тех пор стал вегетарианцем. Но не мог выразить отвращение открыто, в лицо упертым – было как-то неловко. Он удачно находил слова, чтобы помириться с непобедимой силой. Ты независима, – якобы, твердо говорил он, глядя силе в глаза, – и я тоже независим. Давай не трогать друг друга. А у самого душа уходила в пятки.
И избегал коллективных патриотических митингов, куда выходили с победными плакатами его коллеги по настоянию активистов, хотя, казалось, они делают это искренне. Даже если наступит катастрофа от экономических санкций, они тоже будут терпеть, никого не виня.
Лопухов, как все, узнавал новости по телевизору, ибо других новостей не было – альтернативные сервисы были запрещены, а подпольных искать было опасно, да и не было охоты слышать болтовню не обладающих хотя бы каким-нибудь властным ресурсом. И верил, что если бы не вражеское окружение, осадившее нас, то мы бы жили в раю. За неимением иного привычно читал новых «проходных» писателей и смотрел по телевизору попсовых певцов, выживших после прополки экономическим кризисом развлекательных программ. Творцы силились «приподнимать действительность» и видеть лучи восходящего солнца своей страны, которое превращалось в золотую звезду на груди ее кавалеров – героев романов и шлягеров.
Мы отстаиваем интересы и безопасность страны по всему миру, защищая наши права, и Лопухов удивлялся радикалам, которые осмеливались кусать за икры власть, вторгавшуюся войсками во все податливые дырки мира. Кто прав? Полно пропагандистских фейков – кому верить? Психика человека не любит неопределенности. Из бьющей по нервам тревоги он возвращался в надежный мир – включал телевизор, где мстительно улыбающиеся пропагандисты действовали на него успокаивающе, и снова ощущал безмятежность нашей стабильной жизни.
Люди зомбируются быстро, когда официальные источники истины с одной стороны насквозь свои, родные, а с другой – резко враждебные. Хотя все истины относительны, суеверия. Люди во все века жили суевериями. Народы, не поднимающие глаз от трудов на земле, напитываются суевериями, сами собой лезущими в уши из телевизора и «сарафанного радио». Зашоренность мозгов всегда оборачивалась войнами.
4
У Лопухова был приятель из их министерства, худой и костлявый Пахомов, программист и сосед по даче. Это был настоящий русак, с бородой и лобной повязкой-ремешком, чтобы не лезли на глаза волосы во время дачных работ. Отчего-то было хорошо с ним, где-то на отшибе от чуждой среды, они могли спорить безопасно, хотя были разных взглядов. Вернее, у Лопухова не было взглядов, одни сомнения.
Дача была маленькой – сруб на шести сотках, выделенных когда-то на бесплодной пустоши министерским служивым людям. Они с женой, чтобы выжить зимой, высаживали картофель, капусту, помидоры, клубнику и прочее. Это было уютное безопасное место посреди цветущих садов, давно ставшее родным, куда можно спрятаться. Отрадно было слышать чирикающие семьи птичек, мелькающих в молчаливых ветвях яблонь, шершавое тепло коры березы под ладонью, гулкий стук дятла вверху.
Приятели часто сидели на крылечке и спорили, попыхивая сигаретами.
– Видел, как на американцев в касках кричали арабские бабы? – спрашивал его Лопухов. – Завоеватели! Бросили на город фосфорные бомбы! Сколько покалечили народу! За что?
Пахомов безжалостно говорил:
– Посмели бы они так протестовать в предыдущих веках, покосили бы сразу.
– И это во второй половине двадцать первого века! – возмущался Лопухов.
– Врага в слезах не утопишь, – твердел скулами Пахомов.
Лопухов колебался. Было что-то ужасное в бесконечном состязании гегемонов за мировые пространства, которое не кончится, даже если один победит и его элитные военные подразделения разместятся по всему миру. Обязательно поднимутся другие мощные силы.
– Зачем же нам соваться? Ведь, мы приносим лишь кровь и ужас – военные на другое не способны. И получаем ту же ненависть.
– Не ставь неприятеля овцою, ставь его волком. Надо же как-то покончить с вражьим племенем!
– Не знаю, не знаю…
– А ты перестань юлить.
Лопухову стало неприятно.
– Я не юлю. Всегда чувствую правду и фальшь. Только обижать правдой не хочу.
– Надо переходить на чью-либо сторону.
– О какой стороне ты говоришь?
– О нашей, проверенной веками.
– Ты даже не осознаешь, что в тебе осели мифы нашей истории и пропаганды. Не умеешь расковырять истину под этим хламом.
Пахомов не понял, о чем он.
– Я за родину. Зачем ее ковырять?
– Что ты понимаешь под родиной? Нашу систему?
– Россию, дурак!
– Она разная. Есть Россия начала века, есть сегодняшняя. Есть патриоты, и есть оппозиция.
– А ты за какую?
– Ни за какую. За ту, что выше всех идеологий.
Спорить с Пахомовым было бессмысленно, его мозги не воспринимали знания больше тех, что заложила среда. Правда, как и у него. Но идейная непримиримость не мешала им дружить.
Лопухов углублялся в себя, и с ужасом узнавал совсем другого человека, не того, каким был в детстве, когда жил внушениями классиков литературы, и в деревне у бабушки зимой с восторженным риском летел по нескончаемому льду замерзшей речки вниз, не встречая преграды. Стала его второй натурой неизбежность приспосабливаться перед несокрушимой, как природа, силой. Это человеческое свойство. Организм растет сам собой. Понуждать его расти – вредно. Бунт – это когда пересиливает внутреннее неудобство, нестерпимая боль. Протест – болезненная крайность для нормального живого существа, если это не религиозное внушение принести себя в жертву. И надо еще преодолеть полосу защитной немощи, живущей в каждом. Это – узел проблемы человека, которого разбирают на части философы и литераторы, видя его крайние стороны. Приспособление к обстоятельствам, или смерть. Нет героев – есть люди, припертые к стенке и доведенные до отчаяния, готовые умереть. Умеющий спастись от преждевременной смерти – вот главный герой всякой эпохи… Хотя это, конечно, дает безграничные возможности для своеволия властей.