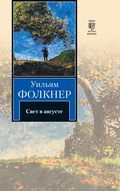Уильям Катберт Фолкнер
Особняк
– Послушай, зачем ты себе портишь кровь, ревнуешь своего дядюшку? Кто-нибудь непременно выйдет за него замуж раньше или позже. Когда-нибудь ты сам его перерастешь, дел будет по горло и тебе некогда станет торчать тут и оберегать его. Так что пусть уж лучше Линда, чем другая.
Понимаете, что я хочу сказать? Значит, оно все-таки передал лось по наследству. Я про то – не знаю, как назвать, – чем была отмечена ее мать. Гэвин увидел Линду однажды, когда ей было всего тринадцать лет, и видите, что с ним сталось. Потом, когда ей было девятнадцать, ее увидел Бартон Коль, и видите, что с ним произошло. А теперь я увидал ее два раза, то есть когда я уже стал понимать, на что смотрю, – первый раз в мемфисском аэропорту прошлым летом и сегодня вечером, у нас за ужином, и теперь я знал: придется мне пригласить дядю Гэвина в библиотеку или в свой кабинет, словом, где полагается вести такие разговоры, и сказать ему:
– Послушайте, молодой человек. Я знаю, насколько бесчестны ваши намерения. Но я желаю знать, насколько они серьезны. – Впрочем, может, придется сказать не ему, а кому-нибудь другому. Вряд ли это будет он. Рэтлиф мне рассказал, будто Гэвин говорил, что ее судьба – полюбить раз в жизни и потерять его, а потом горевать. Может, потому она и вернулась в Джефферсон: если человеку только и остается, что тосковать, так не все ли равно, где жить. А теперь она пропадала, теперь она теряла даже того последнего человека, который должен жениться на ней по той простой причине, что именно он с самого ее детства потратил больше сил, чем кто другой, чтобы сделать ее такой, какой она стала теперь. Но это будет не он, ему нужно было оправдать свое собственное предсказание, доказать свои слова, кто бы ни тосковал и ни страдал.
Да, она пропадала. С тех пор как она вернулась, она водила эту черную банкирско-баптистскую машину; очевидно, она сначала решила, что будет ездить одна, но потом старый Сноупс сам запротестовал из-за ее глухоты. И вот она каждый день ждала в машине, когда закроется банк, и они вдвоем катались по окрестностям, и он прислушивался к сигналам. Ему они были нужны, эти самые поездки по окрестностям, потому что вся округа была его владением, его вотчиной – поля, фермы, посевы, – и, может быть, владельцы собирались заложить и то, на что он еще не держал закладные; и он мог осматривать и прикидывать, как бы их заполучить и за сколько.
Не ездила она с ним только раз в неделю, обычно в среду. Старый Сноупс не пил, и не курил, и даже не жевал табак, а челюсти у него мерно двигались потому, что он, как говорил Рэтлиф, до сих пор жевал тот кусочек пустоты, воздуха из Французовой Балки, который он привез во рту тридцать лет назад, когда переехал в Джефферсон. Да, она пропадала: в тот день она обратилась даже не к дяде Гэвину, она подошла к Рэтлифу и сказала:
– Не знаю, у кого теперь можно купить виски. – Нет, она не то что растерялась, она просто отсутствовала слишком долго, и сама объяснила Рэтлифу, почему она не обратилась к дяде Гэвину: – Он прокурор округа, и я подумала… – И Рэтлиф потрепал ее по плечу прямо тут же, посреди улицы, и сказал так, что все слышали – она-то слышать не могла:
– Давно дома не была. Поедем. Все достанем.
И они втроем в машине Гэвина поехали к так называемому кэмпингу для рыбаков Джейклега Уотмана у Уайот-Кроссинга, чтобы она потом знала, где и как достать то, что надо. Для этого нужно было подъехать к маленькой некрашеной лавчонке Джейклега (Джейклег не хотел ее красить, чтобы каждый раз, когда вновь избранную администрацию округа одолеет жажда реформ и шериф тайком предупредит его, что грозит налет полиции, ему не надо было бы портить краску, выдергивая гвозди и снимая части самогонного аппарата, чтобы перенести их на милю в глубь леса, пока реформы не затихнут и он не сможет вернуться обратно, поближе к шоссе и автомобилям), там надо было выйти из машины, зайти в лавочку, где на некрашеных полках валялись рыболовные крючки, поплавки, удочки, пачки табаку, батареи для фонариков, жестянки с кофе и бобовыми консервами, патроны для охотничьих ружей, а на стенах были аккуратно приколоты лицензии департамента внутренних сборов США, а сам Джейклег в широченных и высоченных резиновых сапогах, которые он не снимал ни зимой, ни летом, с револьвером за голенищем стоял за стойкой, обнесенной проволочной сеткой, а приезжий говорил: «Здорово, Джейк, что у вас есть сегодня?» И он всегда называл одну и ту же марку с таким видом, будто ему было наплевать, нравится она вам или нет, и одну и ту же цену, будто ему в высшей степени безразлично, по карману вам она или нет. И едва только ты говорил, сколько надо бутылок, негр-слуга (в прошлогодних резиновых сапогах Джейклега) наклонялся или выходил, словом, исчезал с глаз, а потом появлялся с бутылками и стоял, не выпуская их из рук, пока Джейклегу не отдавали деньги и не получали сдачу (если причиталось), и тогда Джейклег открывал окошечко в проволочной сетке, просовывал бутылки, и приезжие возвращались в машину – вот и все; и он (дядя Гэвин) взял Линду с собой в лавку и, наверно, сказал: «Здорово, Джейк. Познакомьтесь – это миссис Коль. Она не слышит, но вполне может выпить и почувствовать вкус». А Линда, должно быть, сказала: «А что у него есть?» – и, наверно, дядя Гэвин написал ей на блокноте: «Тут не спрашивают. Тут бери, что дают. Плати восемь долларов или шестнадцать, если берешь две».
Так что в следующий раз она, возможно, приехала туда одна. А может быть, дядя Гэвин сам зашел в банк, в маленькую заднюю комнатку, и сказал: «Послушайте, сукин вы сын, рыбья морда, вы что же, так и будете тут сидеть, а ваша единственная дочка, женщина, которая даже трубы в Судный день не услышит, пусть ездит одна в притон Джейклега Уотмана покупать виски?» А может быть, это вышло просто случайно, в одну из сред, и он, мистер Сноупс, не мог ей сказать: «Стой, куда ты едешь, черт возьми? Надо вовсе не сюда», – потому что она все равно ничего не слышала, и вообще я не понимаю, как он мог с ней разговаривать, потому что не представляю себе, чтобы его рука писала что-нибудь, кроме цифры процентов или даты просрочки; может быть, у них при себе была карта местности, он тыкал пальцем куда надо, и до сих пор это их вполне устраивало. Но теперь он сталкивался не с одной трудностью, а с тремя: во-первых, всем знакомая машина банкира подъезжала к притону самогонщика, и он сам в ней сидел; во-вторых, стоило ли, чтобы каждый будущий должник Йокнапатофского округа узнал, что он, сидя в машине, разрешает своей единственной дочке заходить в пользовавшийся весьма дурной славой притон и покупать виски; и, в-третьих, стоило ли заходить ему туда самому и собственной рукой, рукой баптистского церковного старосты, выкладывать шестнадцать долларов своих кровных денежек.
Пропадала. Гэвин рассказывал мне, как примерно с год назад оба финна-коммуниста стали наведываться к ней по вечерам (по ее приглашению, разумеется), и можете вообразить, что это было. Сидели они в гостиной. Дядя Гэвин говорил, что она устроила себе комнаты наверху, но с финнами она сидела внизу, в гостиной, а наискось, через коридор, была комната, где старый Сноупс, как говорили, проводил все то время, что не торчал в банке. Значит, гостиная капиталиста, и в ней трое – два финских рабочих-иммигранта и дочка банкира, – один ни слова не говорит по-английски, а она вообще ни слова не слышит ни на каком языке, и оба стараются как-то общаться через третьего, который еще и писать не научился, и беседуют они о надежде, о светлом будущем, о мечте: навеки освободить человека от трагедии его жизни, навсегда избавить его от болезней, от голода и несправедливости, создать человеческие условия существования. А через две двери в комнате, где он разве только не ел и не держал наличных денег, сидел, уперев ноги в некрашеную планку, прибитую прямо гвоздями к антикварному камину работы знаменитого скульптора, и жуя то, что Рэтлиф называл глотком воздуха из Французовой Балки, он сам – капиталист, владелец этой гостиной и этого дома, всей этой роскоши, в которой они предавались мечтам; начал он жизнь нигилистом, потом смягчился, стал анархистом, а теперь превратился не просто в консерватора, а в настоящего реакционера: в столп, в незыблемую опору существующего порядка вещей.
Пропадала. Вскоре она, как это называлось в Джефферсоне, стала совать нос в негритянские дела. Как видно, она без приглашения и без всякого предупреждения начала посещать уроки в негритянской начальной и средней школе, причем, сами понимаете, ей даже гром был неслышен, так что она только и могла смотреть на выражения лиц, на жесты учеников и учителей, а им всем было жутковато, может быть, даже страшно, во всяком случае, их беспокоило и настораживало неожиданное присутствие непонятной белой женщины, которая заводила разговор с преподавателем крякающим утиным голосом, а потом протягивала ему блокнот и карандаш для ответа. Но тут сразу, лишь только его успевал найти перепуганный посланец, в класс входил директор школы, – как говорил дядя Гэвин, это был человек с университетским образованием, очень неглупый и преданный своему делу, – и тут она, и директор, и старшая преподавательница школы уходили в директорский кабинет, и там не столько она, белая женщина, сколько они, двое негров, сами догадывались и понимали все, хотя и не соглашались с ней. Потому что они, негры, когда дело не касается страстей, вскормленных нуждой, невежеством и страхом, – азартных игр, пьянства, – а касается простых человеческих отношений, народ мягкий, добрый, они добрее и мягче белых, потому что им пришлось стать такими; и они гораздо мудрее в своем отношении к белым, чем белые в своем отношении к ним, потому что им – меньшинству – приходилось бороться за существование. И тут они тоже заранее знали, что ей придется бороться с невежеством и предрассудками, с тем невежеством и предрассудками, которые будут противиться ее мечтам, губить их, а если она будет идти напролом, то и уничтожат ее, – знали, что это невежество, эти предрассудки коренятся не в черной расе, которую она хочет понять, а в белой, к которой она принадлежала.
И в конце концов случилось то, чего ждали, что предчувствовали все, кроме нее самой, очевидно, из-за ее глухоты, изолированности, одиночества, оттого, что она жила не среди звуков, а только в окружении жестов. Может быть, она и ждала сопротивления, но, побывав на войне, просто не придавала этому значения. Во всяком случае, она шла напролом. А задумала она еженедельно устраивать что-то вроде соревнования или конкурса, и чтобы победители, то есть лучшие ученики этой недели, следующую неделю провели на специальных курсах, которые она собиралась организовать, и занимались там у белых учителей, причем подробно план будет разработан позднее, а временно они станут собираться в ее гостиной, в доме ее отца, на общие лекции, и тех, кто вышел на первое место в эту неделю, на следующей неделе заменят другие победители, причем в эти группы будут входить ученики всех классов, начиная с приготовительных и кончая выпускными, потому что у нее была своя теория: если ты в восемнадцать лет дорос до восприятия знания, значит, ты дорос и в восемь лет, потому что в этом возрасте новое дается легче. Понимаете, слышать-то она ничего не могла, не только слов, но и тех интонаций, тех обертонов и полутонов страха, ужаса, испуга, какие звучат в голосе черного, когда он вынужден говорить: «Благодарю вас». Так что в конце концов директор школы сам пришел к дяде Гэвину в его кабинет, – интеллигентный человек с волевым и трагическим лицом.
– Я вас ждал, – сказал дядя Гэвин. – Знаю, о чем вы хотите поговорить.
– Благодарю вас, – сказал директор. – Значит, вы сами поняли, что ничего не выйдет. Что и вы к этому еще не готовы и мы, конечно, тоже.
– Немногие представители вашей расы с этим согласятся, – сказал дядя Гэвин.
– Никто не согласится, – сказал директор. – Так же, как никто не соглашался, когда это говорил мистер Вашингтон.
– Мистер Вашингтон?
– Букер Т. [38], – сказал директор, – и мистер Карвер тоже.
– Понятно, – сказал дядя Гэвин. – А что именно?
– Что мы сначала должны сделать так, чтобы белые нуждались в нас. В прежние времена мы были необходимы вашему народу хотя бы в области экономики, если не в области культуры, необходимы, чтобы производить хлопок, табак, индиго. Но это была не та необходимость, в ней коренилось много зла, много бед. И она не могла сохраниться. Она должна была исчезнуть. И вот теперь мы вам не нужны. Нет для нас места ни в вашей культуре, ни в вашей экономике. Мы в рассрочку покупаем те же автомобили, что и вы, расходуем тот же бензин, пользуемся теми же радиоприемниками, чтобы слушать ту же музыку, и теми же холодильниками, где держим то же пиво, что и вы. Но это и все. Так что теперь нам надо найти себе место как в вашей культуре, так и в вашей экономике. Не вы должны предоставить нам место, чтобы мы не путались у вас под ногами, как тут, на Юге, или чтобы заполучить наши голоса для увеличения ваших политических капиталов, как там, на Севере, но мы сами должны найти себе место, сделаться необходимыми для вас, чтобы вы не могли без нас обойтись, так чтобы никто, кроме нас, не мог заполнить то место в вашей экономике и культуре, которое сможем заполнить мы, вот тогда это место по праву станет нашим. Надо, чтобы вы не просто сказали нам «пожалуйте!», но чтобы вам было необходимо сказать нам «пожалуйте!», чтобы вы захотели сказать нам «пожалуйте!». Не можете ли вы объяснить ей это? Скажите, что мы ее благодарим, мы этого никогда не забудем. Но пусть оставит нас в покое. Хорошо, если мы можем всегда рассчитывать на вашу дружбу и на вашу помощь, когда она нам понадобится. Но не покровительствуйте нам, пока мы сами не попросим.
– Это совсем не покровительство, – сказал дядя Гэвин. – Вы это отлично знаете.
– Да, – сказал директор школы. – Я и это знаю. Простите. Я не хотел… – Потом он добавил: – Вы просто скажите ей, что мы ей благодарны, мы ее не забудем, но пусть нас оставят в покое.
– Как же можно сказать это человеку, который идет на такой риск исключительно ради справедливости, только ради того, чтобы помочь уничтожить темноту, невежество?
– Понимаю, – сказал директор. – Это действительно очень трудно. Может быть, мы и впрямь еще не умеем обходиться без вашей помощи, вот я же попросил вас помочь. Прощайте, сэр! – сказал он и ушел. Но как мог дядя Гэвин сказать ей об этом? Кто мог ей сказать об этом – будь то белый или черный? Дело было не в том, что она не слушала: она и слушать бы не стала даже то единодушное «нет», которым ее встречала негритянская школа в том массовом – нет, не сопротивлении, а скорее оцепенении, инстинктивном, как у животного, когда оно лежит неподвижно, даже не дыша, ничего не понимая. А может быть, она почувствовала это, потому что сразу, без промедления, из школы пошла прямо в инспекцию народного образования: раз она не может уничтожить невежество постепенно, занимаясь с отдельными учениками, она попытается сделать это оптом, пригласив белых учительниц в негритянскую школу; ни у кого не прося помощи, даже у Гэвина, она пошла сама – сначала в педагогический совет школы, а когда они отступили, совершенно стушевались, она проникла в самое святилище – в инспекцию народного образования всего округа, вооружившись не каким-то блокнотиком из слоновой кости, а целой пачкой желтой бумаги для заметок и карандашами для всех. Очевидно, они сделали роковую ошибку, допустив ее на заседание. Гэвин рассказывал, что дело было примерно так:
Инспектор написал: «Давайте на минуту предположим, что мы назначили белых учителей в негритянскую школу. Что же станется с учителями-неграми – или вы, может быть, сами собираетесь выплачивать им пенсию?»
И ее утиный голос:
– Не совсем так. Я их пошлю на Север, в школы для белых, где они получат такую же квалификацию, как белые учителя.
Карандаш: «Опять-таки, предположим дальше, что мы отчислим учителей-негров, где же вы найдете белых учителей, которые согласятся занять места негров тут, в Миссисипи, и долго ли им позволят занимать места негров именно тут, в Миссисипи?»
Утиный голос:
– Я их найду, если только вы их защитите.
Карандаш: «Защитим – от кого, миссис Коль?»
Но на это ей не надо было отвечать. Это уже началось: слова «ПРОДАЛАСЬ ЧЕРНОМАЗЫМ» уже появились крупными буквами, мелом на тротуаре перед их особняком, и на следующее утро ее отец неторопливо шел по этим буквам в своей черной банкирской шляпе, в галстуке бабочкой, жуя все тот же глоток воздуха. Да, конечно, он видел надпись. Гэвин говорил, что ее нельзя было не заметить, что к полудню чуть ли не весь Джефферсон ухитрился «случайно» пройти мимо и взглянуть на эту надпись. Но что еще мог сделать банкир, этот банкир? Поплевать на платок и, встав на колени, стереть буквы с тротуара? А позже и Линда вышла, направляясь в здание суда, чтобы снова проникнуть за запертые двери и ловить других представителей окружной власти. И, может быть, даже вполне возможно, она ничего не заметила. Во всяком случае, ни она, ни повариха, ни привратник ничего не сделали. Сделала женщина, их соседка, она вышла с метлой и хотя бы размазала буквы, злобно, сердито, но не для того, чтобы защитить немыслимые фантазии Линды, и даже не из инстинктивной женской солидарности, а только потому, что она тоже жила на этой улице. Можно было писать на тротуаре примитивные ругательства, непристойности – даже в этой респектабельной части города так случалось, – и она прошла бы, не останавливаясь, не то выходило, будто она во всеуслышание призналась, что ей, порядочной женщине, понятно, что тут написано. Но на улице, где она жила с мужем и владела недвижимостью, конечно, никто не смел писать «ПРОДАЛАСЬ ЧЕРНОМАЗЫМ» или как-нибудь иначе, то есть выражать в явной, вызывающей надписи мелом этот древний, глухой, сокровенный, атавистический расовый страх.
В конце концов старший инспектор народного образования пересек площадь и зашел в банк, в маленькую комнату, где старый Сноупс сидел, положив ноги на каминную доску, в те часы, когда не занимался просроченными закладными, и я хотел бы собственными глазами посмотреть, как это было; посторонний человек входит в комнату и говорит примерно так: «Неужто вы, черт побери, не можете держать свою дочь дома или, по крайней мере, не пускать ее в официальные учреждения?» Безнадежная попытка: разве можно чего-то добиться, если дочери тридцать лет и она не только вдова, материально независима, она к тому же ветеран войны и фактически – Рэтлиф сказал бы «фанатически» – побывала под огнем. Да она и тут удержу не знала: дошло до того, что члены инспекции боялись отпирать двери во время заседания и даже не шли в полдень завтракать домой, а вместо этого им через заднее окошко передавали сандвичи из кафе «Дикси». И тут каждому могло прийти в голову, что, может статься, она-то и послушалась бы советов, последовала им, но он, старый Сноупс, не смел ее просить, уж не говорю – приказать ей бросить все это. Причины, конечно, никто не понимал. Можно было только гадать – какой вексель или закладную из его прошлого, за его подписью она держала в руках, вексель, благодаря которому он занял это место в задней комнатке банка и теперь мог сидеть и наживать состояние, выдавая ссуды и опротестовывая векселя.
Но вскоре ему пришлось вытерпеть не только надписи, сделанные неизвестно кем на тротуаре, по которому он проходил чуть ли не каждый раз, как шел из дому. Однажды ночью (я тогда был в Европе) на лужайке перед особняком вдруг запылал грубо сколоченный крест, пропитанный керосином, и горел до тех пор, пока полисмены, возмущенные, обозленные, но совершенно беспомощные, не прибежали и не потушили его; тут кто угодно, не только полисмены, оказались бы беспомощными. Поймите: если бы она жила самостоятельно, если бы она была просто дочерью какого-нибудь врача, или адвоката, или даже священника, это было бы одно, тогда это было бы поделом и ей и папаше. А вместо того надо же было ей оказаться не просто дочкой банкира, но дочкой того самого банкира, вот и выходило, что крест ярко озарял неопровержимый факт, что люди, запалившие его, дубины и олухи, и если защита белой расы находится в руках болванов, которые не могут, а главное, не умеют разобраться, где сад банкира, а где нет, значит, до чего же докатилась эта белая раса!
А через месяц был Мюнхен. Потом – пакт Сталина с Гитлером, и уж теперь, когда Флем утром выходил из дому в своей черной банкирской шляпе и в галстуке бабочкой, жуя все ту же неизменную пустоту, как говорил Рэтлиф, ему приходилось идти не по каким-то обычным заборным словам, теперь огромные буквы складывались в три слова, покрывавшие весь тротуар перед его домом в разных сочетаниях и перестановках: «КОЛЬ КОММУНИСТКА ЖИДОВКА».
И он, банкир, консерватор, реакционер, который приложил больше усилий, чем кто бы то ни было в Джефферсоне или во всем Йокнапатофском округе, чтобы повернуть время вспять, по крайней мере, к 1900 году, должен был идти по этим словам, как будто их и вовсе не было, будто они были написаны на другом языке, в другом веке, и вполне естественно, что он их не понимает, и весь Джефферсон, – во всяком случае, через своих представителей, – следил за ним, смотрел, не выдаст ли он себя. Но что же он мог сделать? Теперь-то становилось понятно, что это правда, что действительно на нем лежал запрет, – не сметь! – потому что он завоевал себе положение, одержал победу, а за этим крылись уже две смерти: не только самоубийство матери, сделавшее Линду сиротой, но и то, что, будь он другим человеком, его жене не надо было бы стреляться, а он мог бы воспитать такую дочку, чей муж, Бартон Коль, не был бы и скульптором и евреем, да еще с гороскопом, где значилась испанская война. Но в следующую минуту у людей появлялись совершенно противоположные мысли: видно, эти надписи на тротуаре, по которым ему приходилось ступать всякий раз, как он выходил из дому, не были для него ни мрачным предзнаменованием, ни угрозой гибели, так же как неудачно выданный вексель не был для него непоправимым несчастьем, раз деньги сами по себе еще не отменены. И что никогда ему и в голову не пришла бы мысль: «Это мой крест, я буду нести его», – потому что думал он так: «Мне теперь одно нужно, чтобы люди думали, будто это мой крест, а не мой ход в игре».
Потом – Польша. Я сказал: «Теперь я пойду», – а Гэвин сказал: «Годы твои не те. Тебя пока что не возьмут в летную школу», – и я сказал: «Пока?» – и он сказал: «Поучись еще год в юридическом институте. Никто не знает, что тогда будет, но, во всяком случае, не то, что ты видишь сейчас». Так что я опять вернулся в Кембридж, и он мне туда написал, что ФБР наводит о ней справки, он писал: «Я боюсь. Не за нее. Не за то, что они о ней узнают, – она сама все рассказала бы им, если бы только они догадались, что самое простое – прийти к ней и расспросить ее». А потом он мне рассказал обо всем: как она наконец перестала стучаться в двери, за которыми не дыша пряталась вся инспекция и школьный совет, и теперь только собирала по воскресеньям маленьких ребятишек в одной из негритянских церквей и читала им вслух своим сухим, монотонным, крякающим голосом, конечно, не ортодоксальные библейские притчи, но хотя бы легенды Месопотамии иди сказки народов Севера, которые даже христианство приняло в свои обиход, и это ограждало ее, потому что даже белые священники не могли протестовать против такого парадокса. Так что теперь на тротуаре больше не писали ни «КОЛЬ КОММУНИСТКА ЖИДОВКА», ни «ПРОДАЛАСЬ ЧЕРНОМАЗЫМ» (хотелось бы верить, что те устыдились), и ей не приходилось переступать через это, чтобы ежедневно у всех на виду появляться в городе: невеста безмолвия и тишины, неприкосновенная в неслышимости, неуязвимая, она проходила, как и тогда, когда ей было четырнадцать, и пятнадцать, и шестнадцать лет: похожая на молодого пойнтера, который вот-вот выследит и подымет выводок куропаток.
И когда я приехал домой на рождество, я сразу сказал Гэвину:
– Веди ей разорвать этот проклятый партийный билет, если он у нее есть. Слышишь? Вели немедленно. Людям она помочь не может. Они того не стоят, не нужны им ни советы, ни работа. Они хотят одного – хлеба и зрелищ, и к тому же даром. Человек – дерьмо. И как это она ухитрилась целый год проторчать на войне, где и муж погиб, и у нее самой что-то в голове лопнуло ко всем чертям, да еще при этом их все равно побили, – и все-таки ничего не понять? Да, да, конечно, знаю. Знаю, что и ты и Рэтлиф вечно мне твердили одно, а уж Рэтлиф сто раз мне говорил: «Человек, в сущности, не зол, просто он ничего не понимает». Но тогда это тем более так, тогда тем более люди совершенно безнадежны, совершенно не стоят ничьих тревог, ничьих усилий, ничьих страданий. – Но тут я замолчал, потому что он положил мне руку на голову. Теперь ему надо было дотягиваться до меня, но он совершенно так же положил руку, как раньше, когда я был вдвое меньше ростом и втрое моложе, мягко, нежно, слегка поглаживая, и голос у него был тоже спокойный и мягкий.
– А почему ты ей сам не скажешь? – спросил он. Да, он очень хороший и мудрый, кроме тех случаев, когда его занесет вдруг, сразу закрутит и он повернет не туда, – даже я и то понимал, что он повернул не туда – и потом полетит, не разбирая дороги, совершенно не считаясь ни с логикой, ни со здравым смыслом, пока всех нас не втянет в такую кашу, в такую путаницу, что я и то сообразил бы, что нельзя было так делать. Он хороший человек, может, я иногда ошибался, доверчиво следуя за ним, но я был прав, что любил его.
– Прости, – сказал я.
– Не надо, – говорит, – только помни об этом. Не трать времени, раскаиваясь в ошибках. Просто не забывай их.
Так что мне опять пришлось где-то ловить Рэтлифа. Впрочем, нет, я просто воспользовался случаем. Это было во время рождественского ужина – Рэтлиф сам его готовил и всегда приглашал дядю Гэвина и меня к себе в гости. Но в тот вечер Гэвина вызвали в Джексон по какому-то делу санитарной инспекции, и мне пришлось одному сидеть в безукоризненно чистой кухоньке Рэтлифа, попивая холодный пунш из домашнего виски старого Кэлвина Букрайта, – Рэтлиф доставал это виски без всякого труда, хотя теперь, на старости лет, Кэл мог и продать вам бутылку и подарить, но мог и выгнать вас взашей, – этого никогда нельзя было предвидеть; и я потягивал холодный пунш, его только Рэтлиф умел так делать: сначала растворить сахар в малой толике воды, потом добавлять виски, непрерывно помешивая ложечкой, потом долить дождевой воды из бочки; а тем временем сам Рэтлиф без галстука, в белоснежном фартуке поверх чистой голубой, чуть выцветшей рубашки – он их сам шил – готовил еду, и готовил превосходно не только потому, что любил поесть, но потому, что любил стряпать, любил сам доводить все до совершенства, до высшей точки. Потом он снял фартук, и мы сели ужинать за кухонный стол с бутылкой красного вина, которую обычно приносили мы с дядей Гэвином. Потом, взяв кофе и графинчик с виски, мы перешли (как всегда) в маленькую, безукоризненно чистую комнатку – он называл ее своей гостиной – где в углу стояла навощенная до блеска фисгармония, вокруг – навощенные стулья, а в камине, наполненном в летнюю пору жатой зеленой бумагой, зимой стоял газовый радиатор в виде полена, – и до нас дошел прогресс, поглотил и нас, – а посреди комнаты на навощенном столике, на подставке под стеклянным колпаком лежал галстук от Аллановны – на густом, почти алом, вернее, винно-красном фоне рассыпаны мелкие желтые подсолнечники с крохотными голубыми середками, в точности того же, чуть линялого голубого цвета, что и его рубашки, он привез этот галстук из Нью-Йорка года три или четыре назад, когда они с Гэвином ездили к Линде на свадьбу и потом провожали ее в Испанию, но я бы скорее отрезал себе язык, чем сказал ему, что, наверно, за этот галстук заплачено (по-моему, платил Гэвин) не меньше семидесяти пяти долларов; и все же как-то я нечаянно проговорился, и Рэтлиф сказал:
– Я-то знаю, сколько заплачено: сам платил. Сто пятьдесят долларов.
– Что? – сказал я. – Сто пятьдесят?
– Да, их было две штуки, – сказал Рэтлиф.
– Но я вижу только один, – говорю.
– А другой ты, наверно, и не увидишь, – сказал он, – это дело частное, – и тут же стояла эта самая скульптура, которую ему завещал Бартон Коль, и если Гэвин все еще пытался хоть для начала разобраться, что это, так я уже давно вышел из игры – я даже не мог понять, что изображено, уж не говорю, что оно делает.
– Не хватает только золотой зажигалки, которую она ему подарила, – говорю, – Музей имени Линды Сноупс.
– Нет, – сказал Рэтлиф. – Имени Юлы Уорнер. Надо бы еще кое-что сюда поставить, но пока и этого хватит. Если среди нас хоть раз в тысячу лет рождается такая Юла Уорнер, живет тут, дышит, значит, надо хотя бы воздвигнуть ей… нет, памятник не то слово.
– Мавзолей, – говорю.
– Вот именно, – сказал Рэтлиф, – мавзолей ее памяти, напоминание тем, кому не выпало счастье видеть ее, кто тогда был еще ребенком. – Он остановился. Он стоял и молчал. Но скорее он над чем-то посмеивался, призадумался, а не то чтоб растерялся. И тут я сказал:
– Вы ошибаетесь. Не выйдет.
– Что? – говорит он. – Ты о чем?
– Она не выйдет замуж за Гэвина.
– Правильно, – говорит, – будет куда хуже.
И тут уж я переспросил:
– Что? Как вы сказали?
Но он уже снова стал таким, как всегда: мягким, невозмутимым, непроницаемым.
– Полагаю, что Юрист и это выдержит, – сказал он.