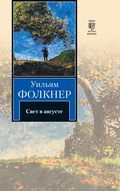Уильям Катберт Фолкнер
Особняк
8. ЧАРЛЬЗ МАЛЛИСОН
Линда Коль (в девичестве Сноупс, как сказал бы Теккерей, да уже и не Коль, так как ее муж умер) была не первым раненым героем войны, которого забросило к нам в Джефферсон. Однако ее первую мой дядя потрудился встретить. Но не на железнодорожном вокзале: в 1937 году в Джефферсоне вот уже год, как не останавливались поезда, на которых приезжали бы стоящие пассажиры. И не на автобусной станции, да и вообще не в Джефферсоне. Мы поехали встречать ее в мемфисский аэропорт, и в последнюю минуту мой дядя сообразил, что ему одному будет трудно вести машину восемьдесят миль туда и обратно.
Впрочем, она была и не первым героем-женщиной. Еще в 1919 году у нас две недели прожила сестра милосердия, девушка в чине лейтенанта, конечно, не жительница, не уроженка Джефферсона, но как-то связанная с одним из джефферсонских семейств (а может, просто заинтересованная в одном из членов этого семейства; она служила в госпитале на военной базе во Франции и, по ее словам, целых два дня провела на передовом распределительном пункте и слышала, как грохочут пушки за Мон-Дидье).
В сущности говоря, тогда, в 1919 году, даже пятилетним джефферсонцам, вроде меня, уже немножко надоели герои войны, и не только те, кто остался цел и невредим, но и раненые, приезжавшие на поезде из Мемфиса или Нового Орлеана. Я не хочу сказать, что те, кто остались целы и невредимы, сами называли или считали себя героями, да и вряд ли думали об этом, пока не очутились дома, где им все уши прожужжали этим словом, а уж тогда некоторые из них, не все, конечно, всерьез стали верить, что они, может быть, и на самом деле герои. А уши им прожужжали именно те, что затеяли и организовали всю эту шумиху, те, что сами на войну не пошли и уже заранее приготовились устраивать парадные встречи в портах и более скромные, местного значения, торжества в маленьких городах с угощением и пивом; те, что не пошли на эту войну и не собирались на следующую, да и вообще старались, если удастся, не воевать, а покупать безналоговые облигации займов и устраивать парадную шумиху в честь героев для того, чтобы будущие рекруты – теперь восьми-, девяти-, десятилетние мальчишки – могли любоваться красивыми погонами, нашивками за ранения и ленточками медалей.
Шумели до тех пор, пока некоторые из вернувшихся всерьез не поверили, что раз им все кругом прожужжали уши про их геройство, значит, это, по всей вероятности, правда, и они на самом деле герои. Потому что, если верить дяде Гэвину (а он тоже был в некотором роде солдатом, сначала на американской полевой службе при французском штабе в шестнадцатом и семнадцатом годах, потом, тоже во Франции, чем-то вроде секретаря или как их там называли при санитарной службе Ассоциации молодых христиан), им ничего другого не оставалось: этих юношей, вернее, мальчишек, у которых было самое смутное и совершенно превратное понятие о том, что такое Европа и где она есть, и абсолютно никакого представления об армии, не говоря уж о войне, в один прекрасный день сбили в кучу, помуштровали и послали в экспедиционные войска, где они еще до двадцати пяти лет пережили (если им повезло) самое великое испытание в своей жизни, хотя многие этого даже не осознали. А потом, опять без их ведома, опять в один прекрасный день их выплюнуло обратно, туда, где они надеялись увидеть привычный, знакомый им мир, – а ведь им внушали, что для того их и оторвали от дома, для того они и шли на страдания и на смерть, чтобы в этом их привычном мире все осталось по-прежнему, когда они вернутся, но только, когда они вернулись, от прежнего и следа не осталось. Так что вся шумиха насчет героев, все эти оркестры, парады и банкеты длились совсем недолго, они затихли даже прежде, чем к ним стали привыкать, подошли к концу еще до того, как последние из «героев» с опозданием вернулись домой, и уже им говорили под замирающие звуки оркестров, над застывшим жиром жаркого и выдохшимся пивом: «Ладно, ребятишки, доедайте мясо с картофельным салатом, допивайте пиво и не путайтесь у нас под ногами, мы по горло заняты в этом новом мире, где главное и единственное наше дело – не просто извлекать выгоду из мирного времени, а получать такие прибыли, какие нам и не снились».
Так что, по словам дяди Гэвина, им необходимо было поверить, что они герои, хотя они уже никак не могли вспомнить, где же именно, какими подвигами и в какую именно минуту или секунду они заработали, заслужили это высокое звание. А больше им ничего и не осталось: прожили они всего треть своей жизни, но уже поняли, что пережито огромное испытание, и, вернувшись, увидели, что их мир, ради сохранения которого они столько терпели и так рисковали, в их отсутствие был до неузнаваемости изменен теми, кто благополучно отсиживался дома, так что теперь для них в этом мире места не оказалось. Потому-то им и необходимо было верить, что про них хоть отчасти говорят правду. По этой же причине (как говорил Гэвин) возникли всякие союзы и легионы ветеранов войны: единственное священное прибежище, где хоть раз в неделю, среди других обманутых и обездоленных, они могли уверять друг друга, что во всем этом есть хоть какая-то микроскопическая доля правды.
В сущности (во всяком случае, у нас в Джефферсоне), даже те, что вернулись без ноги или без руки, вернулись совершенно такими же, как уехали, только их, так сказать, выделили курсивом, подчеркнули. Взять, например, Тэга Найтингейла. Отец его был сапожник, работал в крошечной конуре в переулке за площадью – маленький, сухощавый человечек, который не потянул бы и ста фунтов вместе со своей скамейкой, верстаком и сапожным инструментом, весь обросший, со свирепо торчащими усами и бородой, со свирепыми, бесстрашными, неумолимыми глазами – твердокаменный баптист, который не то что верил, а твердо знал: земля плоская, а Ли предал весь Юг, сдавшись при Аппоматоксе [21]. Сапожник был вдовый, Тэг – его единственный оставшийся в живых сын. Тэг дошел почти что до третьего класса, когда сам директор школы сказал мистеру Найтингейлу, что Тэгу лучше из школы уйти. Тэг ушел и теперь все свободное время болтался на конном рынке за конюшней Далзека, где, впрочем, и раньше торчал целыми днями, но теперь он нашел себе дело: сначала связался с Лонзо Хейтом, местным барышником, торговавшим мулами и лошадьми, а потом с самим Пэтом Стэмпером, который среди лошадников – и не только в округе Йокнапатофа или на севере штата Миссисипи, но и во всей Алабаме, и Теннесси, и Арканзасе – был по сравнению с Лонзо Хейтом все равно что сам Фриц Крейслер [22] по сравнению со скрипачом на сельской пирушке, и Тэг понимал, что перед ним – гений. А у самого Тэга были не просто какие-нибудь ерундовые навыки и умение обращаться с мулами, он был для них homme fatal (роковой человек (франц.)), любой мул, жеребец или кобыла были в его руках послушной глиной, он мог делать с ними что угодно, только не умел выгодно продавать и покупать. Потому он и остался простым конюхом и подручным, а в конце концов ему пришлось стать маляром, чтобы зарабатывать на жизнь: маляр он был далеко не первоклассный, но, по крайней мере, умел натереть краску и выкрасить забор или стенку, если ему сначала кто-нибудь покажет – где именно красить.
Так он жил примерно до 1916 года, то есть лет до тридцати с лишним, когда в нем что-то стало меняться. А может, он давно изменился, только мы, джефферсонцы, до сих пор ничего не замечали. Для нас он был, что называется, обыкновенным провинциальным, захолустным маляром: холостяк, живет с отцом в домишке на окраине, по субботам ходит в цирюльню мыться и бриться, а потом немножко напивается – не особенно сильно: всего лишь два-три раза в год воскресным утром он просыпался в местной тюрьме, признавал свою вину, и его выпускали: попадал он туда не за пьянство, а за драку, хотя дрался он именно под пьяную руку и только в тех случаях, когда кто-нибудь (противники всегда оказывались разные – все равно кто) вдруг пытался разбить прочную, завещанную ему отцами веру в то, что генерал Ли был трус и предатель и что земля плоская, с закраиной, как крыши сараев, которые он красил. Потом в овраге за кладбищем он немножко играл в кости, пока к концу воскресного дня не проходил хмель, а с понедельника он уже брался за свои краски, кроме того, раза четыре в год он ездил в мемфисский бордель.
Но потом на него накатило. Он по-прежнему брился по субботам в цирюльне, по-прежнему немножко выпивал, хотя, насколько было известно в Джефферсоне, давно не допивался до драки из-за генерала Ли, Птолемея и Исаака Ньютона, так что ни разу не попадал в тюрьму, и ночной полисмен, который при малейшей драке встревоженно колотил в дверь запертой цирюльни или бильярдной и орал: «Тише, ребята, марш по домам!» – и тот его ни разу не накрыл. Не видели его больше и за игрой в кости в овраге за кладбищем, в воскресное утро на глазах у всех он шествовал рядом со своим отцом, щуплым, маленьким, со свирепыми усищами, к баптистской молельне, стоявшей в переулке, а после обеда сидел на малюсенькой галерейке их игрушечного домика, уткнувшись в газеты и журналы (это он-то, еле-еле проковылявший через первые два класса и выгнанный из третьего), откуда мы черпали все наши сведения о войне в Европе.
Он очень изменился. Даже мы (то есть весь Джефферсон, мне самому было всего три года) не понимали, насколько он изменился, вплоть до того апреля 1917 года, после гибели «Лузитании» и декларации президента [23], когда капитан (тогда еще просто мистер, пока его не выбрали капитаном) Маклендон организовал джефферсонский отряд под названием «Стрелки Сарториса», в честь того первого полковника Сарториса (в отряде ни одного Сарториса не было, так как Баярд и его брат-близнец Джон уже служили в английской королевской авиации), и только потом все стало известно: Тэг Найтингейл, которому уже было за тридцать, так что он даже не подлежал призыву, одним из первых записался в отряд, и мы, вернее, они узнали, в какой переплет он попал: он просто не смел и думать, что будет, если отец узнает, что он решил поступить в армию янки, потому что, узнай отец об этом, он немедленно проклял бы Тэга и вышвырнул его из дому. И хотя капитан Маклендон говорил: «Глупости! Не может быть», – все же они вместе с другим волонтером – его потом назначили сержантом – решили сами пойти домой к Тэгу; тот, другой, будущий сержант, все нам и рассказал:
– Будто тебя заперли в сарай с электропилой, а она на полном ходу соскочила с оси, нет, верней, стоишь ты рядом с динамитной шашкой, запал у нее уже дымится, а она скачет себе по полу, как змея, и к ней не только не подступиться, не прижать ногой, – тут уж не до того, лишь бы выскочить живьем, – а Мак все говорит: «Да погодите, мистер Найтингейл, это же не армия янки, это армия Соединенных Штатов, вашей родины!» – а этот сумасшедший карлик, черт его дери, шипит и трясется, будто ему усы подпалили, и орет: «Стрелять их, сукиных детей! Стрелять! Стрелять!» – а Тэг тоже пытается его урезонить: «Папаша, слышишь, папаша, капитан Маклендон и Крэк тоже в этом отряде», – но старик знай орет: «Расстрелять их всех! Расстрелять их всех, синепузых сволочей!» – а Тэг пробует его уговорить: «Папаша, да если я сейчас не пойду, все равно, когда начнется призыв, меня заберут!» – а этот сумасшедший одно орет: «Всех вас расстрелять! Всех расстрелять, сукины вы дети!» Да, брат. Наверно, если бы Тэг захотел пойти в германскую армию, к французам или даже к англичанам, старик благословил бы его. Но только не в ту армию, которой генерал Ли сдался в 1865 году. Он тут же выгнал Тэга. Мы все трое выскочили из дому и давай бог ноги, но не успели выбежать на улицу, как он ринулся в комнату, где, видно, жил Тэг, и даже двери не стал открывать, вышиб стекло вместе с рамой и ну выкидывать вещи Тэга прямо во двор.
Словом, Тэг перешел Рубикон, и теперь как будто все было в порядке. Я хочу сказать, что капитан Маклендон приютил его у себя. Он, этот Маклендон, сам вырос в громадной семье, с целой кучей братьев, в громадном доме, и мамаша у него была громадная, весила чуть ли не двести фунтов, очень любила стряпать, да и покушать как следует, так что одним человеком больше или меньше для нее никакого значения не имело, может, она даже и не заметила Тэга. В общем, пока отряд ожидал приказа к выступлению, Тэг мог бы жить спокойно. Но товарищи не оставляли его в покое: такой способ поступления в армию был единственным в своем роде, почти как в пьесе «Ист Линн» [24]. Кто-нибудь всегда начинал:
– Скажи, Тэг, правда ли, что генералу Ли вовсе и не надо было сдаваться, когда он сдался?
И Тэг отвечал:
– Да, папаша так всегда говорит. Он сам тогда воевал, все видел, хоть ему и семнадцати не было.
Но тут второй добавлял:
– Значит, тебе пришлось идти ему наперекор, собственному отцу наперекор, чтобы поступить в отряд стрелков?
А Тэг сидел не двигаясь, спокойно, свесив меж колен руки, которыми он умел красить только самые простые стенки сараев, только самые незамысловатые заборы, но зато с любым, даже самым норовистым мулом делал что хотел, – сидел и ждал, зная, что сейчас начнется. А кто-нибудь из них, вернее, все, кто тут был поблизости, одним глазом косились на Тэга, а другим – на капитана Маклендона, стоявшего поодаль, и дожидались той минуты, когда капитан выйдет на улицу.
– Верно, – говорил Тэг, и кто-нибудь снова начинал:
– Зачем же ты так сделал, Тэг? Тебе уже за тридцать, призывать тебя никто не стал бы, отец твой уже старик, как же ты его одного оставишь, кто о нем позаботится?
– Нельзя этим немцам позволять измываться над народом. Кто-нибудь должен им набить морду.
– Значит, ты пошел наперекор отцу в армию, чтобы им морду набить? А теперь тебе и дальше надо идти ему наперекор, ведь придется объехать вокруг света, иначе тебе не взяться за этих немцев.
– Я во Францию еду, – говорит Тэг.
– А я что говорю? Полсвета надо обогнуть. Ты куда поедешь, – на восток или на запад? Можешь в любую сторону ехать – все равно попадешь туда. А хочешь, я с тобой побьюсь об заклад? Поезжай на восток, пока не доедешь до войны, приструни там этих немцев как следует, а потом двигай еще дальше, на восток, а я поставлю сто долларов против одного, что ты доедешь до самого Джефферсона и окажешься прямо против почтового ящика мисс Джоанны Берден, в миле от городской площади, от суда.
Но тут уже возвращался капитан Маклендон: кто-нибудь успевал за ним сбегать. Видно, он оказался настолько неумелым командиром, что его освободили от этой должности задолго до того, как отряд попал на фронт, а через несколько лет он тут, в Джефферсоне, встал во главе такой шайки, что я каждый раз, ложась спать, радуюсь, что их тут, в темноте, нет поблизости. Но в те времена он, по крайней мере, держал свой отряд в руках, и не оттого, что на нем были погоны: если б только это, в отряде после первого же субботнего вечера не осталось бы ни души: он их держал какими-то своими простыми человеческими качествами, видно, они в нем таились, даже когда он потом впутался в скверное дело и отряд ждал другого командира, получше. Капитан уже был в военной форме. Вообще-то он промышлял хлопком, скупал его для одной мемфисской экспортной фирмы, а все свои комиссионные просаживал на бирже, играя на повышение; но именно в военной форме он особенно походил на фермера.
– Какого черта вы тут затеяли? – говорил он. – Что же, по-вашему, Тэг – муравей какой-нибудь, ползущий по апельсину? Вовсе он не поедет вокруг чего-то, он поедет напрямик, прямо через океан, во Францию, сражаться за свою родину, а когда он там больше не понадобится, то вернется назад, опять-таки прямо через океан, сюда, в Джефферсон, – откуда уехал, туда и приедет, и все мы будем рады, когда вернемся сюда. И чтоб больше мне тут всякое… мягко выражаясь, дерьмо не разводили, понятно?
Понадобилась ли еще Тэгу помощь капитана Маклендона или нет, но факт тот, что эта помощь сама собой кончилась. Через неделю весь отряд построили и отправили на обучение в Техас, после чего, принимая во внимание, что Тэг умел красить любую плоскую поверхность, если только она была достаточно простой и с осязаемыми краями, и, кроме того, обладал таким удивительным умением обращаться с мулами и лошадьми, что эксперт по этому делу Пэт Стэмпер разглядел в нем проблески редкого качества, которое называется талантом, – принимая во внимание именно эти данные, его, разумеется, назначили в армии поваром и в тот же день отправили на фронт; так что он был не только первым солдатом из округа Йокнапатофа (не считая братьев Сарторисов, официально числившихся в британских войсках), которого отправили за море, но он был одним из последних американских солдат, вернувшихся домой в конце 1919 года, так как, видимо, то же самое военное начальство, которое его назначило поваром, забыло, куда его послали (нет, они его не совсем потеряли, мой собственный опыт, приобретенный между 1942 и 1945 годами, меня научил, что военное начальство ничего не теряет, оно только может где-нибудь вас заживо похоронить).
Словом, наконец он вернулся домой и жил один (его отец, старый Найтингейл, умер еще летом 1917 года; по словам дяди Гэвина, его сгубил его собственный непреклонный характер, потому что он, не сдаваясь, с презрением бросил вызов самому Джаггернауту – беспощадной истории и науке, еще в тот апрельский день 1865 года, и с тех пор ни разу не дрогнул); Тэг снова красил заборы и сараи, мыл голову по субботам в цирюльне, снова играл в кости и выпивал в меру своих возможностей, но на лице у него, как говорил В.К.Рэтлиф, застыло такое выражение, будто его всю жизнь учили верить, что четвертое измерение невидимо, и вдруг он его сам увидал. А кроме того, теперь при нем не было капитана Маклендона. То есть Маклендон тоже вернулся домой, но он уже не был его командиром. А может быть, тут и не помогла бы прирожденная гуманность капитана Маклендона, которую он проявил тогда, защищая Тэга от беспощадных истин космологии, да и вообще запас этой доброты в нем, как видно, иссяк, потому что в том последующем столкновении с проблемами гуманизма он никакой доброты не выказал.
А история с Тэгом опять разыгралась в цирюльне (нет, я при этом не присутствовал, я еще был в том возрасте, когда меня обязательно выгнали бы из цирюльни в субботу в десять часов вечера, даже если бы мне удалось сбежать от мамы, историю с Тэгом Рэтлиф рассказал дяде Гэвину, а потом уж мне).
На этот раз заводилой был Скитс Макгаун, приказчик из кондитерской дяди Билли Кристиана, – франтоватый, хвастливый юнец, от которого больше пахло одеколоном, чем чистотой; в кондитерской его обожали четырнадцатилетние и пятнадцатилетние девчонки, но потом мы узнали, что он вовсе не так молод, как казалось, и, по утверждению Рэтлифа, он и десять лет спустя не стал таким образованным, каким притворялся в те годы, делая вид, что даже кое-что позабыл. Скитса только побрили и надушили, а Тэг вымыл голову и сидел спокойно, пока первые порции виски не стали сказываться на его настроении.
– Значит, из Техаса ты поехал на север, – сказал Скитс.
– Верно, – сказал Тэг.
– Ну, расскажи, как было дело, – продолжал Скитс. – Значит, ты выехал из Техаса прямо на север, в Нью-Йорк. Потом сел на пароход и поехал дальше, тоже прямо на север.
– Верно, – сказал Тэг.
– А вдруг они тебя малость обманули? Вдруг они повернули пароход на запад или на восток, а то и обратно, на юг?
– Будь я проклят! – говорит Тэг. – Что же я, по-твоему, не знаю, где север? Да меня можно среди ночи поднять с постели, и я сразу тебе пальцем ткну на север, даже света зажигать не надо.
– Хочешь, поспорим? На пять долларов? На десять?
– Могу поставить и десять долларов против одного, только, наверно, ты свой последний доллар уже профукал на шампунь или на шелковую рубаху.
– Ладно, ладно, – сказал Скитс. – Значит, пароход отправился прямо на север, во Францию. Пробыл ты во Франции два года, потом опять сел на пароход и опять поехал прямо на север. А потом ты слез с парохода, сел в поезд, и он тоже…
– Заткнись! – говорит Тэг.
– …поехал прямо на север. И ты слез с поезда и очутился в Джефферсоне.
– Заткнись, ублюдок проклятый! – сказал Тэг.
– Неужели же ты не понимаешь, что это значит? Одно из двух – либо Джефферсон перенесли… – Но Тэг уже встал с места, хотя Скитс еще не понимал, что его ждет, и продолжал: -…а всякий, кто сидел тут дома и на войну не ходил, тебе скажет, что этого не было. Либо ты уехал из Джефферсона через Техас, на север, и приехал в Джефферсон, тоже двигаясь на север, но Техас уже не проезжал… – Тут уже всем парикмахерам, и клиентам, и просто зевакам, и даже ночному полисмену пришлось удерживать Тэга силой. Впрочем, к этому времени «скорая помощь» уже увезла Скитса в больницу.
Потом вернулся Баярд Сарторис. Он приехал весной 1919 года и купил самый мощный гоночный автомобиль, какой можно было найти, и все время носился по округе или в Мемфис и обратно, но потом его тетушка, миссис Дю Прэ (мы все считали, что это она), оглядела весь Джефферсон и одной рукой захватила мисс Нарциссу Бенбоу, а другой придержала Баярда между двумя поездками ровно настолько, чтобы успеть их поженить, надеясь, что этим она помешает Баярду сломать себе шею, так как он остался последним из могикан – Сарторисов (Джона в конце концов сбили в июле 1918 года), но из ее планов ничего не вышло. Потому что, как только Нарцисса забеременела (а это случилось довольно скоро), он, Баярд, опять стал носиться в своей машине, пока на этот раз не вмешался сам полковник Сарторис: он отказался от своей коляски, хоть и терпеть не мог автомобилей, и Баярд возил его в машине до банка и обратно, так что, по крайней мере, этот отрезок пути проезжал помедленней. К несчастью, у полковника Сарториса было больное сердце, и, когда случилась авария, он умер; а Баярд вылез из разбитой машины и скрылся, бросив беременную жену и дом, и о нем услыхали только на следующую весну, когда он все еще пытался разогнать тоску, пробуя, на какой предельной скорости можно нестись к намеченной цели, на этот раз он испытывал самолет, новую экспериментальную модель, на испытательном аэродроме в Дайтоне; но, к сожалению, самолет его перехитрил, сбросив в воздухе все четыре свои крыла.
– Да, его тоска заела, – говорил дядя Гэвин, и еще он сказал, что в цивилизованном мире война – единственное состояние, которое дает выход низменным инстинктам, присущим человеку, причем это не только поощряется, но и поддерживается; Баярд не мог простить немцам не то, что они начали войну, а то, что они ее кончили, прекратили. Но моя мама сказала, что это неверно. Она сказала, что Баярду стало страшно и стыдно, стыдно не потому, что он испугался, но страшно, когда он понял, что способен устыдиться, подвержен стыду. Мама говорила, что Сарторисы не похожи на других людей. Другие люди больше всего любят самих себя, только они это от всех скрывают, а может быть, и себе признаются в этом только тайком; так что им этого не надо стыдиться, а если им и становится стыдно, они не пугаются этого стыда. Но Сарторисы не сознавали, что они любят себя больше всего на свете, один только Баярд это знал. Но ему это не мешало, и он не знал стыда, пока вместе с братом-близнецом не приехал в Англию, где оба стали обучаться летному делу, летая на самолетах, сделанных на соплях и проволоке, без парашюта; а может быть, он и не знал этого стыда, пока оба они не попали на фронт, где даже для тех, кто до сих пор выжил, шансы – по сравнению с пилотами-разведчиками, которые обычно оставались живы в течение первых трех недель действительной службы, – равнялись примерно нулю. И тут Баярд вдруг понял, что он – единственный человек в эскадрилье, а может быть, и во всем британском воздушном флоте, а может, и во всей военной авиации, у которого есть двойник, понял, что он – не один человек, а два, потому что у него есть брат-близнец, который так же рискует, имея столько же шансов выжить, как и он. Так что, в сущности, из всех летчиков, сражавшихся в этой войне, он имел двойную гарантию безопасности против всяких случайностей (и, разумеется, у его брата-близнеца шансов тоже было вдвое больше, только как раз наоборот), и в ту же секунду, как он это подумал, он с ужасом понял, что ему стыдно даже одной этой мысли, одного сознания, одного того, что он посмел так подумать.
В этом, как говорила моя мама, и была его беда – вот почему он и вернулся в Джефферсон угрюмый и безучастный, с одной целью – пробовать, каким способом лучше сломать себе шею и всех окружающих постоянно держать в тревоге, в огорчении или, по крайней мере, в недовольстве: вся беда была в совершенно не свойственном Сарторисам чувстве стыда, с которым он и жить не мог, и расстаться не умел; не мог с ним примириться и не мог сам своей волей от него избавиться. Вот почему он рисковал жизнью, играл с опасностью, верил в судьбу. Но, вероятно, та же тайная мысль – что у близнецов есть как бы двойная гарантия безопасности – тогда же пришла в голову и второму брату, Джону, недаром они были близнецами. Впрочем, Джона это, наверно, беспокоило ничуть не больше, чем его прадеда (первого, настоящего полковника Сарториса) беспокоило то, что этот прадед делал на той, давнишней войне (дядя Гэвин говорил – а лет через пять я сам имел возможность это проверить на себе, – что человек, даже если он служил в санчастях АМХ, всегда возвращается с войны, жалея о чем-то, что он сделал, или хотя бы стараясь забыть об этом); и только один Баярд из всей семьи оказался таким слабым, таким не Сарторисом.
И вот теперь, если моя мама была права, он мучился вдвойне. Во-первых, он мучился от мысли, что способен дойти до такого падения не только в том, что дал волю своему низменному воображению и эгоистическим надеждам, но и в том, что способен их стыдиться, обречен на этот стыд, и, во-вторых, что если эта двойная гарантия безопасности сработала в его пользу и Джона сбили первым, все равно ему, Баярду, как бы долго он ни прожил, должно быть, придется, уже в сонме бессмертных, встретиться со своим близнецом, и тогда никак нельзя будет скрыть свою слабость, свое позорное пятно. А позорным пятном была не эта самая мысль, потому что та же мысль и в то же время, наверно, приходила в голову и его брату, хотя они оказались в разных эскадрильях; позор был в том, что из них двоих Джон никогда не устыдился бы этой мысли. А мысль была вот какая: Джон сумел сбить трех немцев, прежде чем его самого сбили (наверное, он лучше стрелял, чем Баярд, а может быть, командир больше любил его и помогал ему), но и сам Баярд набрал достаточно очков по британскому счету (если только кому-то из них не пришла невероятная мысль сказать: «Я тут ни при чем, я так сдрейфил, что забыл ко всем чертям нажать спуск у пулемета»), так что ему засчитали двоих сбитых и одного возможного, а теперь, когда Джон погиб и ему уже не нужны были никакие очки, предположите, только на секунду предположите, что Баярд мог бы выклянчить, подделать или запутать записи, подкупить того, кто их вел, с тем, чтобы все трофеи записать на одного Сарториса – пусть хоть один из них вернется домой героем, – причем эта мысль сама по себе вовсе не была такой низкой, потому что она не только приходила в голову Джону, но если бы Джон остался жив, а Баярда убили, Джон непременно как-нибудь осуществил бы эту идею, но низкой она стала потому, что Баярд ее унизил и изгадил тем, что он ее устыдился. Причем он никак не мог самовольно уйти от этой позорной мысли: ведь если когда-нибудь он на том свете встретится с Джоном, погибнув от несчастного случая, то Джон просто презрительно усмехнется, но если он сам уйдет из жизни, сунув дуло пистолета в рот, дух Джона не просто будет над ним насмехаться с презрением, он никогда с ним не помирится, никогда ему не простит.
В общем, Линда Сноупс – виноват, Сноупс-Коль – была первым нашим героем-женщиной. Так что можно было предполагать, что весь город явится ее встречать или, по крайней мере, пришлет делегатов от гражданских клубов, от церковных советов, не говоря уж об Американском легионе ветеранов войны, который непременно встречал бы ее, если б она получила титул «Мисс Америка», а не просто подорвалась на мине или была контужена снарядом, словом, тем, что ударило в санитарную машину, которую она вела, и оглушило ее навсегда. Я и сказал: а зачем она, собственно говоря, возвращается домой? Ей тут и вступать некуда. На кой ей нужно «Дамское благотворительное общество» – устраивать лотереи, где разыгрывают варенье и самодельные абажуры, что ли? Даже если она умела бы варить варенье, – впрочем, этому скульптору, наверно, меньше всего нужно было, чтобы она умела стряпать. Да он, должно быть, и вообще проводил с ней время только между партийными собраниями, пока кто-то не затеял войну с фашистами и он в эту войну не ввязался. Уж я не говорю, что в Джефферсоне, штат Миссисипи, ей пришлось бы заново научиться готовить. Особенно если она раньше училась этому в ресторации «Грязная ложка», которую ее папаша отнял у Рэтлифа, когда они только появились у нас в городе. Но я ошибся. Встречали ее не городские организации, а просто частные лица, все трое оказались в Джефферсоне по чистой случайности, потому что фактически они явились из прошлого ее матери: мой дядя, ее отец и Рэтлиф. Потом я увидел, что их будет всего двое. Рэтлиф даже не захотел сесть в машину.
– Поехали! – сказал дядя Гэвин. – Едем с нами!
– Я лучше подожду здесь, – сказал Рэтлиф. – Я буду комитетом по встрече. Значит, до следующего раза? – сказал он мне.
– Что? – переспросил дядя Гэвин.
– Ничего, – говорит Рэтлиф. – Это Чик как-то сказал в шутку, а я ему напоминаю.
Потом я увидел, что людей, связанных с прошлым ее матери, будет не двое, а один. Мы не только не остановились у банка, мы даже мимо не проехали. Я сказал: «А какого черта мистеру Сноупсу терять, по крайней мере, шесть часов хорошего ростовщичества и ехать до самого Мемфиса встречать свою дочку? Он ведь не пожалел никаких затрат, лишь бы отправить ее из Джефферсона подальше: он не только изуродовал особняк де Спейна, он еще нагромоздил весь этот импортный итальянский мрамор на могиле ее матери, чтобы дочке хоть из-за этого захотелось уехать отсюда или сюда не возвращаться, считай, как тебе угодно».
Я сказал: "Значит, я виноват, что родился слишком поздно, чтобы защищать «Дас Демократа» в вашей войне или Марксов «Дас Капитал» в ее воине? Что ж, значит, у меня еще впереди времени достаточно. Или ты хочешь сказать, что Гитлер, Муссолини и Франко вместе взятые не могут добиться того, чтобы впутать доподлинного, бессрочного, официально зарегистрированного члена гарвардского запасного офицерского корпуса в серьезную военную передрягу? Конечно, я вряд ли попаду в «Порселлиан», например, Ф.Д.Р. [25] так и не попал".