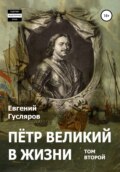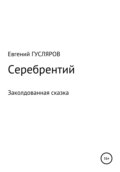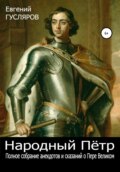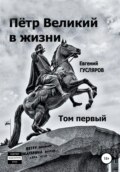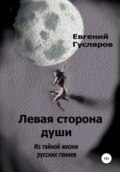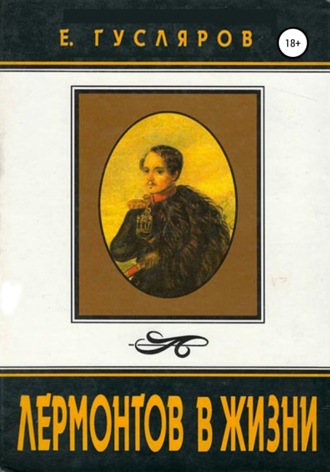
Евгений Николаевич Гусляров
Лермонтов в жизни
На подступах к зрелости: Школа жизни (1837 – февраль 841)
Как будто в бурях есть покой…
В роли светского льва
Корнет Лейб-Гвардии Гусарского полка Лермонтов, за сочинение предосудительных стихов на смерть Пушкина, в феврале 1837 года переведен был в Нижегородский Драгунский полк. Впоследствии, по моему ходатайству, Государь Император, бывши в закавказском крае, изволил оказать Лермонтову помилование и повелел перевесть его Лейб-Гвардии в Гусарский Гродненский полк.
А. X. Бенкендорф.
Цит. по: Лермонтов и Николай I //
Литературная газета. 1959. № 126. 13 окт.
Старушка бабушка была чрезвычайно поражена этим обстоятельством (первой ссылкой Лермонтова. – Е. Г.), но осталась в Петербурге, с надеждой выхлопотать внуку помилование, в чем через родных, в особенности через Л. В. Дубельта, и успела, менее чем через год Мишеля возвратили и перевели прежде в Гродненский, а вскоре, по просьбе бабушки, же опять в лейб-гусарский полк.
А. П. Шан-Гирей.С. 750
Наконец, меня перевели обратно в гвардию, но только в Гродненский полк, и если бы не бабушка, то, по совести сказать, я бы охотно остался здесь, потому что вряд ли Поселение веселее Грузии.
Лермонтов – С. А. Раевскому.
Конец ноября – начало декабря 1837 г.
В первый день приезда (26 февраля 1838 года в Гродненский гусарский полк. – Е. Г.) Лермонтов, еще как гость, был приглашен обедать братьями Безобразовыми. После обеда Лермонтов обратился к Безобразовым и Арнольди с вопросом: не играют ли в полку в карты вообще и в банк в особенности. Безобразов отозвался утвердительно и заложил банк в сто рублей. Лермонтов нашел сумму слишком малою, на что Безобразов заметил, что, играя постоянно и между товарищами, нет цели закладывать большую сумму. Но Лермонтов настоял на своем и, вытащив из бокового кармана вицмундира тысячу рублей, начал метать. Зашедший через час в квартиру отлучившийся после обеда Арнольди застал стол, исписанный мелом и покрытый загнутыми картами. Безобразовы были уже до двух тысяч в проигрыше. Арнольди посоветовал Безобразову держаться рутерок, и те стали отыгрываться. Тогда Лермонтов, обратясь к Арнольди, заметил: «Как видно, вы очень счастливы в игре – не примете ли и вы в ней участия?» – тот согласился, поставил несколько золотых, и счастье оставило Лермонтова: он давал почти все карты и не только проиграл весь свой выигрыш, но еще и 800 рублей А. Н. Арнольди.
Ю. Елец.История лейб-гвардии Гродненского гусарского полка.
СПб., 1898. Т. I. С. 205—206
Придя однажды к обеденному времени к Безобразовым, я застал у них офицера нашего полка, мне незнакомого, которого Владимир Безобразов назвал мне Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. Вскоре мы сели за скромную трапезу нашу, и Лермонтов очень игриво шутил и очень понравился нам своим обхождением. После обеда мы по обыкновению сели играть в банк, но вместо тех 50 или 100 руб., которые закладывались кем-либо из нас, Лермонтов предложил заложить 1000 и выложил их на стол. Я не играл и куда-то выходил. Возвратившись же, застал обоих братьев Безобразовых в большом проигрыше и сильно негодующих на свое несчастье. Пропустив несколько талий, я удачно подсказал Владимиру Безобразову несколько карт и он с моего прихода стал отыгрываться, как вдруг Лермонтов предложил мне самому попытаться счастья; мне показалось, что предложение это было сделано с такою иронией и досадою, что я в тот же миг решил пожертвовать несколькими десятками и даже сотнями рублей для удовлетворения своего самолюбия перед зазнавшимся пришельцем, бывшим лейб-гусаром… Судьбе угодно было в этот раз поддержать меня, и помню, что на одном короле бубен, не отгибаясь и поставя кушем полуимпериал, я дал Безобразовым отыграться, а на свою долю выиграл 800 с чем-то рублей; единственный случай, что я остался в выигрыше во всю мою жизнь, хотя несколько раз в молодости играл противу тысячных банков.
А. И. Арнольди.С. 469—470
За свое пребывание в полку Лермонтов не оставил по себе того неприятного впечатления, каким полны отзывы многих сталкивавшихся с ним лиц. Правда, отзывы гродненских офицеров о Лермонтове устанавливали одно общее мнение о язвительности его характера, но это свойство не мешало Лермонтову быть коноводом всех гусарских затей и пирушек и оправдывалось товарищами как одно из проявлений его исключительной натуры.
Ю. Елец.С. 207
…Мы жили с Лермонтовым в двух смежных больших комнатах, разделенных общею переднею, и с ним коротко сошлись. В свободное от службы время, а его было много, Лермонтов очень хорошо писал масляными красками по воспоминанию разные кавказские виды, и у меня хранится до сих пор вид его работы на долину Кубани, с цепью снеговых гор на горизонте, при заходящем солнце и двумя конными фигурами черкесов, а также голова горца, которую он сделал в один присест… Я часто заставал его за работой и живо помню его грызущим перо с досады, что мысли и стих негладко ложатся на бумагу.
А. И. Арнольди.С. 470
В обществе наших полковых дам Лермонтов был скучен и угрюм и, посещая чаще других баронессу Стааль фон Гольштейн, обыкновенно садился в угол и, молча, прислушивался к пению и шуткам общества.
Ю. Елец.С. 207
Бабушка думает, что меня скоро переведут в царскосельские гусары, Бог знает на каком основании подали ей эту надежду, оттого она не соглашается, чтобы я вышел в отставку, что касается меня, то я ровно ни на что не надеюсь.
Лермонтов – М. А. Лопухиной.
15 февраля 1838 г.
Лермонтов пробыл у нас недолго, кажется, несколько месяцев, и по просьбе бабки своей Арсеньевой вскоре переведен был в свой прежний лейб-гусарский полк.
А. И. Арнольди.С. 470
Переведенный в лейб-гусары, Лермонтов не тотчас отправился к месту нового служения, так как 18 апреля подал рапорт о болезни и некоторое время еще оставался при полку.
Ю. Елец.С. 207
Родная бабка его, вдова Гвардии Поручика Арсеньева, огорченная невозможностью беспрерывно видеть его, ибо по старости своей она уже не в состоянии переехать в Новгород, осмеливается всеподданейше повергнуть к стопам Его Императорского Величества просьбу свою, о Всемилостивейшем переводе внука ее Лейб-Гвардии в Гусарский полк, дабы она могла в глубокой старости (ей уже восемьдесят лет), спокойно наслаждаться небольшим остатком жизни и внушать своему внуку правила чистой нравственности и преданность к Монарху, за оказанное уже ему благодеяние.
Принимая живейшее участие в просьбе этой доброй и почтенной старушки и душевно желая содействовать к доставлению ей в престарелых летах сего великого утешения и счастья видеть при себе единственного внука своего, я имею честь покорнейше просить Ваше Сиятельство в особенное, личное мое одолжение испросить у Государя Императора к празднику Св. Пасхи Всемилостивейшее, совершенное прощение корнету Лермонтову, и перевести его Лейб-Гвардии в Гусарский полк.
А. Х. Бенкендорф – Великому князю Михаилу Павловичу.
Цит. по: Лермонтов и Николай I //
Литературная газета. 1959. № 126. 13 окт.
В бытность Лермонтова в нашем полку им были написаны: «Стансы» Мицкевича, переведенные ему с польского корнетом Краснокутским, и экспромт «Русский немец белокурый», по случаю проводов М. Н. Цейдлера на Кавказ. Кроме того, тогда же Лермонтов, недурной художник, написал две картины масляными красками из кавказской жизни: «Черкес» и «Воспоминание о Кавказе». Обе картины и черкесский пояс с набором из черкесского серебра были им подарены А. И. Арнольди.
Ю. Елец.С. 206
Восемнадцатого февраля 1838 года командирован я был в отдельный Кавказский корпус в числе прочих офицеров Гвардейского корпуса для принятия участия в военных действиях против горцев… По пути заехал я в полк проститься с товарищами и покончить с мелкими долгами, присущими всякому офицеру… Товарищи, однако, непременно вздумали устроить, по обычаю, проводы… Меня усадили, как виновника прощальной пирушки, на почетное место, не теряя времени начался ужин, чрезвычайно оживленный. Веселому расположению духа много способствовало то обстоятельство, что товарищ мой и задушевный приятель Михаил Юрьевич Лермонтов, входя в гостиную, устроенную на станции, скомандовал содержателю ее, почтенному толстенькому немцу, Карлу Ивановичу Грау, немедленно вставить во все свободные подсвечники и пустые бутылки свечи и осветить, таким образом, без исключения все окна. Распоряжение Лермонтова встречено было сочувственно, и все в нем приняли участие, вставлялись и зажигались свечи, смех, суета сразу расположили к веселью… Во время ужина тосты и пожелания сопровождались спичами и экспромтами. Один из них, сказанный нашим незабвенным поэтом Михаилом Юрьевичем, спустя долгое время потом, неизвестно кем записанный, попал даже в печать. Экспромт этот имел для меня и отчасти для наших товарищей особенное значение, заключая в конце некоторую, понятную только нам игру слов. Вот он:
Русский немец белокурый
(И т. д.)
М. И. Цейдлер.На Кавказе в 30-х годах //
Русский вестник. 1888. № 9. С. 122
Как и все мы, грешные, Лермонтов вел жизнь свою, участвуя во всех наших кутежах и шалостях, и я помню, как он в дыму табачном, при хлопаньи пробок, на проводах М. И. Цейдлера, отъезжавшего на Кавказ в экспедицию, написал известное:
Русский немец белокурый
Едет в дальнюю страну,
Где неверные гяуры
Вновь затеяли войну;
Едет он, томим печалью,
На кровавый пир войны,
Но иной, небранной, сталью
Мысли юноши полны —
где в словах «не бранной сталью» шутит над бедным Цейдлером, влюбленным по уши в С. Н. Стааль фон Гольштейн, жену нашего полковника.
А. И. Арнольди.С. 470—471
В 1838 году ему разрешено было вернуться в Петербург, а так как талант, а равно и ссылка уже воздвигли ему пьедестал, то свет поспешил его хорошо принять.
Е. П. Ростопчина – А. Дюма
…Покойный государь долго не соглашался перевести его обратно в гвардию в 1837 году. Император разрешил этот перевод исключительно по неотступной просьбе любимца своего, шефа жандармов графа А. X. Бенкендорфа. Граф представил государю отчаяние старушки «бабушки», просил о снисхождении к Лермонтову, как о личной для себя милости, и обещал, что Лермонтов не подаст более поводов к взысканиям с него, и наконец получил желаемое. Это было, если не ошибаюсь, перед праздником рождества 1837 года. Граф сейчас отправился к «бабушке». Перед ней стоял портрет любимого внука. Граф, обращаясь к нему, сказал, не предупреждая ни о чем: «Ну, поздравляю тебя с царскою милостью». Старушка сейчас догадалась, в чем дело, и от радости заплакала. Лермонтова перевели тогда в лейб-гвардии Гусарский полк, стоявший на поселениях, близ Спасской Полести, в Новгородской губернии. Таково было тогда обыкновение: выписанные в армию переводились в гвардейские полки, расположенные вне Петербурга: так, Хвостов, Лермонтов (бывшие лейб-гусары), Тизенгаузен (бывший кавалергард) переведены были в гродненские гусары; Трубецкой, Новосильцев (бывшие кавалергарды) – в кирасиры его величества, квартировавшие в Царском Селе. Впрочем, уже на святой неделе 1838 года Лермонтов опять поступил в Лейб-гусарский полк, где и служил до второй ссылки в 1840 году.
М. Н. Лонгинов 1. С. 388—389
Первые дни после приезда прошли в постоянной беготне: представления, церемонные визиты – вы знаете, да еще каждый день ездил в театр, он хорош, это правда, но мне уж надоел. Вдобавок, меня преследуют все эти милые родственники! Не хотят, чтоб я бросил службу, хотя это мне и было бы можно: ведь те господа, которые вместе со мною поступили в гвардию, теперь уж там не служат.
Лермонтов – М. А. Лопухиной.
15 февраля 1838 г.
Между тем Лермонтов был возвращен с Кавказа, и преисполненный его вдохновениями, принят с большим участием в столице, как бы преемник славы Пушкина, которому принес себя в жертву. На Кавказе было действительно где искать вдохновения: не только чудная красота исполинской его природы, но и дикие нравы его горцев, с которыми кипела жестокая борьба, могли воодушевить великого поэта, даже и с меньшим талантом, нежели Лермонтов, ибо в то время это было единственное место ратных подвигов нашей гвардейской молодежи, и туда были устремлены взоры и мысли высшего светского общества. Юные воители, возвращавшиеся с Кавказа, были принимаемы как герои. Помню, что конногвардеец Глебов, выкупленный из плена горцев, сделался предметом любопытства всей столицы. Одушевленные рассказы Марлинского рисовали Кавказ в самом поэтическом виде, песни и поэмы Лермонтова гремели повсюду. Он поступил опять в лейб-гусары.
А. Н. Муравьев.С. 26
Я пустился в большой свет. В течение месяца на меня была мода, меня наперерыв отбивали друг у друга. Это, по крайней мере, откровенно. Все те, кого я преследовал в своих стихах, окружают меня теперь лестью. Самые хорошенькие женщины добиваются у меня стихов и хвалятся ими, как триумфом. Тем не менее я скучаю. Просился на Кавказ – отказали, не хотят даже, чтобы меня убили.
Лермонтов – М. А. Лопухиной.
Петербург, конец 1838 г.
Известно и ведомо да будет каждому, что мы Михаила Лермонтова, который нам Лейб-Гвардии корнетом служил, за оказанную его в службе нашей ревность и прилежность в наши поручики тысяча восемьсот тридесять девятого года Декабря шестого дня Всемилостивейше пожаловали…
Николай I.
Цит. по: Щеголев П. Е.Книга о Лермонтове. Т. 1. С. 230
…Парады и разводы для военных, придворные балы и выходы для кавалеров и дам, награды в торжественные сроки праздников 6 декабря, в Новый год и в Пасху, производство в гвардейских полках и пожалование девиц во фрейлины, а молодых людей в камер-юнкеры – вот и все, решительно все, чем интересовалось это общество, представителями которого были не Лермонтов и Пушкин, а молодцеватые Скалозубы и всепокорные Молчалины.
А. И. Васильчиков 1
Но этот обретенный мной опыт полезен в том отношении, что дает мне оружие против общества: если оно будет преследовать меня клеветой (а это непременно случится), у меня будет средство отмстить, нигде ведь нет столько пошлого и смешного, как там.
Лермонтов – М. А. Лопухиной.
Петербург, конец 1838 г.
Лермонтов и те немногие из его сверстников и единомышленников, которых рождение обрекло на прозябание в этой холодной среде, сознавали глубоко его пустоту и, не зная куда деться, не находя пищи ни для дела, ни для ума, предавались буйному разгулу, погубившему многих из них, лучшие из офицеров старались вырваться из Михайловского манежа и Красносельского лагеря на Кавказ, а молодые люди, привязанные родственными связями к гвардии и к придворному обществу, составляли группу самых бездарных и бесцветных парадеров и танцоров.
А. И. Васильчиков 1
…Тут могли бы вы также встретить несколько молодых и розовых юношей, военных с тупеями, штатских, причесанных à la russe, скромных подобно наперсникам классической трагедии, недавно представленных высшему обществу каким-нибудь знатным родственником: не успев познакомиться с большею частью дам и страшась, приглашая незнакомую на кадриль или мазурку, встретить один из тех ледяных ужасных взглядов, от которых переворачивается сердце, как у больного при виде черной микстуры, они робкою толпою зрителей окружали блестящие кадрили и ели мороженое. Исключительно танцующие кавалеры могли разделиться на два разряда: одни добросовестно не жалели ни ног, ни языка, танцевали без устали, садились на край стула, обратившись к своей даме, улыбались и кидали значительные взгляды при каждом слове, короче – исполняли свою обязанность как нельзя лучше; другие, люди средних лет, чиновные, заслуженные ветераны общества, с важною осанкой и гордым выражением лица, скользили небрежно по паркету, как бы из милости или снисхождения к хозяйке, и говорили только с дамою своего vis-à-vis, когда встречались с нею, делая фигуру.
Лермонтов.Княгиня Лиговская
Вы знаете, что самый мой большой недостаток – это тщеславие и самолюбие. Было время, когда я в качестве новичка искал доступа в это общество: это мне не удалось, и двери аристократических салонов были закрыты для меня, а теперь в это же самое общество я вхожу уже не как искатель, а как человек, добившийся своих прав. Я возбуждаю любопытство, предо мною заискивают, меня всюду приглашают, а я и вида не подаю, что хочу этого, женщины, желающие, чтобы в их салонах собирались замечательные люди, хотят, чтобы я бывал у них, потому, что я ведь тоже лев, да! я, ваш Мишель, добрый малый, у которого вы и не подозревали гривы. Согласитесь, что все это может опьянить; к счастью, моя природная лень берет верх, и мало-помалу я начинаю находить все это несносным.
Лермонтов – М. А. Лопухиной.
Петербург, конец 1838 г.
С Лермонтовым сблизился я у Карамзиных и был в одно время с ним сотрудником «Отечественных записок». Светское его значение я изобразил под именем Леонина в моей повести «Большой свет», написанной по заказу великой княгини Марии Николаевны.
В. А. Соллогуб 1. С. 377
Леонин был человек слишком ничтожный, чтоб обратить внимание света.
В. А. Соллогуб.Большой свет. Повести и рассказы.
М.: Правда, 1988. С. 153
(Далее цит. как: В. А. Соллогуб 2)
Внимание и дружба, оказываемые ему графиней Мусиной-Пушкиной, и чувство, внушаемое им княгине Щербатовой, рожденной Штерич, возбуждали зависть и выразились особенно рельефно в повести «Большой свет», написанной графом Соллогубом по желанию лиц из высших сфер, а затем и в деле его дуэли с де Барантом.
П. А. Висковатов. С. 281
Кто не испытал нужды, кто не постиг вполне нищенской роскоши половины Петербурга, тому страдания Леонина не будут понятны.
Скромный доход, получаемый им от неутомимых трудов бабушки, далеко не доставал на издержки, о которых она и понятия не имела. Бальные мундиры и военное щегольство, концертные билеты, полученные от почтенных дам, любящих награждать артистов чужими деньгами, наемные кареты, пикники, где мужчины платят, а женщины только кокетничают; зимние катания, где должно щегольнуть санями и лошадьми, лотерейные билеты в пользу бедных – одним словом, все, что показалось бы прежде неслыханным мотовством, при вступлении его в присяжные поклонники модной красавицы сделалось предметом первой необходимости. Бедный Леонин! Тогда познал он нужду, досадливую нужду, которой не знал он до тех пор. В большом свете есть такие вещи, которые нельзя не иметь, скорее сделать дурное дело, скорее украсть, чем остаться без них, скорее умереть со стыда, чем сознаться в своем недостатке! И какими глазами ты будешь смотреть на женщину, которую ты любишь, если она знает, что ты приехал на бал на извозчике за двугривенный, о котором ты торговался; если мундир твой изношен, если перчатки твои нечисты, если где-нибудь в твоей жизни промелькивают лохмотья? Какие старания, какие неусыпные труды должно прикладывать, чтоб скрыть от всех горькую истину и выучиться искусству последнюю копейку ставить ребром! После нужды Леонин познал зависть. И не обидно ли также быть с товарищем одних лет, быть с ним в дружбе – и быть гораздо их беднее? Зависть вкралась в его душу.
После зависти он познал унижение. Он не был то, что называется женихом: матушки с дочерьми на него не глядели. Он вальсировал плохо, его не выбирали. Он не умел себе присвоить выгодное местечко, он не умел напугать своим злоречием. Молодые женщины с ним не кокетничали; его иногда забывали в приглашениях, ему не отдавали визитов, его никогда не звали обедать.
Он все это видел, все понимал, но, по врожденному в человеке чувству, упорствовал, потому что ему хотелось упорствовать.
В. А. Соллогуб 2. С. 129
Соллогуб лично не любил Лермонтова. Он уверял, что поэт ухаживал за всеми красивыми женщинами, в том числе и за его женой.
П. А. Висковатов. С. 291
К повести Соллогуба ты черезчур строг: прекрасная беллетристическая повесть – вот и все. Много истинного и прекрасного и верного в положении, прекрасный рассказ, нет никакой глубокости, мало чувства, много чувствительности, еще больше блеску. Только Сафьев – ложное лицо. А впрочем, славная вещь, Бог с нею! Лермонтов думает так же. Хоть и салонный человек, а его не надуешь – себе на уме.
В. Г. Белинский – В. П. Боткину.
16 апреля 1840 г.
Лермонтов не принадлежал к числу разочарованных, озлобленных поэтов, бичующих слабости и пороки людские из зависти, что не могут насладиться запрещенным плодом; он был вполне человек своего века, герой своего времени; века и времени самых пустых в истории русской гражданственности. Но, живя этой жизнью, к коей все мы, юноши тридцатых годов, были обречены, вращаясь в среде великосветского общества, придавленного и кассированного после катастрофы 14 декабря, он глубоко и горько сознавал его ничтожество и выражал это чувство не только в стихах. «Печально я гляжу на наше поколенье», но и в ежедневных, светских и товарищеских своих сношениях. От этого он был, вообще, нелюбим в кругу своих знакомых в гвардии и в петербургских салонах; при дворе его считали вредным, неблагонамеренным и притом, по фрунту, дурным офицером, и когда его убили, то одна высокопоставленная особа изволила выразиться, «что туда ему и дорога». Все петербургское великосветское общество, махнув рукой, повторило это надгробное слово над храбрым офицером и великим поэтом.
А. И. Васильчиков 1
Внутренне Лермонтов, вероятно, скучал глубоко, он задыхался в тесной сфере, куда его втолкнула судьба. На бале дворянского собрания (происходило оно в конце 1840 года. – Е. Г.) ему не давали покоя, беспрестанно приставали к нему, брали его за руки, одна маска сменялась другою, а он почти не сходил с места и молча слушал их писк, поочередно обращая на них сумрачные глаза. Мне тогда же почудилось, что я уловил на лице его прекрасное выражение поэтического творчества. Быть может, ему приходили в голову те стихи:
Когда касаются холодных рук моих
С небрежной смелостью красавиц городских
Давно бестрепетные руки…
(и т. д.)
И. С. Тургенев.Статьи и воспоминания.
М.: Современник, 1981. С. 231
Я похож на человека, который хотел отведать от всех блюд разом, сытым не наелся, а получил индижестию (несварение желудка. – Е. Г.), которая вдобавок, к несчастью, разрешается стихами.
Лермонтов – А. А. Лопухину.
Петербург, февраль – март 1839 г.
Лермонтов приходил ко мне почти ежедневно после обеда отдохнуть и поболтать. Он не любил говорить о своих литературных занятиях, не любил даже читать своих стихов, но зато охотно рассказывал о своих светских похождениях, сам первый подсмеиваясь над своими любвями и волокитствами.
Н. М. Сатин.С. 252
Но зато дамы… о! дамы были истинным украшением этого бала, как и всех возможных балов!.. сколько блестящих глаз и бриллиантов, сколько розовых уст и розовых лент… чудеса природы и чудеса модной лавки… волшебные маленькие ножки и чудно узкие башмаки, беломраморные плечи и лучшие французские белилы, звучные фразы, заимствованные из модного романа, бриллианты, взятые напрокат из лавки… – я не знаю, но в моих понятиях женщина на бале составляет с своим нарядом нечто целое, нераздельное, особенное; женщина на бале совсем не то, что женщина в своем кабинете; судить о душе и уме женщины, протанцевав с нею мазурку, все равно что судить о мнении журналиста, прочитав одну его статью.
Лермонтов.Княгиня Лиговская
Лермонтов обыкновенно заезжал к Краевскому по утрам (это было в первые годы «Отечественных записок», в сороковом или сорок первом годах) и привозил ему свои новые стихотворения. Входя с шумом в его кабинет, заставленный фантастическими столами, полками и полочками, на которых были аккуратно расставлены и разложены книги, журналы и газеты, Лермонтов подходил к столу, за которым сидел редактор, глубокомысленно погруженный в корректуры, в том алхимическом костюме, о котором я упоминал и покрой которого был снят им у Одоевского, разбрасывал эти корректуры и бумаги по полу и производил страшную кутерьму на столе и в комнате. Однажды он даже опрокинул ученого редактора со стула и заставил его барахтаться на полу в корректурах. Г. Краевскому, при его всегдашней солидности, при его наклонности к порядку и аккуратности, такие шуточки и школьничьи выходки не должны были нравиться, но он поневоле переносил это от великого таланта, с которым был на «ты», и, полуморщась, полуулыбаясь, говорил:
– Ну, полно, полно… перестань, братец, перестань. Экой школьник…
Г. Краевский походил в такие минуты на гетевского Вагнера, а Лермонтов на маленького бесенка, которого Мефистофель мог подсылать к Вагнеру нарочно для того, чтобы смущать его глубокомыслие… Когда ученый приходил в себя, поправлял свои волосы и отряхивал свои одежды, поэт пускался в рассказы о своих светских похождениях, прочитывал свои новые стихи и уезжал. Посещения его всегда были непродолжительны.
И. И. Панаев.С. 135—137
Идя к Грановскому, нарочно захватываю новый № «Отечественных записок», чтоб поделиться с ним наслаждением – и что же? – он предупредил меня: «Какой чудак Лермонтов – стихи гладкие, а в стихах черт знает что – вот хоть его «Три пальмы» – что за дичь!» Что на это было отвечать? Спорить – но я уже потерял охоту спорить, когда нет точек соприкосновения с человеком. Я не спорил, но, как майор Ковалев частному приставу, сказал Грановскому, расставив руки: «Признаюсь, после таких с вашей стороны поступков я ничего не нахожу», – и вышел вон. А между тем этот человек со слезами восторга на глазах слушал «О царе Иване Васильевиче, молодом опричнике и удалом купце Калашникове».
В. Г. Белинский – Н. В. Станкевичу.
29 сентября – 8 октября 1839 г.
Раз утром Лермонтов приехал к г. Краевскому в то время, когда я был у него. Лермонтов привез ему свое стихотворение:
Есть речи – значенье
Темно иль ничтожно…—
прочел его и спросил:
– Ну что, годится?..
– Еще бы! Дивная вещь! – отвечал г. Краевский, – превосходно, но тут есть в одном стихе маленький грамматический промах, неправильность…
– Что такое? – спросил с беспокойством Лермонтов.
– Из пламя и света рожденное слово… Это неправильно, не так, – возразил г. Краевский, – по-настоящему, по грамматике, надо сказать из пламени и света…
– Да если этот пламень не укладывается в стих? Это вздор, ничего, – ведь поэты позволяют себе разные поэтические вольности – и у Пушкина их много… Однако… (Лермонтов на минуту задумался)… дай-ка я попробую переделать этот стих.
Он взял листок со стихами, подошел к высокому фантастическому столу с выемкой, обмакнул перо и задумался.
Так прошло минут пять. Мы молчали.
Наконец Лермонтов бросил с досадой перо и сказал:
– Нет, ничего нейдет в голову. Печатай так, как есть. Сойдет с рук…
И. И. Панаев.С. 136
Из тогдашних разговоров и отзывов о поэме Дмитрий Аркадьевич (Столыпин) припомнил следующее.
– Скажите, Михаил Юрьевич, – спросил поэта князь В. Ф. Одоевский, – с кого вы списали вашего Демона?
– С самого себя, князь, – отвечал шутливо поэт, – неужели вы не узнали?
– Но вы не похожи на такого страшного протестанта и мрачного соблазнителя, – возразил князь недоверчиво.
– Поверьте, князь, – рассмеялся поэт, – я еще хуже моего Демона. – И таким ответом поставил князя в недоумение: верить ли его словам или же смеяться его ироническому ответу. Шутка эта кончилась, однако, всеобщим смехом. Но она дала повод говорить впоследствии, что поэма «Демон» имеет автобиографический характер… Поэму не одобрили В. А. Жуковский и П. А. Плетнев, как говорили, потому что поэт не был у них на поклоне. Князь же Вяземский, князь Одоевский, граф Соллогуб, Белинский и многие другие литераторы хвалили поэму и предсказывали ей большой успех.
П. К. Мартьянов 2. С. 599
Посылайте скорее стихов Аксакова, Павловой, Колюшникова и других. У меня нет стихов. Лермонтов отдал бабам читать своего «Демона», из которого хотел напечатать отрывки, а бабы черт знает куда дели его: а у него уж разумеется, нет чернового, таков мальчик уродился!..
А. А. Краевский – И. И. Панаеву.
10 октября 1839 г.
У Краевского «Демона» читал поэт сам, но не всю поэму, а только некоторые эпизоды, вероятно, вновь написанные. При чтении присутствовало несколько литераторов, и поэму приняли восторженно… В обществе слава поэмы распространилась, когда список с нее был представлен, чрез А. И. Философову, ко двору. Ее стали читать в салонах великосветских дам и в кабинетах сановных меценатов, где она до высылки поэта на Кавказ и пользовалась большим фавором… Но при дворе «Демон» не сыскал особой благосклонности. По словам А. И. Философова, высокие особы, которые удостоили поэму прочтения, отозвались так: «Поэма – слов нет, хороша, но сюжет ее не особенно приятен. Отчего Лермонтов не пишет в стиле Бородина или «Песни про царя Ивана Васильевича»?.. Великий же князь Михаил Павлович, отличавшийся, как известно, остроумием, возвращая поэму, сказал:
– Были у нас итальянский Вельзевул, английский Люцифер, немецкий Мефистофель, теперь явился русский Демон, значит, нечистой силы прибыло. Я только никак не пойму, кто кого создал: Лермонтов ли – духа зла или же дух зла – Лермонтова…
П. К. Мартьянов 2. С. 598—599
В другой раз я застал Лермонтова у г. Краевского в сильном волнении. Он был взбешен за напечатание без его спроса «Казначейши» в «Современнике», издававшемся Плетневым. Он держал тоненькую розовую книжечку «Современника» в руке и покушался было разодрать ее, но г. Краевский не допустил его до этого.
– Это черт знает что такое! позволительно ли делать такие вещи! – говорил Лермонтов, размахивая книжечкою… – Это ни на что не похоже!
Он подсел к столу, взял толстый карандаш и на обертке «Современника», где была напечатана его «Казначейша», набросал какую-то карикатуру.
Вероятно, этот нумер «Современника» сохраняется у г. Краевского в воспоминание о поэте.
И. И. Панаев.С. 136—137
Княгиня М. А. Щербатова после чтения у ней поэмы сказала Лермонтову:
– Мне ваш Демон нравится: я бы хотела с ним опуститься на дно морское и полететь за облака.
А красавица М. И. Соломирская, танцуя с поэтом на одном из балов, говорила:
– Знаете ли, Лермонтов, я вашим Демоном увлекаюсь… Его клятвы обаятельны до восторга… Мне кажется, я могла бы полюбить такое могучее, властное и гордое существо, веря от души, что в любви, как в злобе, он был бы действительно неизменен и велик.
П. К. Мартьянов 2. С. 599
Недолго суждено было Лермонтову пользоваться своею славой и наслаждаться блестящим обществом столицы. По своему заносчивому характеру он имел неприятность с сыном французского посла, которая должна была кончиться дуэлью, и, для того чтобы развести соперников, молодого Баранта отправили в Париж, а молодого Лермонтова опять на Кавказ, с переводом в армейский полк.
А. Н. Муравьев.С. 27
…Спор о смерти Пушкина был причиною столкновения между ним и г. де Барантом, сыном французского посланника.