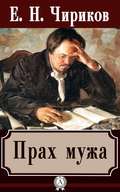Евгений Чириков
Отчий дом
Глава XXIII
Трудна была роль помещика Павлу Николаевичу Кудышеву. Нельзя сказать, чтобы он был плохим хозяином. Были у него и знания, и опыт, и инициатива, было и широкое поле для развертывания этих положительных качеств. Не было главного, на чем держится хозяйственное равновесие: терпения и способности к спокойному и равномерному расходованию своей энергии. Есть такие лошади: круто берут с места и норовят всех обогнать, а потому и в гору не хотят смириться и идти шагом, и быстро истрачивают свою силу и теряют охоту бежать. Всякое дело Павел Николаевич начинал рьяно, но первая же неудача его расхолаживала, и он терял интерес к нему. Мешали ему еще и интеллигентские добродетели, вечно пребывающие в противоречии с добродетелями хорошего помещика-хозяина. «Ни Богу свечка ни черту кочерга!» – смеялся он порой над самим собою. Затевал разные новшества, производил опыты: разведение племенного скота, травосеяние, картофельный завод, но ничто не ладилось. Скот подыхал от плохого ухода деревенского пастуха, мешал свою породистую кровь с демократической; клевер воровали, топтали скотиной и уничтожали «потравами» мимоезжие крестьяне; крахмальный завод постоянно ломался и вместо исчисленного на бумаге барыша давал убыток. Бросал:
– С таким народом ничего невозможно, – говорил он. – Нет в служащих и в рабочих ни сознания долга, ни умения, ни желания добросовестно трудиться над чужой землей. Никакими земскими начальниками не втолкнуть в него, что идея прав неразрывна с идеей обязанностей. И притом у него весьма примитивные понятия о собственности. Нет честности труда. А у меня нет в распоряжении оборотного капитала, чтобы все побороть и поставить на крепкую дисциплинированную основу.
Относительно «оборотного капитала» Павел Николаевич, конечно, был прав: развертываться с размахом, как бы ему хотелось, было невозможно. Но дело в том, что у него еще не было способности «рубить дерево по плечу». Что дерево не по плечу – он никогда не предвидел. Эта печальная истина постигалась всегда поздно. Другие помещики ухитрялись по годам не платить налогов, отсрочивать уплату процентов по закладным, выклянчивать отсрочки, ссуды, какие-то субсидии на несуществующие предприятия. Павел Николаевич не умел, да и не хотел этого. Не любил клянчить и унижаться, показывать свое денежное неблагополучие даже родственникам, а главное – в нем жила особая гражданская добродетель: деликатность к интересам казны и сознание законности, совершенно неразвитое в большинстве помещиков, мало отличавшихся в этом отношении от крестьян. «У нас признают и держатся за закон только в тех случаях, когда он оказывается выгодным самому себе», – сетовал часто Павел Николаевич. А бывали и такие огорчительные минуты, когда он и вообще о законах в России выражался саркастически, повторяя пушкинское:
В России нет закона.
А столб, и на столбе корона!
И вот частенько бывали дни, когда Павел Николаевич впадал в помещичье отчаяние, хватался за голову и кричал:
– Возьмите от меня бразды правления и дайте мне отдохнуть от этой каторги!
А мать при слове «каторга» сейчас же вспоминала несчастных отнятых детей, Митю и Гришу, и озабоченно, со вздохом, спрашивала:
– А не пора ли уже послать денег в тюрьму и каторгу?
Павел Николаевич раздражался еще более:
– Что у меня, крахмальный завод или фабрика фальшивых денег? Я сам с удовольствием сел бы в тюрьму, согласился бы на ссылку к чертям на кулички, если бы кто-нибудь взял на себя обязанность получать доход с нашего Монрепо и снабжать меня ни к чему не обязывающей пенсией!
– И не грех тебе, Павел, говорить такое про несчастных братьев? Мы с тобой живем, слава Богу; а они несут тяжелый крест!
– Я сам сидел в тюрьме, мама, и чувствовал себя героем, а вас с отцом, как теперь Дмитрий с Григорием – меня, считал эксплуататорами народа.
Тут Павел Николаевич колотил себя кулаком в грудь:
– Если я и согласился играть роль помещика, так только для вас и для наших героев. С нетерпением жду их возвращения: милости прошу попробовать управлять имением и оставаться в геройских светлых ризах!
Так повторялось в различных вариациях всякий раз, когда приходил срок высылки братьям денег, которых не было. И однажды произошла сильно драматическая сцена. Только что Павел Николаевич схватился за голову и начал иронизировать насчет пенсии героям, как мать подала ему письмо от Григория. Он прочитал и, покрасневши до ушей, замолчал. А в письме было написано:
Милостью Божией я здоров и ни на что не могу пожаловаться. Благодарю за денежную помощь. Она не нужна мне. Я считаю своим нравственным долгом жить не лучше, чем живут другие. Все мои удовольствия здесь денег не требуют, а в питании я, как вы знаете, нетребователен, и всегда сыт. Всем низко кланяюсь и прошу не жалеть меня и не беспокоиться о моей судьбе: моя совесть спокойна, а это главное для души человека.
Григорий Кудышев.
– Точно почувствовал Гришенька твои упреки, – прошептала Анна Михайловна и, заплакав, вышла из кабинета, оставивши растерявшегося Павла Николаевича.
Ему сделалось стыдно. Взял брошенное на столе письмо, рассматривал со всех сторон: штемпель «Просмотрено», начальные слова «Милостью Божией» почему-то зачеркнуты красными чернилами, но прочитать их легко.
Странное письмо. Аскетическое. Не видно, чтобы Григорий чувствовал себя героем, как это проскальзывает в письме, полученном с дороги от Дмитрия.
Елена Владимировна в таких неприятных случаях выдерживала нейтралитет. Она до болезненности боялась всяких семейных ссор и дрязг, денежных подсчетов и недоразумений. Ей противно было, например, пересчитать принесенную прислугой сдачу, брать расписки. Она чувствовала брезгливость к деньгам и совсем не знала им цены. Не любила крика и вообще повышенного разговора, а редкие ссоры Малявочки с матерью из-за денег и хозяйственных дел приводили ее в отчаяние. В этих случаях она или убегала в парк к детям, или затворялась в зале и гремела на фортепиано, заглушая Бетховеном или Мендельсоном все противные мелочи жизни. Она словно берегла свою душу от всего некрасивого, избегала грубых слов и движений. Когда муж приходил с поля или двора, она морщила свой тонкий изящный носик:
– Вот тебе мыло и одеколон. От тебя, Малявочка, мужиком пахнет…
– А что такое помещик? Тот же мужик, только с образованием повыше…
Павла Николаевича всегда раздражало в жене это подчеркивание своей белой кости.
– Помещик, Елена Владимировна, есть не что иное, как культурный мужик. Все люди, милая, родятся голыми. Ничего унижающего человеческое достоинство в слове «мужик» нет. Мужик значит собственно – муж. Поэтому бабы и называют своих мужей – «мой мужик»…
– Ну, хорошо, хорошо. Я тоже буду называть тебя своим мужиком. А все-таки бери мыло и одеколон и иди умываться и переодеваться. Лучше, если только в твоем кабинете будет пахнуть лошадьми и коровами!
Павел Николаевич не оставался в долгу:
– Это в тебе замураевская порода говорит, замураевская дворянская спесь и чванство.
Так говорилось по кодексу либерализма, а чувствовалось совсем по-другому.
Втайне Павлу Николаевичу был мил прирожденный аристократизм, породистость жены, ее изощренность чувств и восприятий, ее устремленность ко всяческой красоте. Правда, эти достоинства часто воплощались в невинную наивность, но это только смешило и радовало Павла Николаевича. В этом он находил, как некогда в сказке, отдых от утомляющей здравой реальности, от докучливых будничных забот, это помогало вылезать из железного круга дней, в которых было столько здравых и скучных повторений. Вернется иногда домой утомленный, рассерженный неудачами или мужицкой глупостью и недобросовестностью, промокший от осеннего дождя, грязный, всклокоченный, а в зале – празднично, культурно, уютно. Там скучные сумерки дня прогнаны лампами под цветными абажурами, грязная осень – комнатными растениями, серость крестьянских одежд – нарядностью и чистотой, изяществом костюмов жены, Сашеньки, детей. Там какой-то особенный аромат культурного общества. Вместо мычания коров и блеянья овец гремит фортепиано.
– А! Мой мужик пришел! Сашенька, дайте ему одеколон и душистое мыло!
И вот преобразившийся мужик блаженствует.
– Хочешь, спою твое любимое?
И красивая изящная женщина поет:
Мне минуло шестнадцать лет,
Шестнадцать лет мне было…
«Милая, – думает Павел Николаевич, глядя на жену, – да тебе и сейчас не больше шестнадцати лет!» Засмотрится, залюбуется, загордится. С улыбкой вспомнит «Птичку Божию», и сразу, словно дым под ветром, сдунет всю слякоть настроения.
Даже в печальную Сашеньку Елена Владимировна вошла своей беспечной радостью, приветливостью к жизни и людям, чистотой и красотой своих порывов к красоте жизни. Сашенька вылезла уже из монашеского одеяния, стала принаряживаться, смеяться, интересоваться людьми. Тетя Маша не знает как и благодарить Елену Владимировну, называет ее волшебницей. Ведь Сашенька и про монастырь теперь уже не говорит, а нет-нет да пококетничает с молодым заезжим гостем, каким-нибудь земским статистиком или страховым агентом земства.
Теперь уездная интеллигенция уже совсем перестала бояться, и гости сделались совсем не редкостью. Даже алатырский исправник решился лично, мимоездом, навестить почтенную Анну Михайловну. Повадился вновь испеченный земский начальник, брат Елены Владимировны, Николай Владимирович Замураев. Не Сашенька ли тут причиной? Павел Николаевич его недолюбливает и даже не уважает. Таких оболтусов назначают опекать мужика! Из гимназии вылетел за преждевременное «пробуждение весны» – соблазнил директорскую горничную и сделался в восемнадцать лет отцом незаконного младенца, подкинутого купцу Ананькину в Симбирске…
Продолжает носить военную форму и шпоры, штаны в обтяжку, того и гляди, что лопнут, картавит, гнусавит, пестрит свою речь французскими инкрустациями, командует мужиками, как ротный – солдатами, заявляет, что никаких законов не изучал и не будет изучать: лучше, чем изучать, по какой статье мужика посадить под арест, дать ему несколько раз по морде – это выгоднее для мужика и для государства.
Павел Николаевич привык не любить военных вообще. Это осталось в нем от былой интеллигентской революционности: «война – зло, солдаты – пушечное мясо, офицеры – привилегированная каста бесполезных членов общества». Но этого своего родственника презирал вдвойне: он еще и земский начальник! «И это на правительственном языке называется отеческой, близкой к народу властью», – думал он, глядя на этого Нарцисса, незаметно поглядывавшего на себя и свою прическу в маленькое карманное зеркальце.
Но когда этот земский начальник пел арии из опер и чувствительные романсы, Павел Николаевич все прощал ему и удивлялся: этот аристократический лоботряс, как мысленно называл его Павел Николаевич, словно перерождался, умнел, облагораживался…
– В опере, Николай, ты был бы более на месте, чем в земских начальниках!
Когда кончилась помещичья страда и деревенскую Русь завалило белыми сугробами, когда над оснеженными полями и лесами воцарился молчаливый похрустывающий лаптями Дедушка Мороз и единственной связью с культурным миром в доме сделались «Русские ведомости» и «Русское богатство», которые читались оптом и в розницу, – всякая пара или тройка с колокольчиками, подъехавшая к воротам, рождала радость новизны и оживление. Еще не знали, кто там в санях, а уже в доме шла суматоха: гости приехали! Тут всякому заезжему человеку обрадуешься. И какая же радость бывала в доме, когда сразу подъезжали две тройки, полные гостями, когда в числе вылезавших из подкативших к крыльцу саней через окно узнавали Ваню Ананькина со скрипкой в футляре, земского начальника Замураева с виолончелью и Зиночку с папкой нот! Это значит – сегодня будет музыкальный вечер, похожий на концерт, какие бывают там, далеко, за долами за лесами, в горящих огнями городах, где живут культурные просвещенные люди. И еще увеличивалась общая радость, когда в числе гостей узнавали заезжего из Симбирска Дмитрия Николаевича Садовникова, признанного уже и печатавшегося в журналах поэта, певца Волги. Значит, и литературное отделение будет! Это Ваня Ананькин привез с собой из Симбирска поэта Садовникова сперва в Замураевку, куда притягивает его Зиночка, которую он тайно любит уже третий год и все не осмеливается сделать предложение, а теперь все гуртом вздумали махнуть на троечках к Кудышевым. Любит Ваня колобродить. Он не только со скрипкой путешествует – из его саней целую корзину в кухню принесли: вина, закуски, фрукты. Так кстати: ничего здесь вкусненького не достанешь.
– Мамаша, – шепчет Ваня кухарке, – ты бы нам к ужину поросеночка жареного, чтобы корочка на зубах хрустела… Я уж сам посмотрю тут: надо, чтобы корочка была в самую точку…
Ваня всегда точно навеселе. От молодости, здоровья и близости любимой девушки. Не для себя он про поросеночка заговорил. Знает, что Зиночке поросеночек нравится. Ей угодить.
Пошла кухарка тормошиться: есть поросята, да барин их бережет. Побежала к барину: как быть, гость, которого Ваней зовут, поросенка требует. На мгновение Павел Николаевич нахмурился: поросята есть, да породистые, на племя оставлены. Однако радость гостям побеждает в нем хозяйственный интерес:
– А, все равно! Вели заколоть одного… Впрочем, двух надо – народу много. Только боровков берите! Избави Бог, самочек трогать!
И вот среди снегов, среди пустыни, засыпанной сугробами, из которых чуть выглядывают деревни, как горсточки рассыпанной кем-то кучками соломы, среди беззвучной зимней ночи, сияющей далекими звездами и сверкающей синими огоньками снежного инея, вдруг появляется чертог, празднично залитый огнями, а в чертоге нарядные люди нездешнего мира, говорящие на своем изысканном языке, поющие свои непонятные песни, танцующие свои замысловатые танцы, шумные, радостные, смеющиеся.
Любопытно на них хоть в щелочку посмотреть. Дворня либо придумает предлог зайти в кухню, либо в окошки подглядывает. К дворовым из деревни будто по делам бабы зашли, а тоже на господ поглядеть, узнать, не свадьба ли заехала, потому что ряженым рано: пост еще. Исподволь, потихоньку да помаленьку полная кухня набилась. Осмелели и дальше лезут: из передней выглядывают. А господа за столом отпировали, и теперь все в залу перешли…
Непонятно, а складно поют… то в одиночку, то парами, а то и втроем…
А господа даже не замечают, что полна передняя незваных гостей.
Елена Владимировна спела «Мне минуло шестнадцать лет» Даргомыжского, «Средь шумного бала» Чайковского и раскраснелась от дружных аплодисментов. Ваня потрясен: романс-то больно к его чувствам подошел. Потом земский начальник «Вы мне писали» пропел из «Евгения Онегина», потом «Смейся, паяц!» фурор в зале произвел, а бабы в передней перепугались, некоторые из передней в кухню перебегли и шепчут кухарке: «Сперва я думала, ругаться и кричать на кого стал, а потом как захохочет! У меня так сердечко и упало…» Пели дуэты: «Не искушай меня без нужды», из «Пиковой дамы» пастораль, «На севере диком», Ваня сыграл мазурку Венявского. Потом упросили поэта продекламировать свои стихи. Он сперва прочитал свое любимое – про Стеньку Разина: «Из-за острова на стрежень, на простор речной волны, выплывают расписные Стеньки Разина челны», потом на бис:
Я пришел посланником свободы
Вас спасти от вражеского гнета.
Серп готов, давно созрели всходы.
Впереди – кровавая работа!..
Анна Михайловна встала и ушла. Она поняла по-своему эти стихи, обращенные вовсе не к сидевшей в зале публике, а к черногорцам от имени Степана Малого, который в 1767 году пытался поднять их против турок-угнетателей. Анна Михайловна подумала о цареубийцах, вспомнила Дмитрия и Гришу.
Внизу играли тихо: Зиночка на фортепиано, Ваня на скрипке, а земский начальник на виолончели. Когда заиграли «Уймитесь, волнения страсти» Глинки, Анна Михайловна сидела на антресолях в старом кресле и плакала…
Конечно, гостей не отпустили и оставили ночевать. Куда ехать, когда уже третий час ночи, а на дворе метелица? Разбрелись по своим местам, но долго не могли заснуть: взбудоражили души музыкой, вином и разговорами.
Поэта Павел Николаевич с собой, в кабинете на диване положил. Поговорить со свежим человеком хотелось: Садовников недавно был в Петербурге по литературным делам, потом в Казань заезжал. Знал, что на свете делается. Поэт революционером не был, но настроен был революционно.
– Жив, жив курилка! – говорил он, сверкая в темноте огоньком папиросы. – Это нам, в глуши, в медвежьих углах кажется, что всю Русь они мертвой водой спрыснули и что все высокие идеи и идеалы в могилу закопали и осиновый кол вбили. Они вогнали только все революционные болячки внутрь. Вот нам и не видать в провинции-то. Будто бы тишь да гладь да охранная благодать. А в действительности далеко не так благополучно…
И гость стал рассказывать: снова беспорядки по всем университетам покатились. Министр народного просвещения глупый циркуляр выпустил, в котором заявил, что гимназии и университеты предназначены не для кухаркиных детей! Наша чуткая к несправедливости молодежь ответила беспорядками и плюхами. И в Казани были беспорядки – и в университете, и в ветеринарном институте, и в духовной академии. «Между прочим, исключены и высланы и наши симбирцы!» – не без гордости заметил гость.
– Кто же?
– Наши общие знакомые: Елевферий Крестовоздвиженский и Ульянов, брат повешенного. И ведь как глупо кидаются на людей. Я видел обоих: Владимир Ульянов не принимал никакого участия в беспорядках. Этот философ изобретает новую идеологию борьбы. Прочитал Карла Маркса и помешался. А Крестовоздвиженский хотя на сходке и был, но, как я заключаю из его личных объяснений, не возбуждал студентов, а говорил о бесполезности террора и беспорядков, призывал взять знаменем образ Нерукотворенного Спаса! Оба свихнулись… Ульянов в Марксе Архимедову точку опоры открыл…
Павел Николаевич вспомнил изобретенную Елевферием «схему», и они проболтали до свету.
Глава XXIV
А уезжали гости, и снова тянулись деревенские будни с их деревенской бестолковщиной.
Перед Рождеством снова всплыла старая история с придуманной на свою голову Павлом Николаевичем «мирской баней».
С наступлением зимы дело с баней как будто бы двинулось. Начали ее ставить. Нарубили дарового барского лесу и поставили срубы. А потом бросили работу: повздорили о чем-то и отложили. А когда решили продолжать, так остановка вышла: заготовленного с разрешения барина леса не хватило. Оказалось, что сами мужики лес-то разворовали. Пришли выборные к Павлу Николаевичу: разреши еще порубить. Рассердился Павел Николаевич, узнавши, что лес разворован, но смилостивился и решил дать еще партию: в деревне от грязи ребята чесоткой болели.
Прошло две недели, опять пришли просить лесу. Теперь не свои, а зареченские мужики нарубленный лес по своим дворам развезли.
– Не вам одним барским лесом пользоваться, – кричали они, ссорясь с никудышевскими. – Мы тоже покойного барина крепостные были, стало быть, тоже свои права имеем!
Когда свои мужики пришли жаловаться на заречных и барин назвал сгоряча мужиков ворами, один из пришедших обиделся:
– Никакого воровства не было, а обидно, конешно: одним дал, а другим нет ничего.
– Как нет воровства? Да если я заявлю земскому начальнику, так вас за кражу судить будут!
– А ты, ваше сиятельство, пойми! Как мы, так и зареченские в стары годы одним господам, стало быть, дедам твоим, служили.
– Ну!
– А ты, стало быть, неправильно поступил: одни получили, а другим – ничего. Вот они, зареченские, и бают: поровну надо. Вы, дескать, в срубе двадцать венцов имеете, кажный по четыре бревна, всего, стало быть, выходит восемьдесят бревен. Мы, бают, увезли всего тридцать шесть дерев. Выходит у них, что им еще сорок четыре дерева надо с тебя получить… Вот как, а не воры…
Мужик говорил это таким тоном, словно и сам был в числе воров. Сперва рассмешило Павла Николаевича, а потом взорвало:
– Уходите! Ко всем чертям!
Старик обиделся:
– Как же так теперь, ваше сиятельство, это самое выходит? К чертям посылашь! Сам ты нам с этой баней навязался, мы тебя послушали, сколько трудов положили на это дело: и лес рубили и возили его за пятнадцать верст, и сруб поставили, а теперь – подите к чертям?
– Идите с Богом! Ваши воры так обленились, что подай им срубленное дерево. Наплевать мне, коли своей же пользы не понимаете…
– Мы, ваше сиятельство, завсегда Бога помним, а вот ты все черта поминашь! Грех так-то… По правде надо…
Мужики ушли с обидой. Потом Павел Николаевич узнал, что и сруба на месте нет: пустили в жеребьевку и тоже развезли по своим дворам.
Вот как-то раз поймал на барском дворе Павла Николаевича озорной мужичонка, по батракам ходит, бобылек, Лукашка шестипалый, и прицепился: какие-то деньги с барина требует.
– Я пять суток дерева рубил, а ни копейки не получил!
– За какие дерева? Кто тебя нанимал? Когда?
Дело объяснилось: Лукашка рубил лес для бани.
– С кого я должен теперь за убытки получить?
Вся дворня покатывалась со смеху. Лукашка сам по себе комик, а тут еще выпимши!
– Никудышеские мужики не хотят платить, потому что срубленные дерева украли зареченские, а зареченские – иди к тому, с кем рядился. Кто же, окромя тебя, должен заплатить? Больше некому. Твой лес-то.
И Лукашку Павел Николаевич к чертям послал. Повернулся и ушел. А дворня давай пьяненького Лукашку подзадоривать:
– А ты, Лукаша, к земскому жалобу на барина подай!
А Лукашка куражился и убытки высчитывал:
– Я по-божески требую: пять ден рубил, по четвертаку на своих харчах, – и всего-то – рупь с четвертаком.
– А в бане мылся?
И снова раздался дружный хохот. Иван Кудряшёв хорошо шутит, да и Никита прибавляет:
– Ты бы догадался лесом получить. Спер бы бревна два – и квиты!
Идет обратно Павел Николаевич, а на дворе Лукашка народ потешает.
– Что тут такое?
– Медведь на пляске! Вот Лукашка убытки требует…
– Я ему уже сказал, чтобы к чертям убирался.
– Иди, Лукашка. Нехорошо. Барин обижается…
– Вы скажите, православные, с кого же я, бедный человек, должен за свой труд награжденье получить?
– А ты иди, иди! На том святу все получишь, – говорит Никита, ласково выпроваживая со двора Лукашку.
– Спокаешься, барин, что бедного человека обсчитал! Получишь от меня свое!
В голосе полупьяненького прозвенела угроза. А что может удержать этого идиота: возьмет да подпалит хлебный амбар.
Павел Николаевич сунул Кудряшёву Ивану целковый:
– Догони дурака и дай ему целковый на похмелье!
А что же делать? Жаловаться на всякую мелочь начальству? И кому? Колечке Замураеву? Это и противно, да и смешно: точно взрослый подрался с маленьким. Долго ходил в кабинете, недовольный сам собою: зачем дал этому пьяному лентяю и нахалу рубль? Испугался? Но ведь этим только больше портишь и затемняешь мужицкое правосознание! Лукашка, наверное, убедился, что его иск к барину направлен правильно. Потом оправдывался перед собой: пока народное правосознание не введено в русло всесословного закона, пока мужика не сделают равноправным со всеми прочими сословиями, он будет пребывать в правосознании своем не выше Лукашки.
Кудряшёв рассказал потом Павлу Николаевичу, что, получив рубль, Лукашка продолжал ругаться:
– Обсчитал, говорит, на целый четвертак.
Никита вздохнул и сказал:
– Надо уж было, ваше сиятельство, не удерживать, а сполна отдать!
Павел Николаевич опять расхохотался: так удивило его сожаление Никиты.
Откуда у него это? Из каких посылок юридических? Стал с Никитой разговаривать дальше. Оказалось, что в мужицких юридических абсурдах есть и своя чисто мужицкая логика. Дело оказалось весьма сложным. Вот как толковал Никита:
– Все мужики, которые околь бани работали, бревнами свою плату получили, а Лукашке не дали. А почему не дали? Лукашка еще допрежде бани из барского, то есть вашей милости, лесу, не во гнев вашему сиятельству, два дерева для себя срубил…
– Украл?
– Ну, уж это как хошь зови… А он, Лукашка, оправдался: эти два дерева не рубил, дескать, в барском лесу, а отбил у зареченских мужиков, когда они лес на баню к себе волокли. Значит, его счастие. За эти, говорит, дерева он, Лукашка то есть, в драке полбороды лишился. Значит, правду сказал, что за свой труд, за порубку-то, ни с кого не получил, ни деньгами, ни бревнами…
А кончилось все это глупое предприятие по сооружению мирской бани очень неприятно и неожиданно для Павла Николаевича.
Никита возил старую барыню в церковь и все рассказал ей про неудачу с баней и про Лукашку, который за недоданный четвертак угрозу сделал.
Анна Михайловна возмутилась, что Павел Николаевич лес разрешает рубить, а главное, не только оставил угрозу Лукашки безнаказанной, а даже еще за нее и рубль подарил. И при первом же свидании с земским начальником Замураевым все ему рассказала и попросила вразумить мерзавца Лукашку…
Земский не только Лукашке морду набил, но еще на трое суток на хлеб и воду в темную посадил.
А в ночь под Рождество у Кудышевых в лугах сенницу с сеном кто-то запалил. Павел Николаевич был убежден, что это дело Лукашки, но никаких улик не было. Следы пурга замела.
Снова ссора с матерью:
– Зачем ты вмешала в мои отношения с крестьянами этого дурака?
– Какого это дурака?
– Замураевского болвана! Если ты еще раз обратишься к нему с жалобами на мужиков, я брошу дело. Управляй сама! Сегодня подожгли сенницы, а завтра подожгут дом или хлебный амбар… Пойми, что услужливый дурак опаснее врага! Эти господа забывают, что крепостное право миновало…
Под «господами» Павел Николаевич подразумевает своего тестя, генерала Замураева, избранного в уездные предводители, его сынка, земского начальника, и всю «замураевскую партию», победившую на последних дворянских выборах.
«Наше русское несчастие: нет умеренного прогрессивного центра. На одном конце революционеры, утописты, фанатики, на другом – закоснелые в старине бегемоты столбового дворянства, а в середине – пусто», – жаловался Павел Николаевич, отводя душу в разговоре с каким-нибудь заезжим служилым интеллигентом прогрессивного образа мыслей, и начинал жестоко критиковать внутреннюю политику, особенно же институт земских начальников, которые все казались Павлу Николаевичу похожими на родственничка, Николая Замураева. Впрочем, тут Павел Николаевич выражал лишь прогрессивное общественное мнение, которое мало интересовало теперь правительство.
Прогрессисты-либералы считали институт земских начальников оскорблением суда и освободительных реформ прошлого царствования. Нельзя сказать, чтобы не было к этому оснований. В земские начальники шли по преимуществу захудалые дворяне, часто из современных «Митрофанушек». Шли как на приличное кормление. Все они были давно уже оскорблены в своих дворянских чувствах своей бедностью и ничтожностью, а потому с необыкновенным пылом принимались за исправление «испорченного» разными вольностями мужика и за поднятие престижа дворянина-помещика. Пробовали идти в земские начальники и интеллигенты-университанты с туманным славянофильским настроением, наивно думавшие, что как раз вот такие люди и требуются для воспитательной миссии среди народа. Но такие идейные друзья народа очень быстро вступали в конфликты с дворянскими бегемотами и убирались с мест. Зато прочно себя чувствовали вот такие, как Николай Замураев, изумлявший мирок ученых юристов своими мудрыми распоряжениями и решениями. Один воспретит петь песни и играть на гармошке после восьми часов вечера, другой станет штрафовать за скверную привычку народа – матерщинничать, оставляя это право исключительно за собой, третий арестует весь мирской сход.
Николай Замураев в этом отношении прославился еще прошлым летом. Он сделал распоряжение по своему участку, чтобы в каждой бесцерковной деревушке был поставлен жителями столб, а на столбе висел колокол для тревог в случае пожара – набат бить. В его участке было немало татарских и черемисских деревень. Колокол был ими воспринят как тайное намерение властей обратить население в христианскую веру. Вышли беспорядки с сопротивлением властям, и в своем донесении губернатору Замураев назвал их почему-то «аграрными». Павел Николаевич напечатал об этой смешной истории в «Русских ведомостях», и Замураев сделался знаменитым.
Втайне земский начальник был убежден, что корреспонденция о нем – дело рук Павла Николаевича, и обратил особенное внимание на исправление никудышевского населения, развращаемого «вольнодумцем».
А мать Павла Николаевича тайно помогала в этом своему родственному земскому начальнику. В своей Замураевке земский начальник чувствовал себя губернатором: не свернет мужик вовремя с дороги – нагайкой! Не снимет шапки перед господами – нагайкой! Сгрубит – на трое суток под арест. Обругается скверным словом – по морде! Заберет мужик у помещика задаток под жнитво или косьбу, да не придет на работы – выпороть! Права на это земскому начальнику не дано, но стоит только внушительно посоветовать волостному суду и там выпорют на законном основании. И общественные сходы, и волостные суды, формально совершенно самостоятельные, фактически очутились под опекой земских начальников. А ведь общественный приговор мог любого члена общины, как зловредного, сослать в Сибирь на поселение. Как же было не трепетать мужикам и бабам перед замураевскими господами?
И в Замураевке трепетали. А теперь начали трепетать и в Никудышевке. Если земский не приезжал часто в Никудышевку для исправления избалованного Павлом Николаевичем народа, побаиваясь бывавших уже стычек с либералом и семейных неприятностей, то вызывал провинившихся в свою камеру и воспитывал. А все неприятности свои от земского никудышевские крестьяне не умели отделять от своего барского дома. Бабы приходили к Павлу Николаевичу жаловаться на его сродственника, барыниного брата, падали в ноги и умоляли простить провинившегося в чем-то мужа, а Павел Николаевич никак не мог растолковать бабе, что хотя земский ему и родственник, но сделать все-таки ничего не может, потому что ему земский не подчинен.
– Чай, ты постарше его… Скажи, чтобы не озоровал. Должен старшого послушать.
Ловили молодую барыню, плакали и просили заставить братца родного отменить арест. Иногда растроганной Елене Владимировне и удавалось упросить братца Коленьку снять с мужика наказание, но это только сильнее укрепляло мужицкое убеждение, что наказания земского накладываются не без ведома и желания никудышевских господ:
– Они все друг за дружку держатся…
Когда Елене Владимировне не удавалось отстоять и она об этом сообщала бабе, та, хлюпая носом, говорила:
– На все ваша господская воля!