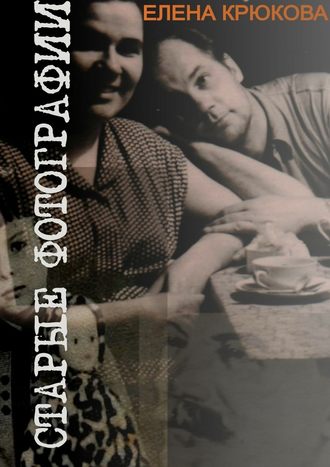
Елена Крюкова
Старые фотографии
И она все, все тебе простит.
Коротай соленое время, моряк, в обнимку с гитарой!
Пой песни, что любил до войны!
Крюков нежно перебирал гитарные струны и пел тихим, нежным тенорком:
― Саша, ты помнишь наши встречи
В приморском парке, на берегу?
Моряки подпевали.
Больше любили суровые, военные.
Среди военных песен и веселые попадались.
«Три танкиста, три веселых друга,
Экипаж машины боевой!»
А то ударит Крюков по струнам, зарокочут они, и все примолкнут, а потом дружно подхватят – и с мест встанут, вскочат, в голосах – крепь металла, звон боли:
― Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!
Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна…
Коля не щадил струны, не жалел, бил по ним скрюченными жесткими пальцами, кожу в кровь рвал.
― Идет война народная,
Священная война!
Командир Гидулянов в кают-компании на смешной, детской скрипочке играл. Сам низкорослый, плотный, кряжистый, руки большие, башка как тыква, ― скрипчонка в ручищах лаковой дамской брошкой глядится. Смычок взлетает, режет воздух, прокалывает дым табачный. В кают-компании разрешено курить. А вот пить – нет, не дозволено.
Курят все. Смолят нещадно. И Гидулянов, сыграв жалобную украинскую песню «Дывлюсь я на нэбо тай думку гадаю», выкуривает жадно, радостно корявую, мятую «беломорину». Жалкая щепотка пепла – от всей радости мужицкой. И снова – скрипку в руки, и кричат моряки:
– Командир! Полонез Огиньского вжарь!
И играет Гидулянов краснофлотцам полонез Михала Клеофаса Огиньского, давно уже ставший слезной и любимой русской музыкой; да какая разница, русский, хохол, поляк? Прощание с родиной – оно одно на всех.
А их Родина где?
А оставили они ее за спиной. За плечами.
И вот теперь защищают.
«Русский, немец и поляк танцевали краковяк… А ведь когда-то и с немцами дружили! И тельмановцы – нам в школу марьевскую – письма присылали! И что? Перегрызлись народы? Где же их коммунисты? В Америку драпанули?»
Командир играет полонез Огиньского, прижав скрипку к подбородку, наклонив любовно, страстно небритую щеку – к вишневой блесткой деке. Дышит тяжело. Воздух ноздрями ловит. Крюков слушает музыку. Крюков – от музыки – плачет. Сначала внутри, сердцем; потом слезы пробиваются наружу, и он отворачивает голову – от матросов стыдно.
Горячие стыдные слезы капают на гитару. Затекают в круглую дыру в деке. Ленинградский мастер Штейнер, спасибо тебе! Хорошую ты Крюкову гитару сделал, на заказ, и не за плату, а за искусную игру: тебе просто нравилось, как светловолосый румяный юноша на гитаре играет, ты понимал – музыкант пропадает, а может быть, еще только родится. «Молодой человек, вы прирожденный гитарист! И голос у вас – очень даже, очень! Все может быть у вас роскошно, слышите вы меня, старика? Рос-кош-но! Ежели вы будете умником… и не прожжете жизнь свою, не прокурите, не пропьете… Ну, да это вам не грозит, вы же дисциплинированный… военный… у вас – вос-пи-та-ни-е…»
Лысый Штейнер, с бабьими букольками седых колтунов за ушами. Очки с плоскими стеклами на лбу, где сотня морщин. Плывут очки по морщинам-волнам, по времени морям, нынче здесь, завтра там. Гитарный питерский мастер; знаменитый когда-то, еще до революции, гитарист, певец. Пел в кафэ и ресторациях вместе с Вяльцевой… Зазой Истоминой… Вертинским…
Коля глядел на Штейнера, когда тот гитары мастерил. Следил за полетом резца. Видел, как Штейнер, губу закусив, натягивает медные витые струны, потом пробует на звук, как на вкус, близко придвинув к вибрирующей струне огромное волосатое ухо.
Это Штейнер рассказал ему байку – да не байку, а быль, – про паука Шульберта, что весь век прожил в гитаре. Паук очень умный был. Выползал из гитары только тогда, когда хорошую музыку играли. Например, «Очи черные». Или там «Ямщик, не гони лошадей». Любил паук Шульберт старинные русские романсы. И цыганские тоже.
С виду Шульберт был такой невзрачный, неказистый: брюхо толстое, ножки мохнатые и длинные, еле гнулись. Старичок, еле полз. Штейнер его ржаными крошками подкармливал.
Послушает романс – и – восвояси. В гитару.
В дырку уползал.
Эта гитара, паучий домик, у Штейнера на почетном месте висела: на ободранной стене – рядом с портретом мадам Штейнер кисти Константина Коровина. «Ах, Костя, Костя, ― вздыхал Штейнер горько, ― плохо кончил Костя в Париже. Открыл газовые горелки, а газ не зажег. А окна все в квартире позакрывал. Отравился бедный Костя, ой вей! Не дай Бог вот так кончить… вот так… Вы, юноша, смотрите у меня, никогда о самоубийстве не помышляйте, ни-ни! Это самое последнее дело – самому из жизни уходить. Самое главное, мальчик мой, ― жить. Жить и в горе, и в радости. Жить! Помните, жить!»
А что потом-то с Шульбертом стало, спросил Коля тихо.
«Ну что, что, будто вы сами не знаете что, ― сердито буркнул Штейнер. ― Умер Шульберт, вот что».
И, натянув последнюю, самую тонкую струну, придирчиво склонился, касался ухом серебряного дрожанья, и колкие волоски щекотали струну, и чуткие пальцы сухие ее щипали, терзали, а потом ласкали – нежно, чуть слышно.
Коля представил, как беднягу Шульберта вытряхнули из гитары. Как вывалился его черный трупик на простыню, а может, на покрывало, а может, на кресло, а может, на старый паркет. И выбросили его в мусорницу, отнесли в кулечке; а может, веником замели в совок; а может, просто ногой раздавили в тяжелом башмаке, ребристой подошвой. И – все. Мокрое место.
Был паук, что слушал музыку.
И – нет паука.
«Мы все такие пауки. Мы ползаем по земле, песку, снегу. Заползаем иногда в гитару. Там, в гитаре, тепло. И сухо. Там темно. Но сквозь дыру льется свет. И музыка льется. У нас есть дом. Он звучит и поет. Почему гитара – женщина? Потому, что отзывается на ласку?»
Да, как же ты коротаешь время на ледоколе, на твоем новом корабле, военном сторожевике СКР-19, во льдах Заполярья?
А просто: Шульберт слушал музыку, а ты рисуешь картину.
Они все прознали про твое увлечение – и боцман Василий Петрович, его же Чапаевым прозвали, и старпом, и даже кок на камбузе, и все шутил кок, Крюкову подмигивая: «А меня, меня-то нарисуй у плиты! И как я макароны по-флотски в котле мешаю!» ― и Гидулянов, конечно, – командир должен все знать про свою команду, кто чем дышит; а Крюков, выяснилось, дышит живописью, ― а где краски берет?
– Матрос Крюков, где краски берешь?
– Виноват, товарищ командир! У боцмана! Малярные!
Гидулянов склонялся над квадратным куском картона.
– Ишь ты… Ловко! Я и не знал, что ты… ― Мял губы пальцами, будто пельмень лепил. – Хм! Чуешь цвет. Да и похоже это все, похоже, да… Да, Крюков, задал ты мне задачу!
Ты будто не понимаешь, о чем речь идет.
– Виноват, товарищ командир! Исправлюсь!
– Да ну тебя, – не по уставу махал рукою Гидулянов. ― Сиди… рисуй…
Отходил от картона. От матроса, на корточках скрючившегося перед малеваньем своим. С картонки брызгала живая северная весна: Крюков по памяти писал весенний Североморск, речку Ваенгу, весеннюю сумасшедшую, цветную, светлую тундру. Тундра по весне – чисто ковер. Вся цветами и ручьями выткана!
Боцман навытяжку – перед командиром.
– Матросу Крюкову краски давал?
– Так точно, товарищ командир!
Побледнел боцман.
– Слушай мою команду! Впредь малярные краски Крюкову – на рисунки – давать!
– Слушаюсь, товарищ командир!
Порозовел.
Гидулянов засмеялся.
– Знаешь, я сейчас у него в каюте был. Эх и молодец парень! Так малюет! Загляденье.
– Может, он талант, товарищ командир?
Гидулянов усмехнулся довольно.
– Не может, а так точно!
– Так точно, товарищ…
– Вот и я так думаю!
Матросы подтрунивали над Николаем: мол, сидит в каюте, запершись, в сплоченном коллективе перестал появляться, то ли книжки мусолит, то ли думку гоняет, то ли письмо девушке пишет сто двадцатое!
Из-под двери каюты пахло скипидаром.
Скоро команда узнала про Колино вечернее времяпрепровожденье.
И – зауважали все его. Тут уж не до смеха было.
Шутка ли, на корабле у них – свой, корабельный художник!
Кок за глаза стал его Рембрандтом называть.
А Крюков коку – гордо так: «Сам Рембрандт мне не брат».
Но все понимали, шутит.
Нарисовал портрет боцмана.
В благодарность за малярные краски, что в банках железных строгим строем стояли у его железной койки.
Нарисовал портрет корабельного доктора Брена – и долго, покорно доктор сидел на стуле, позировал, спина болела, ноги затекали, а Крюков плевал на время – он не видел, не слышал времени, ведь времени не было. А только – кисти, вязкость масла, острый, почти чесночный дух скипидара.
Нарисовал портрет командира – Гидулянов сам попросил. «Ты, Крюков, знаешь что? Меня – нарисуй!» А что, кивнул матрос, и вас – нарисую.
Слово сдержал.
В свободную минутку прибегал к нему в каюту командир, и Коля то усадит на стул его, то к столу поставит, то на койку заставит присесть и даже прилечь – а может, полулежа надо портрет-то, в свободной позе, в подушках? Перед глазами мелькала живопись великих, что он видел, наблюдал в Эрмитаже, в Русском музее, в Петергофе. «Александр Семеныч, вы вот так облокотитесь! И не застывайте вы напряженно, расслабьтесь!» Я только с бабой расслабляюсь, ворчал командир, но делал все, что художник прикажет.
Тут Николай – командиром был.
Поменялись роли.
Поза найдена. Рука свободно свисает со стола. Колени чуть подогнуты. Расстегнут бушлат. В другой руке – призменный бинокль, и командир только что отнял его от глаз: всматривался вдаль, но спокойны глаза, нет вражеского корабля на горизонте. Спокойны воды. Силен и уверен в себе мужчина. Его глаза просвечены холодным солнцем насквозь. Ушанка сдвинута на затылок.
– Коля, я упарюсь в ушанке!
– Ничего, товарищ командир! Пар костей не ломит!
И получился – портрет.
Капитан. Моряк. Мужик. Человек.
На плечах – небо качал. На ногах – качку сносил.
Выносил мир, как ребенка из-под бомбежки, из соленой штормовой боли – на руках.
Прижимался ребенок к бушлату.
Плыла палуба под ногами.
Погляди в бинокль, командир: не идет ли гроза?
Не торпедируют ли нас сейчас?
Через час?
Через минуту?
Коля закончил портрет – Гидулянов большим пальцем по сырому маслу мазнул, палец понюхал, глаза закрыл, взял художника руку – и крепко пожал, и – внезапно – к сердцу прижал.
Коля выдернул руку. Красная краска, краплак красный – лицо, и шея, и подбородок.
– Что вы, товарищ…
– Не стесняйся. Прошу. И я своих чувств не стесняюсь. ― Еще сильнее руку Крюкова сжал. ― Это память будет мне. И моим… если я…
Не договорил.
И еще крепче сжал Крюкова руку.
И понял Крюков все.
И пожатьем – ответил.
А ночью, когда все уснут, на койках захрапят, открывал Коля обшарпанный чемодан.
Чемодан этот Софья во Владивостоке ему подарила.
Так давно. В другой, сказочной жизни.
До войны.
Подарила и сказала: «Вози всюду с собой. Открой! Погляди, что там!»
Коля открыл – на дне чемодана лежали книги.
Пять книг.
Джек Лондон, «Маленькая хозяйка большого дома». «Идиот» Достоевского. Рассказы Мопассана. «Записки охотника» Ивана Тургенева. И – совсем уж запрещенная книжка: Евангелие. Старое, ветхое, черный кожаный переплет ножами изрезан. Углы страниц обожжены. Будто Евангелие – пытали.
И сказала тогда Софья, улыбаясь печально: «Коленька, ты книжки – всю жизнь – собирай. И этот чемодан твоей походной библиотекой будет. Не расставайся с ним никогда».
Будто себя – вместе с книгами – кружевным носовым платочком – в чемодан положила.
И нынче, чисто вымыв руки от краски и насухо вытерев старой дерюгой, улегся Коля на койку корабельную, к стенке корабля болтами привинченную, и открыл старое истрепанное Евангелие. Божественная книга! Чудо-чудеса! Все тут сказки, все придумки… а красиво все равно…
«Нет, все правда, ― гулко, далеко отзвучал странный густой голос внутри. ― Не богохульствуй. Правда все. Как правда и то, что ты живешь».
Строчки разбегались, оставляли на белой наволочке горячие, мелкие птичьи следы, глаза слипались. Он пересилил сон, взял над ним верх. Глаза шире раскрыл, чтобы они наполнились слезами и увлажнились. Кулаком потер. Теперь можно читать.
И он прочитал – сначала про себя, потом, для верности, повторил вслух:
– Он-то Идущий за мною, но который стал впереди меня; я недостоин развязать ремень у обуви Его.
Корабль качало на волне. Пьяное море валяло его из ладони в темную, влажную ладонь.
Храпели матросы.
Горел под потолком красный ночной свет.
В иллюминаторах плыла дикая медвежья ночь, и звенели рындами звезды, и буянило сердце, хмелело от мысли о женщине, что навеки оставил вдали, о девушке, что верила и ждала.
Открытка, посланная из Сан-Франциско, Соединенные Штаты Америки, в Москву, СССР
На открытке – белокурая и белозубая девушка в полосатом, сильно открытом платье, улыбается, выгнула руку, кокетливо отставила ногу. Надпись по-английски:
HAPPY BIRTHDAY!
На другой стороне открытки – текст письма:
«Здравствуй, моя милая Марэся!
Поздравляю тебя с днем твоего рождения!
Хочу, чтобы открыточка успела вовремя!
Сан-Франциско – прекрасный город, а теперь я хочу увидеть Рио-де-Жанейро, но это в Бразилии! Мы слушаем радио и в курсе, как идут бои. Наши сражаются под Севастополем. Мы душой с черноморскими моряками. Когда придем во Владивосток, я тебе напишу! Целую тебя, моя девочка-ромашка».
Штемпель: SAN FRANCISCO, USA, MAY 15 1942
Эшелон шел и летел, и поднимался над рельсами. За окнами, как умалишенные, неслись, падали в прошлое горы, увалы, степи, распадки, – рыжая и бурая тайга, голые ветви лиственниц, на косогорах – пламя жарков, по всей Сибири обжигающих влажную землю по весне. Эшелон шел по вечной мерзлоте, и земля плакала слезами вдов. Первый год войны. Сколько похоронок? Тысячи? Миллионы?
Николай глядел в окно тамбура. Курил.
После битвы за Москву у него прожелтели до косточек пальцы, а нутро жадно просило спирта – ну хоть рюмашечку, граммулечку. Перед атакой им наливали спирт – кому во что: в каски, в солдатские кружки, в медицинские мензурки, в пустые консервные банки. Кто-то столовую ложку тянул. Кто – бутыль из рук у начхоза выхватывал, губами припадал, а нахала били по локтям, по лопаткам: «Отдай! На нашу долю!»
На их долю много пришлось чистого адского спирта, когда рукопашный – как сквозь пьяную дымку.
И – посмертных, поминальных кружек.
Без спирта он бы не вынес крошева, ада. Стены огня. Земля разлетается в стороны. Крики. Всюду крики. Он зажимает уши, бежит. Прямо перед ним – комиссар. С винтовкой наперевес. Штык – Кольке в грудь направлен.
«Куда?! Стоять! Убью дезертира!»
И Колька поворачивается. И – обреченно бежит в гущу ревущего пламени, мокрой бесстыдной земли, летящей стрелами грязи, комками боли.
А за ним – топот ног, и опять эти дикие, звериные крики, и налегают сзади наши, и фрицы тоже наподдают, штыки торчат оттуда и отсюда, с двух сторон – гуща, лесная чаща штыков, и – вот он, рукопашный бой. Про него Колька в книжках читал. В Марьевке; на сеновале; с фонариком.
Грудь в грудь. Штык вонзается в живого теплого человека. В живое мясо! Они все – мясо! Кровь и мозги, и расплющенная красная плоть! Почему наше знамя цвета крови? Потому что все на свете – кровь! Лишь она одна.
Качается вагон. Летит поезд – разогнался состав, старается машинист, кочегар подваливает уголь в топку. Уголь в паровозной топке; уголь – в корабельной. Уголь, его же в Донбассе шахтеры рвут когтями из-под земли. Земля не отдает человеку свои драгоценности: он сам берет. Плата – жизнь. Взрывы газа. Пары метана ударяют в голову, в грудь. Смертельная горилка. Как ты там, отец Иван Иваныч? Как ты, Матвей Филиппыч, петух рябой? Живы ли? Спускаетесь ли с фонарями в забой?
За что человек человеку платит кровью?
За мир – платит войной?
Дорогая, последняя плата.
Летит эшелон. Летит мимо, прочь Сибирь. Гудит под колесами Транссибирская магистраль. Они оттолкнули врага от Москвы, и их возвращают на тихоокеанские миноносцы. Крюкова ждут на «Точном»? Да. Его одного.
Все, весь его третий курс, все друзья-курсанты – там, под Москвой, в снежных декабрьских, январских полях остались. Кого смогли похоронить, в братских страшных могилах. Кого – так оставили дотлевать, гнить: под солнцем и ветрами. Пища для хищных птиц – мертвое человечье мясо. Мясо.
«Мы – не мясо! Мы большее, лучшее! Мы – дух!»
Где он, этот дух, у тебя, покажи-ка на себе, Колька.
Еще одну «беломорину» в зубы всунул. В тамбуре уже хоть топор вешай, так надымил. Железная дверь загрохотала, рядом с Крюковым встал коренастый парень, добыл из кармана гимнастерки кисет с махрой. Дым пах остро, перцем, головешками, кизяком. Так смолили оба, в зарешеченное окно глядели.
– Как думаешь, ― первым подал голос Николай, ― далеко еще до Хабаровска?
– Завтра утром, сказали, Хабаровск.
Парень глубоко затянулся. «Козью ногу» держал двумя пальцами, большим и указательным, на отлете, будто брезговал. Артист.
– Утром-то утром. Скорей бы Владик.
– Да. Скорей бы. Да паровоз шибчей бежать не заставишь.
Докурили. Друг на друга поглядели.
– Из-под Москвы?
– По мне видать?
– И я из-под Москвы. У тебя как?
Крюков провел ладонью по голой голове. Бескозырка в вещмешке упрятана.
– Из трехсот нас – один я.
– Ясно. У нас четыреста было. Пятеро – осталось. А ты как спасся? Гляжу, и не особо изранен.
Николай пожал плечами. Потом расстегнул гимнастерку медленно; не торопясь, приподнял тельняшку. Парень глядел на живот, на грудь в кривых шрамах и швах. Наспех зашивал военфельдшер. Без обезболивающего. Николаю, чтоб не орал, в зубы – палку всовывали. Грязную деревяшку.
Раны его спасли. Лазарет, тыл. А там приказ пришел: возвращать на флот выживших моряков.
Парень тоже вверх выгоревшую гимнастерку потянул.
Так стояли друг перед другом – с голыми изрезанными животами. Смеялись.
Потом аккуратно, деловито гимнастерки под ремни заправили.
– Ты куда во Владике?
– На «Твердый». А ты?
– На «Точный».
– Точный ты, я погляжу.
Хохотали.
Вместе курили.
Вместе на рыжий весенний огонь дальневосточных жарков – в окно тамбура – глядели.
На встающее из-за распадков бешеное солнце. Лучи раскидывало, длинные желтые руки. Било золотыми пальцами в доски эшелона, в грязные стекла: эй, состав, не мчись так пьяно, постой, остановись! Не вези морячков на войну! Пусть на мир поглядят, в мире поживут. Хоть немного. На красивых сибирячек на полустанках полюбуются. Эх, какие платки у них с кистями! В туесах – клюкву мороженую продают! И кедровые орехи: грызи хоть всю жизнь, веселись-плюйся – а один туес не сгрызешь!
Палуба корабля. Она опять под ногами.
И снова можно ходить, ощущая подошвами, как корабль качает на волнах: сквозь все железо корабля – ногами – море чуять.
«Точный» ― военный корабль, миноносец, да; и вместо капитана у него сейчас – командир, и это все тот же Александр Семеныч Гидулянов, замечательный моряк. С «Дежнева» – да на «Точный» прыгнул! Вот судьба! Когда он в добром настроении – ласково, как сибирский кот, жмурится и говорит Крюкову: «Помнишь, как я в кают-компании на „Дежневе“ на скрипочке вжаривал?»
Помню, кивал Коля, а где ж сейчас ваша скрипочка, товарищ командир?
Опускал командир голову.
«Не до скрипочек теперь».
Крюков представлял себе командира Гидулянова – на селе, в корчме, с крохотной скрипочкой у подбородка. Глаза закрыты блаженно, смычок елозит вниз-вверх. Развеселая мелодия скачет тоже вверх, выше, еще выше! Забирается белкой на сосну. Пляшут под скрипку Сашки Гидулянова пары. Разлетаются девичьи юбки! Парни идут вприсядку. Смычок вот-вот бедную скрипку надвое перепилит!
«Да, Коляша, времечко было… где сейчас это все…»
«Когда война закончится – я в художники пойду», ― говорит матрос командиру.
«В художники все ж таки, м-м? ― Брови вверх лезут. ― А я уж думал – ты забыл баловство! Значит, нравится малевать?»
«Очень, товарищ командир».
«И какую картину мечтаешь нарисовать? Большую? Во всю стену? Корабли? Океан?»
Крюков потупился. «Виноват, товарищ командир. Наш корабль на фоне моря. Ну, наш. „Дежнев“. По „Дежневу“ – скучаю».
«Я тоже скучаю. Я на „Дежнев“ опять попрошусь. А ты ― рисуй. Я тебе и здесь распоряжусь краски малярные выдавать. Государственное добро не зря переводишь! Талант ты и есть талант. А может, мы твои картины когда в Эрмитаже увидим!»
Не в Эрмитаже, тихо поправил Крюков, в Русском музее. В Эрмитаже только полотна западных мастеров хранятся. «Виноват, товарищ командир!»
Кругом ты, Крюков, виноват. Репин, ишь, нашелся. Художник от слова «худо»! Иди! Рисуй!
Япония медлила вступать в войну. Хотя Гитлер хотел Японии под Москвой фокус показать, соблазн подложить: мол, мы уже в двадцати километрах от советской столицы, и наши фотокорреспонденты снимают, как мы – Третий Рейх – Москву – бомбим!
Где фрицы? Откатились. Что Япония? Размышляет.
Рядом Япония. Море пересечь – и Фудзияма.
И ныряльщицы ама добывают со дна моря раковины, и в них – жемчуг.
Война идет, а женщинам надо наряжаться.
И глупые, сумасшедшие мужчины покупают им жемчуг и золото, духи и пудру.
Моряки думали – они пойдут конвоировать караваны с оружием, с танками и провизией, одеждой и обувью для Красной Армии, а их – внезапно – приказом по Тихоокеанскому флоту – в учебный поход отправили! Да еще куда: в Сан-Франциско!
– А где это, Сан этот Франциско? ― спросил Колькин дружок Веня Добротвор. ― В Южной, што ль, Америке? Испанское вроде название.
– Дуракам закон не писан. ― Крюков снисходительно похлопал матроса Добротвора по плечу. ― Географию слабо ты в училище учил. СэШэА! Западное побережье.
– А Испания-то тут при чем? ― не сдавался Добротвор.
Синие громадные валы легко перекатывали «Точный» с гребня на гребень. Ветер ерошил отросшие волосы матросов. Трепал воротники, как флаги.
– А при том! Западные штаты раньше под испанским владычеством были!
– А Аляска што, под русским?!
– Садись, пять! Под русским! Ее царь Александр Второй по глупости – американцам – продал!
Путь. Опять путь.
Все в жизни есть путь-дорога.
То маленькая – от дома к дому; то огромная – от страны к стране.
Кровавая – от войны к войне.
Длиннее всех, опасней – дорога океанская; шторм налетит – волны корабль запросто сомнут, перевернут, и будешь тонуть, ловить последние жадные мысли, что пузырьками воздуха летят, спешат на поверхность. Попадешь в око тайфуна – не выберешься, прости-прощай, жизнь. Корабль – плавучий дом, но он не навеки дан тебе.
А тело? Оно тоже – ходячий дом, бродячий?
Да. Ты идешь – и дом твой идет вместе с тобой.
Ты думаешь – переставляешь ноги, а на деле ты переставляешь время внутри себя.
Путь, синий, прошитый искрами золотыми, опахнутый крыльями чаек, пронизанный лучами солнечных рыб. Путь глубоководный, ширь неоглядная – глаз не хватит обнять океан, зато душа обнимает. И любит. Как он любит море! Оно разное. Злое и нежное. Ну да, ведь вода – женщина.
И когда берег? Когда?
Собирались вечерами в кают-компании. Слушали радио, головы склонив. «Наши войска с боями заняли…» Срывались со стульев, горланили: «Ура-а-а-а-а!» От крика – лампочка гасла. Командир вставал, аплодировал вместе со всеми.
Грозно рычали мичманы: а мы-то, мы-то в бой когда?! Учебный поход черт-те куда! Мы бы на Балтике, на Баренцевом – сейчас были нужнее!
Гидулянов склонял голову к подбородку, становился похож на грустного коня с привязанной к морде торбой.
– Погодите, ребята. Не шумите. Пока такая у нас лоция. Отрабатывайте приемы.
И они – отрабатывали.
Они уже давно знали все: и как расчехлить орудие, и как зарядить пушку, и как привести в боевую готовность торпеды, и как распределить – по ходу кораблей противника – опасные рогатые мины.
Они были готовы к морской войне.
Они хотели воевать.
Умереть? Если надо, то и умереть.
Они не понимали: смерть – это навсегда.
То, что смерть – навсегда, знали те, кто вернулся с зимних полей под Москвой.
Но они молчали.
Ничего товарищам не говорили про это.
Разве про это расскажешь?
Колька, синими теплыми вечерами, выходил на палубу, глядел на хищные цветные звезды, пьющие соленую воду, как безумные чайки. Садился на доски палубы, обхватывал руками колени. Мысли убегали вдаль. Волны выматывали душу. Закрывал глаза. Перед глазами вставал безымянный солдат с отпиленной ногой. Вместе лежали под ножом в операционной – в занавешенной белыми простынями землянке. Солдат так кричал – Колька чуть не оглох. Крик парализовал хирурга. С поднятыми вверх, будто он врагу в плен сдавался, руками, очкастый хирург чеканил сестрам: хлороформ, быстрей, маску! Когда ногу отпилили, маску сняли – будить солдата уже не понадобилось. Он умер от болевого шока.
Чужие берега, они идут к чужим берегам. Он впервые увидит Америку. Ее открыл Колумб. Сейчас он, Ник Крюков, талант, откроет ее! Еще как откроет! Как ножом – консервную банку! Заграничную тушенку!
Земля восстала из синей блесткой глади, из слезных миражей штиля внезапно и мощно.
Огромные каменные стрелы диковинных домов уходили прямо в небо. Не дома – ракеты. Вот-вот с земли сорвутся, взмоют. Приближались к берегу, и чаек становилось все больше – изобильно, клекоча, захлебываясь истеричным писком, они летали над морем, над кораблями, и кораблей, что тебе чаек, тут все прибывало, они толпились, сбивались в стаи, ветер сгребал их в кучи и снова разбрасывал по синей влажной пашне океана – белые лайнеры, серые катерки, стальные громады линкоров и эсминцев, лодки и лодчонки – все теснились, окружали «Точный», нагло плыли наперерез и в последний момент ухитрялись вымахнуть из-под форштевня, улизнуть, растаять в синеве.
Вахтенный матрос крикнул с мостика:
– Земля! Сан-Франциско!
Моряки стояли на палубе, глядели на диковинную чужую страну. Город показывал им каменные пальцы.
– Америка, ― сказал Крюков и положил руку на плечо матроса Добротвора. ― Ну, видишь? Америка настоящая!
– Вижу! ― кивнул Добротвор. Восторгом полыхали его глаза. ― И точно, настоящая!
«Точный» бросил якорь неподалеку от портовой гавани. К берегу пока не подошел: разрешения не получил, и негде было пришвартоваться. Все причалы заняты.
– Столпотворение, ― бросил командир Гидулянов, раскуривая трубку, и Коля подумал: «А ведь Семеныч трубку-то курит, как – Сталин». ― Куда ж приткнуться? Некуда!
– А как же мы на берег? Я на берег хочу! ― возмущенно выкрикнул Добротвор.
– Будет, будет берег вам, ―миролюбиво, сквозь трубки дым, вымолвил командир. ― Будет тебе белка, будет и свистелка.
Они все-таки сошли на берег.
Сан-Франциско задавил их, ослепил, оглушил. Они знать не знали таких городов: россыпи реклам, горящие огнями буквы, знаки, надписи – словно яркая кровь выплеснута наружу городских стен. Расплавленная оранжевая, алая, зеленая электрическая лава льется с высоких этажей. Здания – каменные кукурузные початки: каждое зернышко – судьба, с каждого балкона свисает, вьется на ветру звездно-полосатый нарядный флаг. Пляжи! Пирсы! Корабли со всего света! И музыка, музыка из окон домов, из дверей ресторанов. Рестораций здесь в изобилии – заходи не хочу, жри от пуза, коли деньги есть! Доллары.
Долларов у них не было, были советские рубли и еще мелочь, и в банке Николаю обменяли рубли на чужую валюту, он гордо, зеленым веером, развернул перед товарищами американские купюры: глядите, мы теперь можем здесь все купить! Выпить-закусить!
Все, да не все. Оказалось – долларов слишком мало, чтобы пообедать в ресторане; зато хватит, чтобы каждому на почте купить по открыточке и послать ее в СССР матери, сестре, любимой. Жене? Жен у них ни у кого не было. Они все были еще очень молодые. Курсанты. Третий курс.
И еще год учебы им оставался. А они уже – иные – войну понюхали.
– Ребята! ― Крюков сдвинул бескозырку на затылок. ― А вот она и почта!
– А ты по-английски умеешь? ― спросил дотошный Добротвор.
– Умею, ― ответил Коля. ― А ты?
– Я это, в училище немецкий учил, ― недовольно признался Добротвор.
– Ну и сиди со своим немецким.
Гурьбою в зал почтамта вошли. Крюков широко, вразвалочку, подошел к стеклянному окну. Сунул в дырку золотую голову.
– I am very glad to see you, ― вежливо сказал. ― Ten postcards, please!
Моряки смотрели на Крюкова как на диво дивное.
– Говорящий попугай, ― пожал плечами Веня Добротвор.
Худенький был парень Добротвор, очень интеллигентного, утонченного виду. Как на флот попал такой нежный? Врачи не комиссовали доходягу, в справке военкомата написали: «Практически здоров». А чахоточным гляделся.
Николай взял сдачу, церемонно поклонился белокурой улыбчивой девушке в окошечке.
– Thank you. ― Пошел. Вернулся. Улыбнулся. ― Very much.
На одной открытке – обезьянка с воздушным ярко-красным шариком; на другой – веселая девушка в полосатом, как пижама, платье. Пышногрудая! Кудри вьются!
Крюков разложил открытки на почтовом столике. Окунул перо в чернильницу. Задумался.
Одна открытка – Софье; другая – Маргарите.
Софья – любовница. Маргарита – мечта.
«У мужчины должна быть и любовница, и мечта».
Перо уже царапало по иностранной, гладкой как зеркало бумаге, буквы вытекали коричневой кровью.
«Милая, милая Софья! Я в Сан-Франциско. „Точный“ приведен в полную боевую готовность, но в Тихом пока боевых действий нет. И мы наслаждаемся морем и солнцем. Америка красивая! Очень большие дома. Но Владик лучше! Ты там смотри не озоруй без меня. Я скоро вернусь. Сонечку хорошо корми, чтобы не отощала».
Подумал и приписал – мелкими, блошиными буковками:
«Люблю. Твой Ник».
Матросы опустили открытки родным и близким в огромный ящик, на нем золотом написано: «POST».
Лети, письмо, с приветом! Ответа моряки не ждут. По морям, по волнам, нынче здесь, завтра там!
Бормотанье, свист радио. Команды Гидулянова. Вкусные запахи борщей и каш на камбузе. Вечера в кают-компании. Кто воевал – молчал; кто не видал войны – смеялся, байки травил, песни пел. Добротвор щипал струны гитары. Потом – гитару Крюкову передавал.
И Коля Крюков пел.
Как пел! Моряки слушали, замолкали.
― Всегда и везде за тобою,
Как призрак, я тихо брожу…
И в милые очи порою
Я с тайною думой гляжу.
Полны они неги и страсти!
Они так призывно глядя-ат…
И столько любви, столько счастья…
Они нам… порою!.. сулят…
Каждый думал о своей девушке.
Даже те, у кого девушки – не было.
Сколько времени протекло, пролетело?
Столько, сколько океанских вод промчалось под форштевнем.
Месяц, два, три – на море все дни сливаются в один, густо-синий, тошнотный, где качка и качка, где ветер и ветер, где ты знаешь – идет война, но тебе, лишь тебе она на минуту приснилась, а есть только солнце, и ветер, и волны.
«Точный» встал в порту Владивостока. Жаркое солнце пылало в зените. Крюков еле дождался увольнительной.
Шептал про себя: «Софья, Софья, я скоро, я сейчас». Сердце стискивали жесткие ладони беспричинной тревоги.
Капитан Гидулянов отпустил его на сутки. Сутки равны вечности. Ты только шагу прибавь. Не опоздай.







