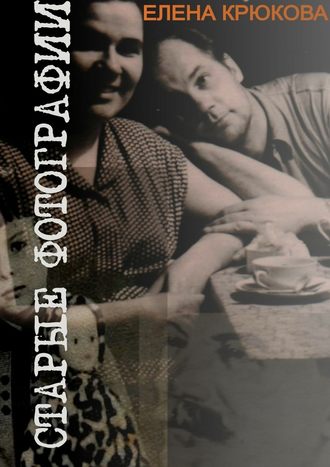
Елена Крюкова
Старые фотографии
– Хотите Клавдию Шульженко?
«Хотим, хотим!» – вздымали хрустальные рюмки гости. И водка, вино проливались на скатерть. Гостей немного, но все уже перепились – и девки, и парни, и прилично одетые мужики, и даже Колькина девчонка домашней наливки наглоталась, глазки враскосец. Софья поставила пластинку, и голос обволок матроса с головы до пят:
– Осень, прозрачное утро, небо как будто в тумане…
Пьяные гости повскакали. Еще и танго ухитрялись танцевать! Чуть не падали. На мебель валились. Смеялись, обнимались: в танго все позволено! Софья встала, спина линейки прямей, к Николаю шагнула.
– Белый танец. Дамы приглашают кавалеров, ― усмехнулась.
Думала: впервые танго танцует матрос, ― а он-то взял да уверенно повел, шагом широким, рука на талии властная, веселая! У них во Фрунзенке все танцы танцевать учили: и вальс, и танго, и медленный фокстрот, и быстрый, и даже пасадобль. Тонкие черные, искусно выщипанные брови Софьи на лоб взлетели.
– Чему вы удивляетесь?
Задыхался: от радости. Водка в голове гудела.
– Вы отлично танцуете.
– Я не только танцую отлично.
– А что, еще и поете?
– И не только пою. Хотя да, пою, под гитару.
– Да вы нахал.
Николай плотнее прижал ее к себе и отогнул назад. Игла сорвалась, с хрипом и свистом побежала по пластинке, процарапывая ее больно, калеча.
Они не помнили, как гости разошлись, разбежались, уползли. Счастье, что никто не заночевал под столом. Не помнили, как обнялись. Им казалось: они обнимались всегда.
Чистые, хрустящие простыни поразили его в самое сердце.
И запах, этот дразнящий, печальный запах лаванды.
Духи стареющей женщины.
Да она и не скрывала свой возраст. Ни от себя; ни от него.
В постели она внезапно стала такая маленькая, как ребенок. Или это он такой огромный? Клал ее себе на живот, на грудь. Она лежала, как цирковая обезьянка, показывала в улыбке мелкие зубы, они блестели в свете зеленой настольной лампы. «Я свет не выключаю, чтобы тебя видеть». Целовалась так жадно – вот-вот съест, проглотит. Изголодалась.
И он изголодался.
Уснули под утро. Крюков в пять утра вскинулся – глянул на будильник на полированной тумбочке: пять утра! В шесть надо, как штык, быть на корабле. Будить Софью не стал, беззвучно с дивана скатился.
Когда брюки напяливал – ее пристальный, свежий взгляд поймал: будто бы и не спала.
На насмешку сорвался:
– Наблюдаешь?
Она перевернулась на живот. Лежала голая поперек широкого дивана, как на пляже загорала.
– Я тебя уже изучила.
– Ну и как я тебе?
Уже около дверей стоял.
– Ничего, ― лениво протянула она. ― Неплохо. Еще придешь? Адрес запомнил?
Крюков повернул ключ в замке, обернулся к нагой Софье и отдал честь.
На миноносце «Точный» команда отправилась из Владивостока на юг, через Японское море и Желтое море – к экватору. Учебное плавание? Нет, настоящее! Это их, курсантов, носом, как котят, в морское дело тыкают. А бывалые моряки терпеливо учат: это так, а вот это – эдак.
Чем отличается вода разных морей?
Да ничем. Всюду – солнце. Всюду – в штиль – легкая, быстрая серебристая рябь. Всюду – в шторм – грозные валы до небес, и мутит, и блевать тянет, и опытные моряки посоветовали: отрежь ломтик лимона и соси, легче станет.
Бортовую качку Коля легче переносил, чем килевую. Килевая – выматывала окончательно. Пластом лежал на койке, привинченной крупными болтами к стене; ненужный лимон сгустком золота, желтой гранатой катался по каюте под кроватью, взад-вперед.
Нет, воду все-таки различал. В Японском море – густо-синяя, в солнечный день – яркий, веселый изумруд. В Желтом – грязная, и вправду буро-желтая. Когда старпом сказал: «Скоро экватор!» ― долго вглядывался в сине-серую даль, следил взвивы гребней: не поверил, что так далеко уже от дома. От Родины.
Все та же вода. Волны все те же.
А жара – иная.
Моряки все высыпали на палубы. Белые бескозырки шляпками белых грибов – под неистовым солнцем. Пот по лицам течет.
– Эх, ребята, ну у вас и мокрые рожи! Как из бани!
– Баня, она и есть баня… Экватор…
– Спроси командира, можно ли окунуться.
– Какого лешего окунуться! Тю, сдурел! Че, с борта прыгать будешь? Тут же акулами все кишит!
– Не, ну сдохнем от жары… честно…
Крюков подошел к капитану. Капитан «Точного», Александр Гидулянов, крепыш, лицо-колобок, ноги-кегли, сам отдувался, потное лицо обшлагом утирал.
– Товарищ капитан, разрешите обратиться!
– Сам вижу, жарко, ― кивнул Гидулянов. ― Есть одна идея!
Идею осуществили. Взяли огромный брезент, на крючья подвесили, в воду опустили; получилось подобие брезентового бассейна. Моряки сбрасывали одежду, с восторгом, вопя и хлопая себя по груди и ногам, попрыгали в океан. Плавают, как в тряпичной кастрюле! Одни головы видны!
Парни в теплой, соленой лохани плавают, а рядом с ними – по загнутым краям брезентухи – акулы плещутся, морды высовывают. Играют!
– Ребята, а они похожи на дельфинов!
– У, злыдни…
– Ты, слишком к ним не приближайся! Нос откусят!
Брезент на палубу поднимали вместе с купальщиками.
Николай видел голых товарищей, моряков своих родных; руки-ноги загорелые, черные, а животы-зады – беленькие, младенческие. Молодые бычки, широколобые телята. Как вам жить? Как быть? Море – дом родной. Говорят, скоро будет война. «Говорят, что кур доят!»
Из того похода на экватор Николай привез Софье подарок: маленькую обезьянку. Заходили в порт Шанхай, капитан Гидулянов в шанхайском госпитале навестил больного консула Советского Союза, и консул ему свою домашнюю обезьянку сосватал: возьми да возьми, пропадет она тут, я по больницам скитаюсь, с женой развелся, детей в Союз отправил… ухаживать за зверем некому, сжалься, а?
Сжалился капитан.
А потом Крюков у него обезьянку ту переманил: она радостно переселилась в каюту к Николаю, он ее из рук кормил, с ней забавлялся. Пытался учить ее считать, говорить и даже петь. Петь она быстро научилась: Коля играл на немецкой губной гармошке, обезьянка, умильно сложив голые розовые ладошки, смешно подвывала. Матросы хлопали в ладоши: браво, бис!
А во Владик пришли – капитан так и сказал: бери, Крюков, зверя, он к тебе больше привык, чем ко мне! И Коля обезьянке в каюте даже кроватку соорудил, из старого ящика из-под боеприпасов.
Увольнительных капитан матроса Крюкова не лишал никогда: вел себя примерно, служил исправно.
Про то, что у Крюкова возникла на берегу страсть, Гидулянов быстро догадался. Но не придерешься: матрос возвращался на корабль всегда без опозданий. Только бледный очень. Куда и загар девался после ночи любви.
А потом, однажды, Коля принес Софье обезьянку в подарок.
Коля звал ее Феклой.
Софья же сморщила нос: фи, Фекла! Крестьянское имечко. Назови как хочешь, пожал плечами Крюков.
Софья назвала обезьянку – Сонечка.
Как себя.
И Крюкову не раз казалось: она у бездетной Софьи – ее ребенок.
Уродливый, грустный, мохнатый, смешной, любимый.
И еще один день, и океан льнет к ногам, как преданная собака.
И еще один вечер. Прекрасный, как все с Софьей.
Каждая минута и каждая секунда с ней – прекрасна.
Чашка крепкого красного шанхайского чая. Откупорена пузатая бутыль синего бомбейского ликера. Самый дамский напиток. Софья пьет мало. Скромно, как птичка. Ей нельзя спиртное – у нее аритмия. «Что такое аритмия, Софья?» Она грустно улыбалась, и обезьянка весело повторяла ее улыбку. «Когда сердце не знает, куда себя девать. И выпрыгнуть из груди хочет». Он обнимал ее за плечи, как старый муж – старую жену. «Тогда у меня тоже аритмия». Отгибал ее голову, припадал губами к губам.
Сердце рисовало вензеля. Выкидывало коленца. Сердце становилось большой рыбой, хищной акулой, и хотело крови, боли, еды, – любви. Хотело выпрыгнуть из океана разлуки – на берег, на единственный берег. Ты потонешь в белой соли, в синей бездне! Нет. Никогда. Я выплыву. И я тебя спасу.
Они спасали друг друга. Ласкали друг друга. Софья, голая и грациозная, несла ему в постель на тарелочке бутерброды с икрой. «Я еще получаю паек за мужа. Мы еще не развелись официально». А он правда не вернется, спрашивал Колька с набитым ртом, а вдруг он сейчас откроет дверь своим ключом? Софья, запрокидывая голову, хохотала. Обезьянка хохотала тоже, страшно скаля желтые зубы. «Не откроет! Я замок поменяла!»
– Ник, хочешь выпить?
– Хочу. Но ты же не пьешь со мной. А я не на поминках.
– Ну давай рюмочку.
Подносила ему рюмку, и он видел – ее руки дрожали.
И седую нить в воронье-черных прядях – хорошо видел.
Выпил рюмку голубого ликера. Поморщился.
– Софья, а у тебя водки нет? Что суешь мне дамский напиток…
– Есть. Налью.
Принесла водки. Он глядел в ее прозрачные, холодно-болотные, будто водкой налиты две хрустальных рюмки, пожившие, усталые глаза.
– Софья! Роди ребенка!
– Выпей, Коля.
– Софья! Я серьезно!
– Пей. Устала держать.
Он взял из рук у нее рюмку, резко влил в глотку, занюхал кружевами Софьиной ночной сорочки: уткнул ей губы и нос в плечо.
Когда водочный жар разлился у него по возбужденным, пылающим мышцам и жилам, она сказала тихо:
– Тебе молодая родит.
Повалил ее в подушки. Тискал. Чуть не плакал.
– Нет у меня никакой молодой! Ты – молодая! И будешь молодая всегда!
Подняла руку. Навзничь лежа в подушках, ласкала его теплой рукой, ласкала – чуб, лоб, улыбчивый нежный рот.
– Я могу умереть в любой момент.
– Отчего?!
– От мерцательной аритмии, Коленька. Ее не лечат. И не оперируют. С этим живут и умирают.
Он покрывал ее поцелуями, раздевал, сдирал рубашку – шея, плечи, щеки, живот, сгибы рук загорались под его губами, вспыхивали и гасли и снова пылали – ярко, в ночи, горело ее сухое поджарое тело, ярче всех ламп, фонарей и салютов.
Ночь глядела на них гигантским перламутровым глазом близкого океана.
Дом Софьи на самом берегу стоял – выйди из подъезда, и океан в тебя волной плеснется.
– Софья… ты океан мой…
– Дурачок. Я всего лишь женщина твоя. Одна из твоих женщин. Их у тебя… еще много будет…
– Не говори так!
И она замолчала.
На всю оставшуюся ночь.
…глаза – куски моря, глаза-волны, глаза плещут океанскою солью. Ладони превращаются в глаза и видят. Живот – огромный глаз, он тоже видит – слепым зрачком пупка. Все есть зренье, и все есть цвет. Свет и цвет. Все хочет видеть и жить; и он хочет всегда видеть – и жить тоже всегда. А можно ли жить всегда? Есть ли бессмертные люди? Если бы были – все бы о них знали, вся земля.
Софьюшка! Ты не бессмертна. К черту твою аритмию! Ник, ты не знаешь ничего, что с нами будет. Я хочу написать твой портрет! А ты разве можешь? Могу. Боцман дает мне малярные краски. Я его портрет уже нарисовал. Значит, ты талант? Ник – талант! Софья, если ты не хочешь мне позировать, давай я тебя сфотографирую. И – по фотографии нарисую. Ха, ха-ха! По фотографии – только покойников рисуют. Я не покойница еще. Я живая!
…ты живая. Ты самая живая. Я тебя…
…никогда не говори этого женщинам. Только – любимой.
…но я же тебя…
…целовал ее ладонь, обжигал губами. Мертвенно-голубой океан бельмом, осьминожьим перламутровым ужасом, водяною глубокою гибелью мерцал, качался за окнами, над крышей, над звездами. Океан заполнял собой все пустоты и все ямы. Если вдохнуть воду, когда тонешь, вода забьет легкие, и ты ощутишь дикую, последнюю боль. Тонуть очень больно. Вода – не для дыханья. Вода – для питья. Выпей меня! До дна! Чтобы видно было сухое, мертвое дно. Как при отливе. Знаешь, во время отлива я находила на берегу мертвых морских звезд. Они теряли оранжевый веселый цвет. Погибшие – бледные, серые лежали. Жизнь – это свет и цвет. Она цветная, яркая, вкусная. Любимая. Ты моя…
…нет, молчи.
Хочешь, я сыграю тебе на гитаре? Камин горит… огнем охваченный… в последний раз вспыхнули слова любви! В тяжелый ча-а-а-ас… здесь мной назначенный… своей рукою письма я… сожгла твои… Не играй. Не надо. Лучше – тишина. Слушай тишину. Я слышу твое сердце, оно бьется. Бьется еще? Это хорошо. Хочешь, я разожгу камин?
И письма мои – своей рукою – сожжешь?
…я письма твои целую… И фотографии – тоже… Все думаю: вот тебя с «Точного» на другой корабль переведут – и ты… ни письма… ни снимка…
…дурочка. Я буду тебе их каждый день писать. И из всех портов – посылать. А конверты – духами душить… твоими…
…ты мой…
…молчи!
…ты мой океан. И я тону.
Кто из них повернул ручку радиоприемника? Зачем?
Может, Софья хотела послушать музыку?
Странный, зычный голос раздался – будто раскатывался над площадью, над великими просторами, под черным приморским небом.
– Сегодня, в четыре часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города – Житомир, Киев, Севастополь, Каунас…
Софья вскочила с дивана. Простыня поползла за ней белой змеей. Подушки на паркет свалились.
Голая, стояла посреди комнаты.
– Молотов говорит, ― сказала занемелыми губами.
Початая бутылка бомбейского ликера отсвечивала голубым льдом.
Крюков тоже встал. За папиросой потянулся. Балкон открыт. Свежий воздух по комнате гуляет. Свежий ветер. Хрусталь в шкафу посверкивает хищно. Золотые Софьины часики лежат на туалетном столике. Обезьяна мирно спит в корабельной дощатой кроватке – Коля с «Точного» принес.
Часики тикают. Идет время. Идет.
Оба, голые, на сквозняке стояли, слушали.
– Правительство Советского Союза выражает непоколебимую уверенность в том, что наши доблестные армия и флот и смелые соколы Советской авиации с честью выполнят долг перед Родиной, перед советским народом, и нанесут сокрушительный удар агрессору!
Коля курил и сыпал пепел на паркет. Глядел, а глаза не видели. Наши доблестные армия и флот… и флот…
– И флот, ― повторил вслух.
«Беломорина» обожгла пальцы. Послюнил, смял искуренный бычок в кулаке.
– Софья. Что это?
Шагнула к нему, грудью прижалась к его груди. Закинула руки ему за шею.
– Это война.
Ночной бриз колыхал занавески.
Обезьянка кряхтела. Пищала тонко. Плакала во сне.
Коля в окопе. Декабрь 1941 г.
Таруса
Снег голубой, жесткий. Можно есть. Пить.
Лицо зарывать в шерсть серого, синего зимнего кота.
Надо смочь.
Страх!
Из всех чувств остался только страх.
Очень большой. Огромный.
Прячь в снег голову, как в кастрюлю.
Взрыв снаряда вместе со снегом вырывает из земли – землю.
Она летит в стороны, бьет чернотой в лицо, в каску.
Каска. Ощупай каску. Она еще на твоей голове, и твоя голова – живая.
Живая.
Жизни уже нет. Ее больше нет.
Что есть вместо жизни?
Страх.
Все врут, что на войне выживают.
На войне все умирают. Все.
Красная Армия пошла в контрнаступление.
Сорок девятая армия; генерал-лейтенант Захаркин. Ты еще помнишь фамилии генералов. Помнишь имена. Ты солдат. Ты обязан знать имена командиров.
Сейчас ты не знаешь и не помнишь ничего.
Есть у тебя жизнь?
Есть, еще кусочек остался, за пазухой.
Как хорошо, отлично, что перед атакой им дают спирт.
Сто грамм. Наливают в каску.
Стаканов тут нету, и закуски нету.
Нет тут ничего, что в мире было.
Спирт пахнет железом и твоей головой немытой.
Глотнешь – и поймешь: огонь снаружи, и огонь внутри.
И – завеселеет! Будто на танцульках.
И никакой атаки не будет. Никакой и никогда.
Не высовывай голову из окопа!
Это ему кричат?
Нет. Не ему. Гошке Фролову.
Гошка мировой парень. Он такой чистый. Все грязные, а он – чистый.
Телом. Душой. Чистый весь.
И девушки у Гошки до войны не было.
А у него – Софья. Во Владике.
Настоящая любовница. Прическа как у Дины Дурбин.
Вот и сейчас, скоро, в атаку; и спирт опять по каскам разольют.
Чистый спирт. Спиритус вини.
А на «Точном» они делали ликер из сгущенки, и водку туда лили.
Водка – это тоже спирт, только водой разбавлен. И вся разница.
Неумехи – глотку обжигают, закусывают снегом.
Цап в руку снег – и в рот.
Белое мясо. Белая рыба. Белое сало. Белый хлеб. Белый сахар.
Почему вся самая вкусная еда – белая?
А почему армия – Красная?
И почему, когда видишь кровь на снегу, тебя рвет?
Летянин стоит, поварешка в руках, из бидона зачерпывает. Солдаты подходят, с касками в руках. Земляные стены окопа осыпаются. Мороз их некрепко еще схватил.
Крепчает мороз. Скоро станет лютым зверем.
Убить врага. Убить зверя.
Один зверь убивает другого зверя.
Ты – человек? Еще человек.
Человек.
Потому что ты боишься.
Он тоже подошел, цепляя плечом шинели ледяную землю окопа, и протянул каску: давай, Летянин, жми-дави во все лопатки. Не жалей наркомовской пайки! Поварешка ровно на сто грамм, что ли? Кто измерял? Наклонился над бидоном, хотел рассмотреть свое отраженье в спирте, ― да Летянин поварешкой больно хлопнул его по голому лбу: куда суешь нос, все выпить хочешь?! после боя еще дам, если останешься живой! ― и он послушно, робко еще ближе каску к Летянину подсунул, и Летянин зачерпнул из бидона прозрачной, ртутно-живой жизни – и плеснул в каску ему.
Он шагнул в сторону, освобождая место следующему. Бойцы подходили и одинаковым жестом протягивали каски. Он понял: это не разные бойцы, это один боец, ― и стало еще страшнее. Люди. Кто такие люди? Может, это земля живая, неколебимо, навсегда живая, а люди на ней – только ножки сороконожки, перебирают, шагают, бегут, потом падают – отмирают. И взамен вырастают другие.
Люди-щупальца. Люди-присоски. Люди – гусеницы и черви. Почему жизнь разумна? Потому что разумно все. И червяк думает. И улитка страдает.
Это он только сейчас понял.
Сжимая каску в руках, прижимая к животу, сел у земляной стены, скрючился. Сейчас выпьет, а закуски-то нет. Захмелеет. В атаку побежит вензелями. Стыд! Снег. Спаситель.
Ни капусты сегодня. Ни тушенки.
Он – снегом закусит.
Вечный снег. Эта зима бесконечна. Она кончится тогда, когда ты умрешь.
Когда тебя убьют.
Он ниже, по-бычьи нагнул голову над каской, не каску ко рту поднес, а к каске – голову. Чуть наклонил железную плошку. Спирт вылился сквозь зубы в судорожно дергающееся горло на удивленье быстро – даже глотка не получилось: пламя ощутил, жар в желудке, потом красный веселый туман перед глазами заплясал. И все.
Закусывать не надо.
Осмотрелся.
Он видел: бойцы пили так же, как он – украдкой, вроде как исподтишка, вроде они маленькие, а водку пьют без спросу, бутылку похитили из родительского шкафа, и увидит мать, и оплеух надает. Глотали, будто кто над душой стоит, отнимет. Поднимали незрячие лица. Отваливались от касок, как быки – от воды – на водопое. Переводили дух. Нежно улыбались сами себе. Тому, что выпили – живой чистый спирт еще живыми губами.
Он заглянул в каску: пусто. Вытер внутренность каски рукавом шинели. Понюхал рукав. Пахло хорошей водочкой. Как в мирные времена – из рюмки – в застолье. Он видел в Марьевке голод. Чуть не умер с голоду. Он видел красивые праздничные столы в Ленинграде. Он поднимал бокалы с шампанским, бокалы с грузинским вином. Но вкуснее этого спирта перед атакой он ничего не пил никогда.
«Еще бы глоточек!» – тяжело вздохнул боец рядом, и он, не глядя на него, кивнул. Надел каску. Растер ладонью грудь, грубая шерсть шинели окарябала руку.
Сколько времени до атаки?
Если выдали спирт – уже совсем немного осталось.
Далеко, за белым полем, подлесок; и ветер гнет, бьет друг о дружку заледенелые ветки. Он отсюда, из окопа, слышит их легкий звон. Он пьян? Уже бредит? Что ты еще слышишь, душа?
Он прислушался. Солдаты, выпив, загалдели. Сквозь строй голосов он схватил ухом, вдохом, губами тонкий вой, снежный всхлип. Волчонок в лесу? Лисенок? За перелеском – деревня. За деревней, близко, Таруса. За Тарусой – Ока. Река подо льдом. Вот бы на санях проехаться, лошадку кнутом постегать.
Не надо стегать; сама побежит.
А их – стегают, чтобы – бежали.
Плотно, умалишенно прижмурился. Вот бы ничего больше не видеть. И что? Сидеть так?
Да, так; покачиваться, напевать песню.
Губы разлепились. Сквозь гул, хохотки, невнятицу голосов, кашлей, матюгов и, шепотом, молитв из обожженной спиртом глотки наружу просочилось это, забытое:
― Не уходи, тебя я умоляю!
Слова любви… стократ я повторю…
Пусть осень у дверей – я это твердо знаю,
Но нет, не уходи! – тебе я… говорю…
Наш уголок
Нам никогда не тесен!
Когда ты в нем,
То в нем цветет весна…
Ему каску на лоб, на нос в шутку опустили.
И голос грубый, веселый донесся: «Эй! Песенки отставить! Лирические, твою мать! Сейчас в атаку, а ты что поешь?!»
Да, что я пою?
Что же я пою?
А разве я пою?
Он открыл хмельные, зверино блестящие глаза – и робко, просительно огляделся, будто хотел сказать, выкрикнуть: «Ну дайте я последнюю песню спою!»
Молчали. Уже приказ крикнули, а он и не слышал.
Вместе со всеми он сдернул с плеча винтовку. Штык грязным серебром горел в вечерней сизой тьме, темнело рано, и атаку назначили на пять вечера, он помнил.
И крика: «В атаку!» ― не услышал; оглох – от всеобщего воя, плотно сбитого вопля, поднявшегося изнутри, из-под земли, – и люди поднялись из земли одной грязно-серой волной, колышущейся стеной винтовок и шинелей, и побежали вперед, вперед, и он тоже выпрыгнул из неглубокого окопа – на диво легко, будто циркач – и побежал, побежал, вместе со всеми, удивляясь, что пьяные ноги не заплетаются, а пьяные руки хорошо, крепко держат оружие.
Он бежал, громко топая сапогами по земле, и земля отвечала ему гулом, и он радостно думал о себе: слышу еще, слышу, еще бегу! Не убили! «За Родину! За Сталина!» ― надрывая глотку, прокричал бегущий рядом с ним Леха Свистун. Леха умел подражать соловью. А еще он свистел «Интернационал» и «К Элизе» Людвига ван Бетховена. «За Ста…» ― вместо крика из груди Лехи вылетел клекот, и он упал, раскидывая руки, но винтовку не выпустил, крепко держал.
Коля обернулся лишь на миг – и увидел, как с головы Лехи скатилась каска, откатилась по снегу, замерла. Черной чашей на снегу лежала. Сумерки опускались слишком быстро, платком на клетку канарейки. Грохот поднялся вокруг: их, бегущих, косил огонь, стрелы огня. Земля взрывалась сзади и спереди, и он, переставляя тяжелые ноги, наклонившись вперед, с винтовкой наперевес, думал: вот вырвет снаряд клок из земли, и я туда упаду, вот и будет могила. Просто и удобно.
Страх. Где страх?
Страх исчез. Вместо него появилась тонкая и прозрачная, холодная ясность. Он бежал и глядел на все будто на просвет: он видел глубину вещей, видел сквозь мир – глубины земли, боль неба, потроха убитых товарищей: они падали, падали рядом с ним, прекращая бежать, кто со стоном, кто кричал, безобразно разевая рот, кто коротко ахал и падал навзничь, и глаза не закрывались, и мертвый продолжал в небо глядеть.
Он не видел ничего. Он бежал. Спирт горел в животе, в глазницах, на губах. Спирт, последний поцелуй пьяной жизни. А жизнь, да, ведь она окунает во хмель! Пьешь, все пьешь и не напьешься. Да никто никогда не напьется. Налей! Еще хочу!
– Еще хочу! ― дико закричал он.
И сам услышал свой крик.
«Кому это я?» ― подумал отчаянно. Бойцы рядом с ним падали и умирали.
А кто-то еще жил.
Он не видел, некогда было смотреть по сторонам; надо бежать, ― но остро понимал: не все, кто упал, умер сразу.
Замерзнут. Ночью ударит мороз. Ледяные глаза будут в небо глядеть. Ледяные губы – землю целовать.
Сейчас и я. Вот сейчас.
– За Родину! ― крикнул, и крик обжег глотку; и мгновенно охрип.
Потерял голос.
Рот раскрывал, а вместо крика – хрип.
Когда кричишь, легче бежать.
Легче умирать.
– За-а-а-а… Ста-ли-на-а-а-а-а…
Хрипи, хрипи, выталкивай из себя вон, в стену огня, свое последнее, живое.
Телами Москву заслоним.
Жизнями.
У них – железо, а у нас – жизни.
Смотри. Еще видят глаза.
Хрипи. Еще хрипит глотка.
Рядом с ним боец крикнул, гораздо звончей и громче, чем он: «За Сталина!» ― и краем глаза он успел схватить: Гошка Фролов, да, еще бежит, топает рядом.
Огонь на миг угас. Сейчас опять вспыхнет.
Грохот ударил по ушам, лицо опалило, и сознание отнялось.
Очнулся.
Не сразу понял, где он и что с ним.
Шею не повернуть. Больно.
Кое-как перекатился со спины на живот. Голову приподнял, тяжелее гири.
В воронке, вырытой мощным взрывом, лежали бойцы.
Не считай. Не надо.
Все твои.
Наши.
Катился вниз, все вниз и вниз, по плоской выемке ямины. Докатился донизу. И здесь тела. Снаряд попал в гущу бегущих солдат, и сейчас трупы валялись изуродованные – не узнать; не опознать. Пахло кровью. У крови есть запах. Он соленый и сладкий. От него – блевать тянет. Не смотри, говорил он себе, ползая между тел, не смотри, нельзя. Глаза зажмурил. Себя спросил: а ты, ты-то что, жив остался?
На дне воронки, между убитых, гладил руки и лица, касался одуревшими зрачками разбитых черепов. Гляди. Уж лучше гляди. У тебя есть память. Ты – запомнишь.
Зачем? Разве сегодня, сейчас меня не убьют?
Запомни на сегодня, на сейчас.
Сейчас – это почти вечность, если ты жив.
Навалился всем телом на мертвое тело. Уже остыл боец. Как быстро. Он горячий и живой, а труп ледяной. Негнущейся на морозе рукой повернул к себе голову. Голова уцелела, а живот разворочен осколком, и красно-синие кишки лежат смиренно, тихо, мертвые красные змеи: выползли наружу. Голова. Лицо. Полчаса назад это еще был человек.
И вдруг пошел снег.
Он шел с небес вниз, медленно и важно, а может, поднимался с земли – вверх, не понять. Сшивал нежной белой строчкой небо и землю. Синее мрачное небо и черную страшную землю. Белой, наивной ниткой сшивал.
Снег рос и рос, густел и густел, валил и валил, заслонил уже всю мрачную котловину боя чистой веселой белизной; и Коля облокотился на пропитанную кровью землю, локоть ушел в ее холодную мягкость и тьму, и задрал голову, запрокинул лицо, и открыл рот, и ловил, ловил снег губами, зубами, сердцем его ловил, ― и снег, осыпаясь с далеких небес, чуял Колино желание и прямо до сердца доходил, и холодом, легким и мятным, его омывал, крестил, и летели с неба белые звезды, тут же таяли на горячем лбу, на горячих руках, и только на горячем бешеном сердце – не таяли, становились бьющейся белой кровью, плачущей белой душой, клочком пара, что излетал из губ, со снегом смешиваясь, ― нежностью и памятью, и всякая ушедшая, погибшая жизнь незаметно и горько обращалась в снежинку, в сиянье, в легкое прикосновенье спокойной природы к воспаленному, мокрому от слез лицу: в благословенье.
Я не верую, Господи, в Тебя не верую.
Но вот я – видишь – живу.
Я жив. Убили всех.
И командира. И бойцов.
А я – жив.
И мы – взяли; что взяли?
Что мы у войны взяли? Высоту?
Это она – нас – взяла.
Себе в объятья.
Любовница.
Теперь каждому любовница – смерть.
Так все просто.
Снег шел и шел и засыпал его, и он – засыпал под снегом, сворачиваясь в звериный теплый комок, сминаясь, сжимаясь в снежный мокрый ком. Кожа голая, она не согреет его под шкурой шинели. Замерзнет он здесь. Какая разница, от мороза или от осколка умирать? Или от пули? От штыка? От мороза – слаще, горячее. Спишь, и сходит горячий сон.
И видишь во сне – девочку.
Маленькую девочку. Ромашку.
Она идет к тебе в венке из ромашек и поет песенку. Твою любимую.
― Не уходи… еще не спето столько песен…
Еще звенит в гитаре… каждая… струна…
Где страх?
Страха не было.
Куда-то убежал. Исчез.
Грохот продолжался там, далеко, над головой. На земле. В ином мире.
А он – под землей, в яме.
Сейчас его засыплет снегом, и поминай как звали.
Белизна. Покров.
– Мы Тарусу возьмем, ― сказал ледяными губами.
Поднялся на руках над смиренно лежащим рядом с ним телом.
Гошка Фролов глядел в небеса.
Лед синих радужек. Незнакомая улыбка. Удивление.
Гошка и мертвый не верил, что мертвый он.
Коля протянул красную на морозе руку, как у вареного рака клешню, и закрыл Гошке ледяные глаза.
Лежал бессильно, раскинув руки, повторяя мертвых.
Не понять, кто мертвый, кто живой.
Снег запорошил винтовку. Вечер катился бочонком пьяной тьмы. Он чувствовал себя внутри ямы, как в трюме. В сиротьем трюме земли. Главный груз – трупы.
Мы родились на земле, по ней ходим, и в нее ляжем. Все правильно.
Раньше или позже – это уже другой вопрос.
Стащил с головы каску. Накрыл ею лицо.
Подшлемник и железо пахли спиртом.
Они все пили спирт ровно час назад.
Его нашла сестричка медсанбата. Уже к утру.
Белый свет тек от снегов.
Сестричка шарила в яме лучом фонарика. Николай пошевелился. Сестричка ахнула, сползла в воронку, подхватила Колю под мышки. Она маленькая, а парень рослый. Как его до верха дотянуть? Надрывалась. Ревела. Слезы ладонью размазывала. Коля застонал и сказал:
– Пусти. Я контужен. Пуля меня обошла. Сам пойду.
Сестричка засмеялась от радости.
Они вместе ползли из ямы – наверх, к снегу, к звездам.
Выбрались. Коля повел головой – и увидел по полю: трупы, трупы.
Поле мертвецов.
– Ты это запомнишь? ― спросил, на медсестру не глядя.
– Да, ― сказала девочка, пряча седую прядь под ушанку.
«19 декабря 1941 года сорок девятая армия под командованием генерал-лейтенанта Ивана Григорьевича Захаркина взяла Тарусу и двинулась на Калугу и Малоярославец».
Из военных сводок зимы 1941 – 1942 гг.
Ник с гитарой около портрета боцмана на «Дежневе».
Февраль 1942 года
Диксон
Его перевели с Тихого океана на Северный морской путь.
Из тепла – да в холодище.
Все тут, как он и воображал: льдины до облаков, ночное небо – сажа и ультрамарин, торосы встают то ножами, то веерами. Вечерами на западе прорезает синь и черноту плотных туч ярко-алая, слепящая полоса страшного заката. Такой закат увидишь однажды – и больше никогда видеть не захочешь. А тут он каждый вечер.
Так жизнь падает в ночь. Неотвратимо.
На Севере он лучше и безусловнее ощутил смерть. Не разрывы снарядов, не дикий вой авианалета, не грохот разорвавшейся бомбы – там, под Москвой, все ясно было, понятно, откуда ноги у смерти растут. Здесь все в полном молчании. Лишь ветер свистит в ушах. А море – безмолвно. Смерть вырастает не рогатой миной из-под воды, не серой бесшумной акулой вражеской торпеды: она наваливается кровавым закатом, наступает мощной чернотой всепоглощающей полярной ночи.
Полярная ночь. Тьма круглые сутки. Немного светает в полдень, и опять падаешь в черную пропасть. И она колышет тебя, баюкает на черной волне.
На корабле ты все время занят; но и работе приходит конец, а собираются моряки в кают-компании – время скоротать.
Крюков тоже в кают-компанию идет. Лица новой команды уже родные. И вот чудеса – командир корабля – тот же самый капитан Гидулянов, что на «Точном» у них был! Их обоих на «Дежнев» перевели.
Коля не знал: прежнего капитана «Дежнева» убили. Он подорвался на немецкой мине. На сторожевом катере. Ему оторвало ноги, и он, с кровоточащими обрубками, еще долго держался на воде, улыбался тонущему катеру, облакам, льду, последнему небу.
Вот Гидулянов – на его месте.
И никто не знает, кого убьют завтра.
Смерть приходит с черного неба. Она одета в красный балахон заката и с виду совсем не страшна. У нее глаза – колкие звезды, а волосы – Сиянье.







