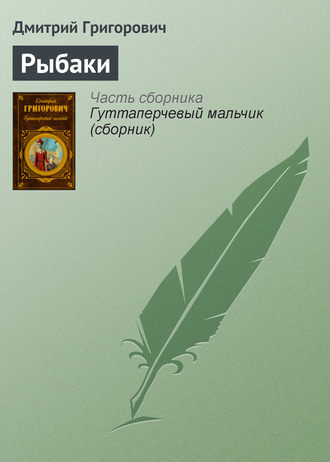
Д. В. Григорович
Рыбаки
XXVIII
Отсутствие Захара продолжалось долее, чем он предполагал. Так по крайней мере показалось Гришке, который дрожал столько же от страха, сколько от стужи. В каждом звуке: в шорохе соломы, приподымаемой порывами ветра, в шуме воды, которая, скатываясь с кровель, падала в ближайшие лужи, поминутно слышались ему погоня и крики, звавшие на помощь. Он скорчивался тогда в три погибели, плотнее припадал к плетню и мысленно проклинал Захара, – проклинал час, в который вышел из дома. Несколько раз намеревался он пуститься в бегство; но каждый раз чувство ложного стыда и ложной совестливости удерживало его на месте. К этому примешивалось также другое чувство: он боялся этим поступком вооружить против себя Захара. Разрыв с Захаром казался ему теперь страшнее всего на свете. Он столько же боялся последствий такого разрыва, сколько одиночества.
Голос Захара, раздавшийся где-то неподалеку, мгновенно возвратил приемышу часть его смелости. Он выбрался из-под плетня и стал на ноги. Шаги приближались в его сторону; секунду спустя тихо скользнул деревянный засов, запиравший изнутри задние ворота «Расставанья», подле которого находился приемыш.
– Что тут много разговаривать! Надо сперва поглядеть, – послышался сонливый, гнусливый голос, по которому Гришка тотчас же узнал Герасима.
– Экой ты, братец мой, чудной какой, право! Чего глядеть-то? Веди, говорю, на двор: там, пожалуй, хошь с фонарем смотри. Как есть, говорю, первый сорт: Глеб Савиныч худого не любил, у него чтоб было самое настоящее. И то сказать, много ли здесь увидишь, веди на двор! – пересыпал Захар, точно выбивал дробь языком.
– Что вести-то! Может, еще не по цене, – промямлил целовальник и, не обращая внимания на дальнейшие замечания Захара, подошел к Гришке.
– Твоя животина? – спросил он, принимаясь ощупывать бока вола, который очень охотно поддался такому осмотру.
– Он хозяин, – живо подхватил Захар, – я так, примерно, для компанства.
– Какая же цена твоя? – спросил Герасим, обращаясь к приемышу.
– Да какая… я что… – начал было Гришка.
Но Захар тотчас же перебил его.
– Десять целковых, одно слово, – сказал он решительным тоном.
– Нет, что тут! Пожалуй, с вами еще беду наживешь, – флегматически произнес Герасим.
– Какую такую беду?
– Никак Глеб не держал скотины. Кто вас знает, где вы ее взяли! – добавил целовальник, отворачиваясь и делая вид, будто хочет уйти.
– Ну, вот, поди ж ты, толкуй поди с ним! Эх, дядя, дядя! – воскликнул Захар, удерживая его. – Ведь я ж говорю тебе – слышишь, я говорю, перед тем как помереть ему, купил в Сосновке у родственника: хотел бить на солонину.
Тут Захар украдкой толкнул Гришку в спину.
– Точно… на солонину… это точно… – повторил Гришка, которым овладела вдруг, ни с того ни с сего, поперхота.
– Все одно, цена несходная, – флегматически возразил Герасим.
– Сколько ж, по-твоему?
– Пять целковых.
– Нет, милушка, тридцать лет поживешь, такой цены не найдешь! Когда так, мы лучше погодим до ярмарки: в том же Комареве двадцать целковых дадут.
– Ваше счастье. Ступайте.
– Мы насчет, то есть, примерно, тебе хотели сделать в уваженье.
– Мне не надо.
– Да ты скажи настоящую цену?
– Не надо, – проговорил целовальник, снова поворачиваясь к воротам.
– Погоди, постой!
Захар подбежал к Герасиму, пригнулся к его уху и шепнул скороговоркою:
– Ну, чего ты ломаешься? Ведь деньги-то опять к тебе придут!
– Ты-то из чего хлопочешь? – громко возразил целовальник. – Сбыть скорей с рук хочется. Видно, взаправду заморенная какая скотина-то.
– Ах! Э! Поди вот толкуй с ним! Эх ты! – воскликнул Захар, отчаянно ударяя ладонями по полам рубахи, с которой вода текла как из желоба.
– Вот тут у меня гуртовщики стоят: их, что ли, порасспросить, – сказал Герасим, умышленно растягивая каждое слово. – Я в этом товаре толку не знаю. Их нешто привести – поглядеть.
– Нет, нет, не надо! – подхватил Гришка, поспешно подходя к Герасиму. – Пожалуй, бери за пять целковых… бери…
– Что ты станешь делать! Э! Была не была! – снова воскликнул Захар. – Хозяин поддался, стало, мне тут нечего: веди на двор!.. Гришка, гони быка на двор! – заключил он, бросаясь отворять ворота.
Минуту спустя животное стояло под навесами в одном из задних углов, неподалеку от большой лодки.
– Ну, давай деньги! – сказал Захар, как только Герасим запер ворота.
– Экой прыткий! А подписку-то? – флегматически заметил целовальник.
– Какую тебе еще подписку?
– Без того не возьму; подписку надо от хозяина: может, бык-ат у вас краденый… я почем знаю…
– Экой… ах, братец ты мой, чудной какой, право! Говорят, купил в Сосновке, на солонину… Чего ж тебе еще?
– Я этого не знаю.
– Фу ты!.. Эх!.. Гришка, никак, ты грамоте обучался; развяжись, братец мой, подпиши поди.
– Знал, да забыл… как есть забыл… – торопливо отозвался приемыш, который все это время находился позади Захара и целовальника.
– Можно и без него, – лениво промолвил Герасим, – никак, в кабаке сидел Ермил-конторщик: пожалуй, он подпишет… Без того не возьму… ведите куда хотите.
– Так, стало, пять целковых? По рукам, что ли? Пять целковых и магарычи!
– Не мое дело: кто продавал, с того и магарычи, – как словно нехотя проговорил Герасим, подымаясь на крылечко, служившее сообщением между двором и известною уже галереей.
Тут целовальник сказал, чтобы спутники его шли в харчевню, а сам, повернувшись лицом к избе, противоположной этому зданию, закричал протяжным голосом:
– Матрена-а… Матрена-а-а!
Немного погодя босые ноги хозяйки Герасима торопливо застучали по деревянному помосту галереи, и она вся впопыхах остановилась перед мужем.
– Сбегай в кабак, Ермила-конторщика позови; скажи, хозяин, мол, требует; в харчевне, скажи… да принеси бумажки лоскуток, чернильницу захвати… ступай!..
И, как бы утомленный такой длинной речью, Герасим медленно, едва передвигая ноги, подошел к двери харчевни. Он провел тут несколько минут, но, сколько ни напрягал свой слух, ничего не мог расслышать из разговора приятелей, кроме того разве, что Захар называл товарища соломенной душой, фалалеем, смеялся и хлопал его по плечу, между тем как Гришка ругал его на все корки.
Герасим, шмыгнув раза два по полу котами, вошел в харчевню.
Почти вслед за ним явилась жена со свечой, клочком бумаги и пузырьком с чернилами, из которого выглядывал обглодок пера; за нею вошел Ермил-конторщик. То был низенький оборванный человек в синеватом сюртуке, пережившем несколько владельцев, с таким крутым и высоким воротником, что лысая голова Ермила выглядывала из него, как из кузова кибитки; крупный рдеющий нос определял пьянчужку с первого взгляда.
Герасим передал ему в коротких словах сущность дела.
– Что ж, можно, с нашим великим удовольствием, только бы вот молодцы-то, – промолвил Ермил, прищуривая стеклянные глаза на Гришку и Захара, – было бы, значит, из чего хлопотать… Станете «обмывать копыта»[14], меня позовите…
– Ладно, катай! – сказал Захар.
– Извольте, извольте, с нашим удовольствием, – шутливо вымолвил Ермил.
Затем немедленно он сел за стол и, вынув из пузырька обглодок пера и пригнув лысину к левому плечу, принялся выводить каракули.
Присутствующие пододвинулись, кроме Гришки, который стоял на прежнем своем месте и время от времени поглядывал с явным беспокойством на дверь.
По мере того как слова являлись на бумаге, Ермил произносил их во всеуслышание.
– «Я, нижеподписавшийся, сим свидетельствую, – читал Ермил, владевший, по-видимому, большим навыком в такого рода делах, – свидетельствую, что продал комаревскому целовальнику Герасиму Павлову быка; бык же сей получил я по наследию от покойного родителя моего, рыбака Глеба Савинова…»
– Купил, слышь, на солонину, – неожиданно перебил Захар.
– Это не наше дело, – вымолвил целовальник.
– Это он точно, – заметил Ермил, – это здесь несоответственно. «Деньги же с него, целовальника Герасима Павлова…» Сколько денег-то?
– Пять целковых, – сказал Герасим.
– «Деньги сполна полу…»
– Нет, погоди, стой! – закричал Захар. – Давай наперед деньги.
– Чего ты орешь-то! Отдам, – промолвил Герасим.
– Ну, и отдавай, когда так: нам не верил, и мы те не верим! – промолвил Захар.
Целовальник медленно повернулся и вышел из харчевни. Захар остановил его на пороге и велел захватить в счет два штофа.
Минут пять спустя вернулся целовальник в сопровождении жены, которая держала два штофа и стаканы. Захар поспешно завладел деньгами: сосчитав их на ладони, он кивнул головою Герасиму и подмигнул Гришке, который не обратил на него внимания; глаза и слух приемыша казались прикованными к выходной двери харчевни.
– Теперь пиши сколько хошь! – сказал Захар, обращаясь к Ермилу и запрятывая в карман деньги.
Ермил снова помакнул перо и продолжал:
– «Деньги же пять рублей серебром сполна получил, в чем и подписуюсь. За незнанием грамоты руку приложил отставной приказный Ермил Акишев».
– Погоди, – сказал целовальник, – подпиши уж ты и за свидетеля.
– А как, примерно, насчет, то есть, водочка будет, Герасим Павлыч? – спросил Акишев, лукаво прищуривая левый глаз.
– Будет.
– Самое, выходит, любезное дело, когда так, – подхватил Ермил.
И тотчас же подмахнул:
– «При сей продаже свидетелем был отставной приказный Ермил Акишев, в чем и руку приложил…»
– Ну, давайте, братцы, обмывать копыта, я свое дело исполнил, за вами дело, – проговорил Ермил, придвигаясь к штофам, которые привлекательно искрились перед огарком. – Что это товарищ твой невесел? Парень молодой – с чего бы так? – присовокупил он, посматривая на Гришку, между тем как Захар наливал стаканы.
– Скучает все по покойнике, братец ты мой; известно, жаль! – подхватил Захар.
Он подошел к Гришке и торопливо шепнул ему что-то на ухо; тот тряхнул волосами, приблизился к столу, взял стакан, залпом выпил вино, сел на лавку и положил голову в ладонь.
– Ну… ну, бывайте здоровы! – произнес Ермил, принимая стакан из рук Захара и медленно, как бы боясь пролить каплю, поднес вино к синим губам своим.
– Полно, Гришуха! Не воротишь, одно слово – не воротишь! У меня вот отца и матери нет; кабы не величали Силаичем, не знал бы, как и отца-то звали: сирота круглый, значит, все единственно, – а вишь, не тужу! – заговорил Захар, успевший уже опорожнить шкальчик и пододвигая Гришке штоф. – Ну-кась, тяпнем-ка по чарочке, с горя! Тяпнем за все хвосты!.. Ну, а вы-то что ж… Дядя Герасим! Хоша ты подвел нас, обмишулил, надул, все единственно – нам это наплевать! Мы зла не помним, Ермил, пейте же, чего стали!.. Эх, нет у меня гармонии! – подхватил Захар, воодушевляясь и ударяя кулаком по столу. – То-то бы повеселил честную компанию… эхма!..
Захар закинул при этом назад голову, кашлянул и затянул тоненьким, пронзительным дискантом своим:
Попила-то моя головушка,
Попила-то, погуляла-а-а!..
И, эх, хотят-то меня, добра молодца,
Поймати у прилуки, у моей сударышки,
У милушки у Аннушки… и! и!..
– Что ж вы, ребята, подтягивай!
– Ты потише, брат, – равнодушно сказал Герасим, готовившийся уже выйти из харчевни.
– А что?
– Да то же, что тише; приходи завтра – нонче нельзя, – возразил Герасим, которым снова овладели вялость и сонливость, как только окончилась сделка.
– Это еще по какому случаю? – спросил удивленный Захар.
– Нельзя, да и только, вот те и все тут; ступайте вон! – вымолвил целовальник, направляясь к двери.
Захар разразился было бранью, но Ермил Акишев поспешил удержать его.
– Малый, удалая голова, не шуми! – сказал он. – Не годится – по той причине не годится, слышь: с утра суд ждут; того и смотри, наедет. Михайла Иваныч давно здесь.
– Какой Михайло Иваныч?
– А становой!
При этом известии Гришка поднял голову, и лицо его побледнело как полотно.
Захар опустил стакан.
– Суд… зачем? – спросил он, значительно понижая голос, но стараясь сохранить спокойный вид.
– Покража случилась: фабриканта Никанора обокрали, – отвечал Ермил, приподымаясь с места.
Захар не расспрашивал дальше: на этот раз смущение овладело им столько же, сколько и самим Гришкой. Он торопливо забрал штофы и последовал за Ермилом, приемышем и целовальником, которые выходили из харчевни.
Задние ворота «Расставанья» открывались только в экстренных случаях. Гришке и Захару предстояло выйти из заведения не иначе, как через кабак.
В кабаке было немного народу, но тем не менее шел довольно живой разговор. Обкраденный фабрикант служил предметом беседы.
– Так как же, Кузьма Демьяныч, как, по-твоему, что с ними теперь будет? – спрашивал один из присутствующих, обращаясь к старику, занимавшему середину кружка.
– А что будет – известно что: за некошное дело будет поученьице тошное… знамо, спасибо не скажут.
– И будь без хвоста, не кажись кургуз, умей концы хоронить! – произнес кто-то.
– Вот так уж сказал! Ты думаешь, концы схоронил, так и прав вышел? Нет, брат, нонече не так: ночью сплутовал – день скажет; на дне морском, и там не утаишь концов-то. В неправде-то сам бог запинает… везде сыщут.
– И слава те господи!
– Ненаказанный не уйдет!
– Поделом: не воруй! – сказал высокий черноволосый человек в синей мещанской чуйке.
– Что больно сердит?
– Видно, самого обокрали: он и серчает.
– Было всего, – начал высокий человек, – гнал это я – вот все одно, как теперь, – гнал гурты: мы больше по этой части; сами из Москвы, скупаем товар в Воронеже. Так вот раз увели у меня вола.
– Как так?
– Да так, взяли и увели: дело было ночью.
– Эки мошенники!
– Ну, так что ж?
– Вестимо, не сидел скламши руки. Стоял это я подле села, под Рязанью: я к становому. Ну, спасибо ему, заступился; сейчас же кинулись это в кабак – тут и взяли.
– Ну, то-то вот и есть! Как не найти! Везде найдут. На дне окияна-моря, и там сыщут.
Мороз пробежал по всем суставчикам приемыша, и хмель, начинавший уже шуметь в голове его, мгновенно пропал. Он круто повернул к двери и шмыгнул на улицу. Захар, больше владевший собою, подошел к Герасиму, успевшему уже сменить батрака за прилавком, потом прошелся раза два по кабаку, как бы ни в чем не бывало, и, подобрав штофы под мышки, тихо отворил дверь кабака. Очутившись на крыльце, он пустился со всех ног догонять товарища.
Буря как словно приутихла. Дождь по крайней мере лил уже не с такою силою, и громовых ударов не было слышно. Один только ветер все еще не унимался. Унылый рев его, смешиваясь с отдаленным гулом волнующейся реки, не заглушаемый теперь раскатами грома и шумом ливня, наполнял окрестность.
Гришка дохнул вольнее не прежде, как когда вышел из Комарева и очутился в лугах. Он не убавлял, однако ж, шагу; забыв, казалось, о существовании Захара, он продолжал подвигаться к реке, то бегом, то медленно, то снова пускаясь бежать. В голове его была одна только мысль: он думал, как бы поскорее добраться домой. Время от времени в смущенной душе его как будто просветлялось, и тогда он внутренне давал себе крепкую клятву – никогда, до скончания века, не бывать в Комареве, не выходить даже за пределы площадки, жить тихо-тихо, так, чтоб о нем и не вспоминал никто. Но как быть с Захаром? Куда деть его? Он все дело погубит!.. При этом Гришка мысленно возвращался к Комареву, «Расставанью», прежней беспорядочной жизни и, наконец, к происшествию настоящей ночи. Встревоженное воображение приемыша рисовало те же полные ужаса картины, которые преследуют людей, имеющих причины бояться правосудия. Холод проникал его насквозь. Ноющая тоска, тяжкое предчувствие, овладевшее им в то время еще, как он выходил из избы, давили ему грудь и стесняли дыхание: точно камень привешивался к сердцу и задерживал его движение. Он не был в состоянии разъяснить себе своих мыслей. Смутно, бессознательно проносилось тогда в душе его что-то похожее на раскаянье; но раскаянье, внушенное в минуты страха, ненадежно. В душе парня снова делалось темно, как ночью после зарницы. Услышав за собою голос Захара, он остановился, столько же из опасения, чтобы кто-нибудь не услышал товарища и не пустился следить за ним, столько же и потому, что чувство одиночества казалось невыносимым. Он обрадовался бы теперь обществу маленького ребенка. При всем том во все продолжение пути он слова не сказал Захару. Он ограничился тем только, что шел подле. Обогнув на значительное расстояние костер, который все еще пылал у опушки, они достигли наконец кустов ивняка.
Встревоженные чувства приемыша заметно успокоились, когда он продрался вместе с Захаром в кусты. Кусты эти могли служить даже среди белого дня надежным убежищем от преследований. Забравшись в самую середину чащи, приятели остановились, как бы по условному знаку. Захар предложил выпить для смелости. Гришка молча взял штоф и поспешил привести в действие совет; в горле его и груди было сухо: после первых глотков он почувствовал уже облегчение – даже душа его как будто окрепла. Захар пил между тем из другого штофа, и таким образом оба значительно поубавили вина.
Переезд через Оку совершился благополучно: и люди и штофы вышли на берег невредимы. Подымаясь по площадке, Захар насвистывал уже песню. Гришка между тем, опередивший своего товарища, стучал кулаками в ворота.
– Что без толку шумишь-то? Ай кулаки-то наемные? – сказал Захар, на которого хмель действовал, по привычке вероятно, не так сильно, как на приемыша.
Он приблизился к воротам, нащупал веревочку, перекинутую через перекладину, потянул ее книзу и припер плечом ворота, которые тотчас же отворились.
– Вот тут стучи, пожалуй, коли есть охота: заперлись изнутри! – промолвил Захар, когда он и Гришка поднялись на крылечко. – Эк их заспались как! Все с горя, должно быть!.. Гей! Гей! Отворяй!..
Но Захар ошибся, потому что с первыми словами его в сенях раздались торопливые шаги и дверь отворилась.
– А-а-а! Авдотья Кондратьевна! Маленько как будто потревожили вас… Прости, милая! Как быть! С делами не справились! – воскликнул Захар.
– Что те не докличешься?.. Лучину! – сурово сказал Гришка, входя в сени.
– О-о-о! – густым басом подхватил Захар, передразнивая приемыша. – Сейчас видно, хозяин пришел. Эх ты! Женка-милушка встречает, дверь отворяет – чем бы приласкать: спасибо, мол, любушка-женушка, а он… Эх, ты, лапотник!.. Ну, пойдем, пойдем, – смеясь, примолвил он, пробираясь с Гришкой в избу.
– Кто там? – раздался голос с печки, как только переступили они порог.
– Хозяин пришел, касатушка-бабушка! – шутливо отозвался Захар.
– Мать наша, пречистая пресвятая богородица, спаси и помилуй нас, грешных! – простонала со вздохом старушка.
– Ну, скоро, што ль? Огня давай! – нетерпеливо крикнул Гришка, топнув ногою.
– Полно тебе! Ну, что ты вправду: о! да о! Что орешь-то! Дай срок. Авдотья Кондратьевна, може статься, не найдет… спросонья-то… Постой, милая, я подсоблю, – заключил Захар, ощупывая стены и пробираясь к Дуне.
Но в ту же минуту подле печки сверкнул синий огонек. Бледное, исхудалое лицо Дуни показалось из мрака и вслед за тем выставилась вся ее фигура, освещенная трепетным блеском разгоревшейся лучины, которая дрожала в руке ее. Защемив лучину в светец и придвинув его на середину избы, она тихо отошла к люльке, висевшей на шесте в дальнем углу.
Не обратив на нее внимания, а также и на тетушку Анну, которая слезала с печи, Гришка подошел к столу, сел на скамье подле окна и, уперев на стол локти, опустил голову в ладони.
– Э-эх! – воскликнул с притворным вздохом и жестом Захар, который не переставал до сих пор щурить соколиные глаза свои на Дуню.
Он приблизился к столу, поставил штофы, подсел к приемышу и дружески ударил его по спине.
Увидев штофы, тетка Анна сделала несколько шагов вперед, всплеснула руками и мгновенно разразилась градом упреков и жалоб.
В ответ на это Захар оглянул старушку с головы до ног и залился тоненьким смехом.
Выходка эта окончательно взорвала старуху. Но Захар и Гришка продолжали делать вид, как будто не замечают ее. Каждый попивал из своего штофа, но с тою разницею, однако ж, что приемыш, по мере того как исчезало вино, делался более и более сумрачным, тогда как Захар веселел с каждой минутой. Под конец он вступил даже в объяснения с тетушкой Анной. Отвечая на каждое ее слово скоморошной какой-нибудь выходкой, он нередко в то же время обращался к Дуне, которая изредка выглядывала из-за люльки и подымала кроткий, дрожащий голос, стараясь уговорить старушку.
– Слышь, тетка, Авдотья Кондратьевна настоящее тебе говорят: полно надсажаться… Эх, пустая какая!.. Ну, за что ты ругаешься? За что? Ой ли? Да рази мы пьянствуем! Так ли пьянствуют-то? Охота горло драть… к тому и года твои старые, слышь: покой требуется… – говорил, посмеиваясь, захмелевший уже Захар, между тем как старуха надрывалась, осыпая его бранью и всевозможными проклятиями. – Ой, перестань, право-ну, перестань! Лучше бы вот к нам подсела: знамо, горлышко промочить; оно же у тебя звонкое такое!.. Авдотья Кондратьевна! Эх, памятна ты, милая! Полно серчать-то. Ну, что! Садись, право, садись… А уж какую бы я вам песенку спел! И-их! Одно слово: распотешу!.. – заключил Захар.
И, уперши кулаками в бока, тряхнув молодцевато волосами, Захар запел, подмигивая Дуне:
Что ты, Дуня, приуны-ы-ла?
Воздохнула тяжело?
Раздушенька вспомянула
Любезного своего…
Дуня вынула из люльки спавшего ребенка, подошла к старухе и, взяв ее за руку, принялась увещевать ее.
– Уйдем, матушка, перестань… оставь их… пойдем лучше посидим где-нибудь… что кричать-то… брось… они лучше без нас уймутся… – шептала она, силясь увести старушку, которая хотя и поддавалась, но с каждым шагом, приближавшим ее к двери, оборачивалась назад, подымала бескровные кулаки свои и посылала новые проклятия на головы двух приятелей.
– Куда вы? – крикнул было Захар, неожиданно прерывая свою песню.
Но Дуня захлопнула дверь за собою и старухой.
– А ну вас, когда так! – подхватил Захар, махнув рукою и опуская ее потом на плечо Гришки, который казался совершенно бесчувственным ко всему, что происходило вокруг. – Пей, душа! Али боишься, нечем будет завтра опохмелиться?.. Небось деньги еще есть! Не горюй!.. Что было, то давно сплыло! Думай не думай – не воротишь… Да и думать-то не о чем… стало, все единственно… веселись, значит!.. Пей!.. Ну!.. – заключил Захар, придвигая штоф к приятелю.
Но речь Захара не произвела никакого действия на товарища. Он сидел по-прежнему, подпершись локтем и опустив голову. Он не заметил даже, по-видимому, отсутствия жены и старухи.
Захар веселел с каждым новым глотком. Прошел какой-нибудь получас с тех пор, как ушли женщины, но времени этого было достаточно ему, чтобы спеть несколько дюжин самых разнообразнейших песен. Песни эти, правда, редко кончались и становились нескладнее; но зато голос певца раздавался все звончее и размашистее. Изредка прерывался он, когда нужно было вставить в светец новую лучину. Он совсем уже как будто запамятовал происшествие ночи; самые приятные картины рисовались в его воображении…
Приемыш не принимал ни малейшего участия в веселье товарища. Раскинув теперь руки по столу и положив на них голову свою с рассыпавшимися в беспорядке черными кудрями, он казался погруженным в глубокий сон. Раз, однако ж, неизвестно отчего, ветер ли сильнее застучал воротами, или в памяти его, отягченной сном и хмелем, неожиданно возник один из тех страшных образов, которые преследовали его дорогой, только он поднял вдруг голову и вскочил на ноги.
– Где они? Где? – проговорил он, оглядывая избу шальными, блуждающими глазами.
– Ушли, брат! – смеясь, отвечал Захар. – Ну их совсем! Ломаются – не таковские!
– Куда? Где? Куда ушли? – крикнул Гришка, сурово отталкивая Захара и выходя из-за стола.
Хмель совсем уже успел омрачить рассудок приемыша. Происшествие ночи живо еще представлялось его памяти. Мысль, что жена и тетка Анна побежали в Сосновку, смутно промелькнула в разгоряченной голове его. Ступая нетвердою ногою по полу, он подошел к двери и отворил ее одним ударом. Он хотел уже броситься в сени, но голос старухи остановил его на пороге и рассеял подозрения. Тем не менее он топнул ногой и закричал во все горло:
– Сюда ступайте! Сюда!
– Не ходи, родная, не ходи, ни за что не ходи! – воскликнула старушка, удерживая, вероятно, Дуню.
– Сюда ступай, коли хочешь быть цела! Сюда, говорю! – бешено закричал Гришка.
– Не ходи, Дунюшка! Не бойся, родная: он ничего не посмеет тебе сделать… останься со мной… он те не тронет… чего дрожишь! Полно, касатка… плюнь ты на него, – раздавался голос старушки уже в сенях.
Но так как увещевания эти ни к чему, видно, не служили, тетушка Анна бросилась вслед за Дуней, опередила ее, и не успела та войти в двери, как уже старуха влетела в избу и остановилась перед Гришкой.
– Чего тебе, разбойник, от нее надыть? – воскликнула она, заслоняя Дуню, которая тщетно старалась войти в двери. – Зачем она тебе? Погибели ее хочешь, что ли, злодей ты такой!
– Молчи! – сурово произнес Гришка, отталкивая ее руку.
Голос старухи вдруг оборвался, и она зарыдала; но это продолжалось одну секунду. Она снова заслонила Дуню, стоявшую в дверях со спавшим на груди ее младенцем, и подхватила с возраставшим негодованием:
– На кого руку-то поднял, вспомни! Вспомни, кому грозишь-то! Злодей ты, злодей этакой! Ведь я тебя, злодея, на руках на своих выносила! Вспомни ты это! Думаешь, боюсь я тебя? Не дам я ее, не дам тебе! Чего тебе от нее надо? Чего? Аль мало тебе, утопил нас в слезах горьких; погибели нашей хочешь, злодей ты этакой! Постойте, я найду еще суд на вас обоих, нехристей окаянных. Свет не без добрых людей! – подхватила она, отчаянно махая руками и обращаясь то к приемышу, то к Захару, который покачивался подле печки. – Вы думаете, я ничего про вас не ведаю? Погодите, вас спросят еще, где вы вино-то взяли: ведь денег-то у вас давно нету… Сама доведаюсь, сама спрошу пойду, душегубцы вы, нехристи! Завтра же схожу в Комарево… У всех стану спрашивать…
При этом Гришка, сделавший уже несколько шагов к столу, бросился со всех ног к старухе и бешено замахнулся.
В ту же самую минуту на дворе раздались голоса.
– Здесь! Не зевай, ребята, здесь! – закричал кто-то в сенях.
Гришка не успел прийти в себя, как уже в дверях показалось несколько человек. Первое движение Захара было броситься к лучине и затушить огонь. Гришка рванулся к окну, вышиб раму и выскочил на площадку. Захар пустился вслед за ним, но едва просунул он голову, как почувствовал, что в ноги ему вцепилось несколько дюжих рук.
– Гришка! – крикнул он отчаянно.
Но ответа не было.
– Ребята! – кричал один из молодцов, державших Захара. – Один дал тягу, в окно выскочил, беги за ним! Живей, ребята! Другого уж сцапали… Тащи его, ребята!
Два человека стремглав пустились из избы. Остальные вцепились еще крепче в Захара и, несмотря на то что он бился, как белуга, попавшаяся в невод, втащили его в избу.
– Батюшки! Караул! Разбойники! – вопила тетушка Анна.
– Засвети огня, огня! – подхватило несколько голосов.
– Слышь, огня давай! Добрым словом говорят! – произнес кто-то над самым ухом старухи. – Каких тут нашла разбойников? Не разбойники – пришли за разбойниками – вот что! Ну, живо поворачивайся… Огня, говорят!
– Да кто ж вы, батюшка… О-ох! Какие такие? Ох! С нами крестная сила! Дайте хоть ребенка-то положить, – заговорила Анна, перебегая от люльки к печке.
– Ну, живо! Живо! Вздуешь огня, сама увидишь, какие такие… Крепче держи его, ребята: извернется – уйдет; давай кушак… вяжи его.
Послышалась свалка, сопровождаемая ударами и бранью. Но сила Захара ничего не могла значить перед силой пятерых дюжих молодцов. Когда старушка подошла с лучиной, он стоял уже окрученный по рукам.
– Так вот вы зачем! Вяжите его, отцы! Вяжите его, разбойника: он самый и есть злодей! – завопила Анна, после того как один из присутствующих взял из рук ее лучину и защемил ее в светец. – Всех нас погубил, отцы вы мои! Слава те господи! Давно бы надыть! Всему он причиной; и парня-то погубил…
Старушка ударилась в слезы.
– Не верьте ей, братцы, не верьте! Она так… запужалась… врет… ей-богу, врет! Его ловите… обознались… – бессвязно кричал между тем Захар, обращая попеременно то к тому, то к другому лицо свое, обезображенное страхом. – Врет, не верьте… Кабы не я… парень-то, что она говорит… давно бы в остроге сидел… Я… он всему голова… Бог тебя покарает, Анна Савельевна, за… за напраслину!
– Отцы вы мои! Отсохни у меня руки, пущай умру без покаяния, коли не он погубил парня-то! – отчаянно перебила старушка. – Спросите, отцы родные, всяк знает его, какой он злодей такой! Покойник мой со двора согнал его, к порогу не велел подступаться – знамо, за недобрые дела!.. Как помер, он, разбойник, того и ждал – опять к нам в дом вступил.
– Что же это в самом деле, братцы! Ведь это разбой, все единственно! – кричал Захар, ободряясь. – За что связали? Должны наперед спросить… Федот Кузьмич! Вступись! – подхватил он ласковее. – Вступись, знакомый человек! Ты меня знаешь… встречались… помнишь? Федот Кузьмич!
– Ладно, брат, там разберут; вишь, нашел какого знакомого? Федот Кузьмич! Слышь! – смеясь, отвечал Федот Кузьмич. – Крепче держи его, ребята! Там рассказывай, как придем; там вас разберут, что куда принадлежит.
– Отцы вы мои… Ох! Да что ж такое они наделали? Что прилучилось-то? – спросила тетушка Анна, неожиданно прерывая рыдания.
– Быка увели, обокрали вот этого молодца, – возразил Федот Кузьмич, указывая головой на высокого, плечистого мужика в синей чуйке, державшего Захара за ворот.
– Царица небесная! То-то вот! Я как вино-то увидела… ох, словно сердце мое чуяло… не добром достали вино-то!.. Да как же это, родной?.. Ох, батюшки!
– А так же, что этот вот мошенник калякал с работниками на лугу, а тот быка уводил: «Я, говорит, портной; портной, говорит, иду из Серпухова!» – смеясь, отвечал Федот Кузьмич. – И то портной; должно быть, из тех, что ходят вот по ночам с деревянными иглами да людей грабят.
– Отсохни руки и ноги, коли не по наговору! Меня там вовсе и не было; спроси хоть в Комареве, – быстро заговорил Захар.
– Ладно, там скажешь…
– Ну, пойдемте, братцы! – перебил гуртовщик.
– Нет, погоди, надо другого дождаться; далеко не убежит: парни ловкие – догонят!.. Слышь, еще и расписку целовальнику дали! – подхватил словоохотливый Федот Кузьмич. – «Так и так, говорят, бык достался, вишь, по наследию от отца-покойника…»
– Батюшка! Да у нас и в заводе скотины-то не было! Отродясь и не держали! – воскликнула Анна.
– Мы их и в кабаке-то нонче видели.
– Когда ты меня видел? В кое время? Меня там и не было! – произнес Захар.
Не обращая на него внимания, словоохотливый Федот Кузьмич рассказал старухе, как гуртовщик, отправляясь с другими работниками на ночлег в избу целовальника, услышал под навесом рев быка, как, движимый подозрением, спустился на двор с работниками, отыскал животное, убедился, что бык точно принадлежал ему, и как затем побежал к становому, который, к счастию, находился в Комареве по случаю покражи у фабриканта. Далее Федот Кузьмич сообщил о том, как становой, собрав понятых, вошел в кабак, допросил целовальника и как целовальник тотчас же выдал воров, показал расписку, пояснил, откуда были воры, и рассказал даже, где найти их.






