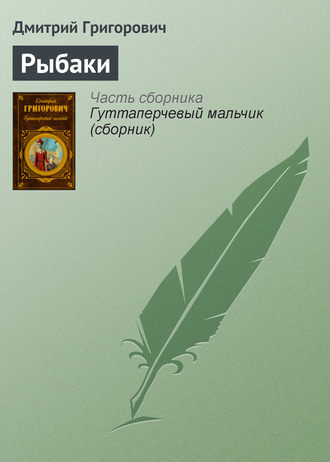
Д. В. Григорович
Рыбаки
Часть третья
XVI
Сын рыбака
– Полно, говорю! Тут хлюпаньем ничего не возьмешь! Плакалась баба на торг, а торг про то и не ведает; да и ведать нет нужды! Словно и взаправду горе какое приключилось. Не навек расстаемся, господь милостив: доживем, назад вернется – как есть, настоящим человеком вернется; сами потом не нарадуемся… Ну, о чем плакать-то? Попривыкли! Знают и без тебя, попривыкли: не ты одна… Слава те господи! Наслал еще его к нам в дом… Жаль, жаль, а все не как своего!
Так говорил Глеб Савинов жене вскоре после отъезда сотского.
Разговор происходил между задними воротами и плетнем огорода, в известном проулке; тут, кроме старого рыбака и жены его, никого не было. Глеб после ужина, на котором присутствовал, между прочим, и сотский, приказал тотчас же всем ложиться спать, а сам, подмигнув украдкою жене, отправился с нею на совещание. На дворе царствовал совершеннейший мрак. Месяц, подымавшийся багровым шаром в отдаленном горизонте, не разливал почти никакого света: Глеб и Анна с трудом различали черты друг друга. Никто, может статься, не смыкал глаз в клетушках и сенях, но со всем тем было так тихо, что муж и жена говорили шепотом; малейшая оплошность с их стороны, слово, произнесенное мало-мальски громко, легко могло возбудить подозрение домашних и направить их к задним воротам, чего никак не хотелось Глебу.
– Какой бы он там чужак ни был – все одно: нам обделять его не след; я его не обижу! – продолжал Глеб. – Одно то, что сирота: ни отца, ни матери нету. И чужие люди, со стороны, так сирот уважают, а нам и подавно не приходится оставлять его. Снарядить надо как следует; христианским делом рассуждать надо, по совести, как следует! За что нам обижать его? Жил он у нас как родной, как родного и отпустим; все одно как своего бы отпустили, так, примерно, и его отпустим…
– И то, батюшка, я и сама так-то мерекаю… О-ох!.. Лепешечек напеку ему, сердечному… о-о-ох! – заботливо прошептала тетка Анна, утирая рукавом слезы и вздыхая в несколько приемов, как вздыхают обыкновенно бабы, которые долго и горько плакали.
– Вот нашла, что сказать: лепешки! Велика нужда ему в твоих лепешках! Закусил раз-другой – все одно что их и не было! Надо подумать о рубахах, а не о лепешках – вот что!
– Вестимо, без холста не отпущу его, касатика, – простонала тетка Анна.
– Холст сам по себе: пойдет на портянки[9]. Я говорю, примерно, о рубахах. Завтра день да послезавтра день – всего два дня остается! Не успеете вы обшить его как следует. Отдать ему Ванюшкины рубашки, которые залишние…
– Куды! Коротки будут! – заметила старуха с такою живостью, что муж принужден был шикнуть и поднять руку.
– А коротки, так возьмем у Васьки.
– А как же Вася-то? Ведь он также дома не остается: идет на заработки; самому нужны, – шепнула жена.
– Нет, Васька дома останется взамен Гришки. Отпущу я его на заработки! А самому небось батрака нанимать, нет, жирно будет! Они и без того денег почитай что не несут… Довольно и того, коли один Петрушка пойдет в «рыбацкие слободы»… Ну, да не об этом толк совсем! Пойдут, стало быть, Васькины рубахи; а я от себя целковика два приложу: дело ихнее – походное, понадобится – сапожишки купить либо другое что, в чем нужда встренется.
Как ни переполнено было сердце старушки, как ни заняты были мысли ее предстоящей разлукой с приемышем, к которому привыкла она почти как к родному детищу, но в эту минуту все ее чувства и мысли невольно уступили место удивлению: так поразила ее необыкновенная щедрость Глеба. Ободренная этим, она сказала:
– Вот, батюшка, надо также и образочек ему дать. Дам я ему, сердечному, вот тот, что в ризочке-то у нас…
– Что дело, то дело. Я, признаться, и сам о том думал, – перебил Глеб, – только что вот тот, который в ризе, давать незачем, можно простее сыскать. Главное дело, было бы ему наше родительское благословление…
Переговорив еще кой о чем касательно Гришки, рыбак заметил, что время спать идти.
– Ты обогни избу да пройди в те передние ворота, – примолвил он, – а я пока здесь обожду. Виду, смотри, не показывай, что здесь была, коли по случаю с кем-нибудь из робят встренешься… Того и смотри прочуяли; на слуху того и смотри сидят, собаки!.. Ступай! Э-хе-хе, – промолвил старый рыбак, когда скрип калитки возвестил, что жена была уже на дворе. – Эх! Не все, видно, лещи да окуни, бывает так ину пору, что и песку с реки отведаешь!.. Жаль Гришку, добре жаль; озорлив был, плутоват, да больно ловок зато!
Глеб оглянул рассеянно небо, по которому величественно всплывал серебрившийся теперь месяц, перекрестился, вошел на двор и, закутавшись в овчину, улегся в свои сани под навесом. Хотя старик свыкся уже с мыслью о необходимости разлучиться рано или поздно с приемышем, тем не менее, однако ж, заснуть он долго не мог: большую часть ночи проворочался он с боку на бок и часто так сильно покрякивал, что куры и голуби, приютившиеся на окраине дырявой лодки, почти над самой его головой, вздрагивали и поспешно высовывали голову из-под теплого крыла.
Но не подозревал старый Глеб, что через каких-нибудь пять-шесть часов придется перенести испытание, перед которым настоящее его горе ровно ничего не будет значить. Не предвидел он, что ночь эта, проведенная в тревожном забытьи, будет сравнительно его последнею спокойною ночью!
Заря между тем, чуть-чуть занимавшаяся на горизонте, не предвещала ничего особенно печального: напротив того, небо, в котором начинали тухнуть звезды, было чистоты и ясности необыкновенной; слегка зарумяненное восходом, оно приветливо улыбалось и спешило, казалось, освободиться от туч, которые, как последние морщинки на повеселевшем челе, убегали к востоку длинными, постепенно бледнеющими полосками. Вся окрестность как словно раскрывала глаза и, приподымая освеженные росою ресницы, радостным взглядом встречала весеннее утро. Над лугами трещал уже жаворонок… Глеб, по обыкновению своему, проснулся вместе с жаворонками: нежиться да потягиваться не любил старик: он поспешно выскочил из саней, провел широкой ладонью по лицу и волосам, оглянул небо и перекрестился.
– Создал господь ведро… знатное утро! – сказал он, выходя за ворота и весело оглядывая Оку и дальний берег, только что озаренные первым лучом солнца.
Ему в голову не приходило, что это утро, так радостно улыбавшееся, западет тяжелым камнем на его сердце и вечно будет жить в его памяти.
В самое это утро Петр и Василий должны были сообщить отцу о своих намерениях. Оба заранее приготовились встретить грозу, которая неминуемо должна была разразиться над их головами. В то время, как отец спускался по площадке и осматривал свои лодки (первое неизменное дело, которым старый рыбак начинал свой трудовой день), сыновья его сидели, запершись в клети, и переговаривали о предстоявшем объяснении с родителем; перед ними стоял штоф. Петр, не мешает заметить, плохо что-то надеялся на брата: он знал, что Василий как раз «солжет» – оплошает перед отцом, если не придашь ему заблаговременно надлежащей смелости. Основываясь на этом, Петр накануне еще, когда возвращался из Сосновки, припас «закрепу»; по мнению старшего брата – мнению весьма основательному, – Василий без вина был то же, что вино без хмеля; тогда только и полагайся на него, когда куражу прихватит! Подливая брату, Петр, конечно, не пропускал случая «тешить собственную душу», как он сам выражался, и частенько-таки подносил штоф к губам. Он делал это вовсе не из надобности; вино было ему в охоту, как и всякому человеку, который давно уже хмелью зашибался. Он и без куражу не побоялся бы отцовского гнева. Он принадлежал к числу тех отчаянно загрубелых людей, которых ничем не проймешь: ни лаской, ни угрозой, – которые, если заберут что в башку, так хоть отсекай у них руки и ноги, а на своем поставят. Смелость Петра соответствовала его упрямству. Казалось даже, он с каким-то лихорадочным нетерпением ждал минуты, когда станет перед отцом лицом к лицу; цыганское лицо его, дышащее грубой энергией, выражало досаду тогда лишь, когда встречалось с лицом Василия, в чертах которого все еще проступала время от времени какая-то неловкость. Смущение Василия благодаря предусмотрительности брата не замедлило, однако ж, исчезнуть. Оба пошли тогда в избу. Глеб не возвращался еще с реки; но все семейство, за исключением Вани, однако ж, которого никто не видел со вчерашнего вечера, находилось уже в избе. Никто, кроме жены Петра, не знал о намерениях двух братьев; всеобщее внимание занято было, следовательно, одним только Гришкой. В ожидании Глеба и завтрака все обступали с большим или меньшим участием приемыша, который сидел на скамье у окна и, повернувшись боком к присутствующим, прислонив голову к стене, глядел в землю. Наконец явился Глеб, и все сели завтракать.
Окинув зорким взглядом семейство, старый рыбак тотчас же заметил, что старшие сыновья его были навеселе. Как сказано выше, Глеб мало обращал внимания на возраст детей своих: он держал всех членов семейства без различия в ежовых рукавицах – потачки никому не давал. Тем менее следовало спустить Петру и Василию, что зоркий взгляд Глеба не раз уже в последнюю побывку встречал их в хмельном виде; отец давно собирался отжучить их порядком и отучить от баловства. Он вспылил тотчас же и осыпал их градом ругательств. Тем бы, может быть, и кончилось дело, если б они смолчали; но, разгоряченные вином, они отвечали – отвечали грубо и дерзко. Это обстоятельство мгновенно взорвало старика: брови его выгнулись, голова гордо откинулась назад, губы задрожали. Но сыновья зашли уже слишком далеко: отступать было поздно; они встретили наглым, смелым взглядом грозный взгляд отца и в ответ на страшный удар, посланный в стол кулаком Глеба, приступили тотчас же, без обиняков, к своему объяснению… Но не станем описывать этой диконеобузданной сцены, из которой читатель ничего бы не вынес, кроме тягостного, неприятного чувства. Достаточно сказать, что бабы и дети опрометью кинулись вон и попрятались, кто куда мог; несколько минут пролежали они в своих прятках совершеннейшим пластом, ничего не видя, не слыша и не чувствуя, кроме того разве, что в ушах звенело, а зубы щелкали немилосерднейшим образом. Мало-помалу, однако ж, бабы наши стали приходить в себя; бледные лица их, как словно по условленному заранее знаку, выглянули в одно и то же время из разных углов двора. Но страшные крики, раздававшиеся в избе, – крики, посреди которых как гром раздавался голос Глеба, заставляли баб поспешно прятать головы, наподобие того, как это делают испуганные черепахи. Шум и крики подымались все сильнее и сильнее; казалось со двора, как будто по полу избы каталось несколько пустых сороковых бочек. Но бабы, движимые любопытством, которое не оставляет человека в самые критические минуты, не переставали высовывать головы и прислушиваться. Так продолжалось до тех пор, пока шум не умолк и Глеб не показался на крылечке. Тут уж бабы исчезли окончательно, залегли в самые темные углы своих пряток и замерли.
Глеб был в самом деле страшен в эту минуту: серые сухие кудри его ходили на макушке, как будто их раздувал ветер; зрачки его сверкали в налитых кровью белках; ноздри и побелевшие губы судорожно вздрагивали; высокий лоб и щеки старика были покрыты бледно-зелеными полосами; грудь его колыхалась из-под рубашки, как взволнованная река, разбивающая вешний лед. Ступеньки крылечка затряслись под его тяжелыми шагами. Очутившись на дворе, он остановился как бы для того, чтоб перевести дыхание, и вдруг быстро повернулся к двери крыльца, торжественно приподнял обе руки и произнес задыхающимся голосом:
– Не будет вам, непослушники, отцовского моего благослов…
Но тут он остановился; голос его как словно оборвался на последнем слове, и только сверкающие глаза, все еще устремленные на дверь, силились, казалось, досказать то, чего не решался выговорить язык. Он опустил сжатые кулаки, отступил шаг назад, быстрым взглядом окинул двор, снова остановил глаза на двери крыльца и вдруг вышел за ворота, как будто воздух тесного двора мешал ему дышать свободно.
Прелесть весеннего утра, невозмутимая тишина окрестности, пение птиц – все это, конечно, мало действовало на Глеба; со всем тем, благодаря, вероятно, ветерку, который пахнул ему в лицо и освежил разгоряченную его голову, грудь старика стала дышать свободнее; шаг его сделался тверже, когда он начал спускаться по площадке.
Подойдя к лодкам, Глеб увидел Ваню. Тут только вспомнил старик, что его не было за завтраком.
– Где ты шлялся? – сурово спросил отец.
Он остановился и, повернувшись почти спиною к сыну, мрачно оглянул реку.
– Я здесь был все время, батюшка, – кротко отвечал сын.
– За какой надобностью? – сухо и как бы не думая, о чем говорит, перебил отец.
– Тебя ждал, батюшка…
Голос, которым произнесены были эти слова, прозвучал такою непривычною твердостию в ушах Глеба, что, несмотря на замешательство, в котором находились его чувства и мысли, он невольно обернулся и с удивлением посмотрел на сына.
Кроткий, спокойный вид парня совершенно обезоружил отца.
– Чего тебе? – спросил он отрывисто.
– Я хотел переговорить с тобой, батюшка, – начал Ваня, – хотел сказать тебе… ты только выслушай меня…
– Ну! – перебил Глеб с возраставшим удивлением.
Год без малого не мог он слова добиться от парня, и вот теперь тот сам к нему приступает.
– Выслушай меня, батюшка, – продолжал сын тем же увещевательным, но твердым голосом, – слова мои, может статься, батюшка, горькими тебе покажутся… Я, батюшка, во веки веков не посмел бы перед тобою слова сказать такого; да нужда, батюшка, заставила!..
– Как! – вскричал отец, сжимая кулаки и делая шаг вперед. – Стало, они и тебя подговорили! Стало, и тебе ни во что мое родительское проклятие!
– Нет, батюшка, никто меня не подговаривал, – возразил сын, не трогаясь с места, – родительское твое благословение мне пуще дорого; без него, батюшка, я и жить не хочу…
– Чего ж тебе? – спросил изумленный отец.
– Я, батюшка, пришел переговорить с тобою о Гришке… Батюшка! Что ты делаешь? Опомнись.
Глеб отступил шаг назад и опустил руки; старик не верил глазам и ушам своим.
– Зачем же ты тогда воспитал его? Затем ли поил, кормил, растил его, чтоб потом за нас, за сыновей твоих, ответ держал… Батюшка! Что ты хочешь делать? Опомнись. Ведь это выходит, батюшка, делами добрыми торговать! – продолжал сын, и лицо его при этом как словно озарилось каким-то необыкновенным светом, хотя осталось так же кротко и спокойно. – Не бери, батюшка, тяжкого греха на свою душу!.. Господь благословил нас, берег твой дом, дал тебе достаток… Сам ты сколько раз говорил об этом!.. Господь отступится от нас за такое дело! Достаток твой не будет тогда божьим благословением: все пойдет прахом – все назад возьмет! За то и берег он нас. Сам же ты говоришь, что жили по правде!
Глеб стоял как прикованный к земле и задумчиво смотрел под ноги; губы его были крепко сжаты, как у человека, в душе которого происходит сильная борьба. Слова сына, как крупные капли росы, потушили, казалось, огонь, за минуту еще разжигавший его ретивое сердце. Разлука с приемышем показалась ему почему-то в эту минуту тяжелее, чем когда-нибудь.
– Как же быть-то? Откуда ж нам взять за него!.. Я и сам, того, думал… Разве жеребий… промеж вами кинуть? – проговорил он наконец, как бы раздумывая сам с собою.
Мысль эта родилась, может быть, в голове старика при воспоминании о старших непокорных сыновьях.
– Нет, батюшка! Зачем бросать жеребий! – спокойно вымолвил парень. – Старшие братья женаты; уж лучше… так, без жеребья…
Глеб поднял голову.
– Очередь за нами, за твоими сыновьями, – продолжал Ваня все тем же невозмутимо твердым голосом, – старшие сыновья женаты… Что ж!.. Я и пойду, батюшка…
Старику не шутя представилось, что младший сын его рехнулся. Предшествовавшие слова молодого парня, его спокойный голос, а еще более спокойный вид убеждали, однако ж, старика в противном.
«Что ж бы такое значило? Уж не засорил ли парень дурью свою голову?.. Погоди ж, я вот из тебя дурь-то вышибу!»
При этой мысли Глеб, которому шутить было не в охоту, вспыхнул.
– Видишь ты это? – крикнул он, неожиданно выступая вперед и показывая сыну коренастый, узловатый кулак.
Но Ваня на волос не пошатнулся, не мигнул даже глазом.
– Я тебя проучу, как дурью-то забираться! – закричал отец, сурово изгибая свои брови. – Я выколочу из тебя дурь-то: так отдую, что ты у меня на этом месте трое суток проваляешься! – заключил он, все более и более разгорячаясь.
– Власть твоя, батюшка, – сказал с самым кротким, покорным видом парень, – бей меня – ты властен в этом! А только я от своего слова не отступлюсь.
При этом гнев окончательно завладел стариком: он ринулся со всех ног на сына, но, пораженный необычайным спокойствием, изображавшимся на лице Вани, остановился как вкопанный.
– Бей же меня, батюшка, бей! – сказал тогда сын, поспешно растегивая запонку рубашки и подставляя раскрытую, обнаженную грудь свою. – Бей; в этом ты властен! Легче мне снести твои побои, чем видеть тебя в тяжком грехе… Я, батюшка (тут голос его возвысился), не отступлюсь от своего слова, очередь за нами, за твоими сыновьями; я пойду за Гришку! Охотой иду! Слово мое крепко: не отступлюсь я от него… Разве убьешь меня… а до этого господь тебя не допустит.
Глеб остолбенел. Лицо его побагровело. Крупные капли пота выступили на лице его. Не мысль о рекрутстве поражала старика: он, как мы видели, здраво, толково рассуждал об этом предмете, – мысль расстаться с Ваней, любимым детищем, наконец, неожиданность события потрясли старика. Так несбыточна казалась подобная мысль старому рыбаку, что он под конец махнул только рукой и сделал несколько шагов к реке; но Ваня тут же остановил его. Он высказал отцу с большею еще твердостью свою решимость.
Тогда между сыном и отцом началась одна из тех тягостно-раздирающих сцен, похожих на вынужденную борьбу страстно любящих друг друга противников. Глеб осыпал сына упреками, припоминал ему его детство: он ли не любил его, он ли не лелеял! Осыпал его затем угрозами, грозил ему побоями – ничто не помогало: как ни тяжко было сыну гневить преклонного отца, он стоял, однако ж, на своем. Видя, что ничто не помогало, Глеб решился прибегнуть к ласке и принялся увещевать сына со всею нежностью, какая только была ему доступна. Но и это ни к чему не послужило: сын остался тверд, и решимость его ни на волос не поколебалась. Тут только почувствовал Глеб, почувствовал первый раз в жизни, что крепкие, железные мышцы его как словно ослабли; первый раз осмыслил он старческие годы свои, первый раз понял, что силы уж не те стали, воля и мощь не те, что в прежние годы. Слишком много потрясений выдержали в этот день его стариковские нервы; на этот раз, казалось, горе раздавило его сердце.
– Ваня! – воскликнул старик, все еще не терявший надежды убедить сына. – Ваня! Вспомни! Тебя ли я не любил? Тебя ли не отличал я?.. Сызмалетства отличал я тебя от твоих братьев!.. Ты был моим любимцем, ненаглядным сыном моим! Ты моя надёжа… И ты хочешь покинуть меня своей охотой, на старости лет покинуть хочешь! Старуху свою, мать покинуть хочешь!.. Ваня, вспомни… али ты этого не знаешь?.. Ведь и братья твои нас покидают… Что ж, как же, сиротами ты хочешь стариков оставить?.. Опомнись! Что ты делаешь?.. Ваня!..
– Батюшка!.. Батюшка! Перестань! Ты только мутишь меня! – твердил в то же время сын, напрягая все силы своего духа, чтобы не разразиться воплем. – Перестань!.. Бог милостив!.. Приду вовремя… Приду закрыть глаза твои… не навек прощаемся… Полно, батюшка! Не гневи господа бога! О чем ты сокрушаешься? Разве я худое дело какое делаю? Опомнись! Разве я в Сибирь за недоброе дело иду?.. Что ты?.. Опомнись! Иду я на службу на ратную… иду верой и правдой служить царю-государю нашему… Вишь: охотой иду, сам по себе… Полно, опомнись! Не сокрушайся, не мути меня, батюшка… Лучше ты без меня останься, чем увижу я тяжкий грех на душе твоей родительской!..
– Ну, послушай… вот… вот что я скажу тебе, – подхватил отец, – кинем жеребий, Ваня!.. Ну так, хошь для виду кинем!.. Кому выпадет, пущай хоть тот знает по крайности, пущай знает… что ты за него пошел!
– Нет, батюшка! Зачем? – возразил сын, качая головою. – Зачем?.. Ну, а как кому-нибудь из братьев вынется жеребий либо Гришке, ведь они век мучиться будут, что я за них иду!.. Господь с ними! Пущай себе живут, ничего не ведая, дело пущай уж лучше будет закрытое.
Последние слова сына, голос, каким были они произнесены, вырвали из отцовского сердца последнюю надежду и окончательно его сломили. Он закрыл руками лицо, сделал безнадежный жест и безотрадным взглядом окинул Оку, лодки, наконец, дом и площадку. Взгляд его остановился на жене… Первая мысль старушки, после того как прошел страх, была отыскать Ванюшу, который не пришел к завтраку.
– Ступай сюда! Ступай, старуха! – закричал Глеб, махая обеими руками.
Старушка, ковыляя, подошла к мужу и сыну.
– Вот, – сказал Глеб уже разбитым голосом, – вот, – продолжал он, указывая на сына, – послушай его… послушай, коли сердце твое крепко…
Испуганная мать бросилась к сыну. Тот опустил голову и молчал. Глеб в коротких, отрывистых словах передал жене намерение Вани.
– Батюшка! – закричала старуха. – Батюшка! Помилуй! – и как безумная повалилась она мужу в ноги.
– Его проси! – проговорил Глеб, захлебываясь от слез, хоть глаза его были сухи. – Его проси, старуха! – заключил он, указывая на Ваню.
– Ваня!.. Батюшка!.. Помилуй! – прокричала мать, бросаясь сыну в ноги.
Но Ваня не отвечал; он поддерживал мать и рыдал навзрыд, обливая ее лицо слезами.
Тут уже и самого старика слеза прошибла; он медленно подошел к жене, положил ей широкую ладонь свою на голову и произнес прерывающимся голосом:
– Терпи, старая голова, в кости скована! – При этом он провел ладонью по глазам своим, тряхнул мокрыми пальцами по воздуху и, сказав: «Будь воля божья!», пошел быстрыми шагами по берегу все дальше и дальше.
Как только исчез он за выступом высокого берегового хребта, обе снохи и за ними мужья, Гришка и дети спустились с площадки и обступили старуху и Ваню.
Но сколько ни допрашивали они, сколько ни допытывались, ничего не могли узнать.
Старуха рыдала как безумная. Сын сидел подле матери, обняв ее руками, утирал слезы и молчал. Когда расспросы делались уже чересчур настойчивыми, Ваня обращал к присутствующим кроткое лицо свое и глядел на них так же спокойно, как будто ничего не произошло особенного.
Так простой русский человек совершает всегда великодушные поступки!






