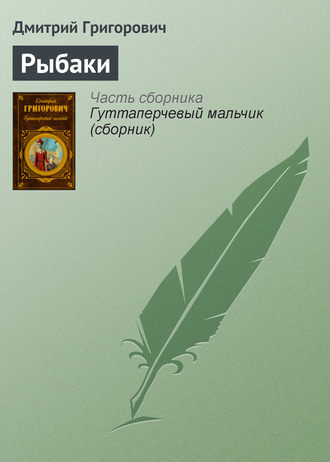
Д. В. Григорович
Рыбаки
XXIII
Потеря
Но как бы там ни было, тяжкие трудовые дни, в продолжение которых старый Глеб, подстрекаемый присутствием дедушки Кондратия, надрывался и работал без устали, или, как сам он говорил: «Не берег себя, соблюдая промысел», – такие дни не проходили ему даром. Когда потухала вечерняя заря и старик возвращался домой, слабость и одышка овладевали им пуще прежнего; он с трудом взбирался на крылечко, едва-едва мог разогнуть спину. Нередко тетушка Анна и сноха ее принуждены были соединяться силами, чтобы подсобить ему подняться на печку. При всем том, оборони, помилуй бог, сказать ему, что причина всех его немощей происходит от излишнего труда и усилий: смерть не любил этого Глеб. Он с упорством, с досадою опровергал такие доводы; старик ни за что не хотел этому верить; он как будто старался даже обмануть самого себя.
– Что за напасть такая! Точно, право, крыша солгала – на спину обвалялась – не разогнешь никак; инда дух захватило… С чего бы так-то? Кажись, не пуще чтобы отощал; в хлебе недостатка не вижу; ем, примерно, вволю… – говорил Глеб, покрякивая на своей печке, между тем как тетушка Анна подкладывала ему под голову свернутый полушубок.
– Батюшка, отец ты наш, послушай-ка, что я скажу тебе, – подхватывала старушка, отодвигаясь, однако ж, в сторону и опуская руку на закраину печи, чтобы в случае надобности успешнее скрыться с глаз мужа, – послушай нас… добро затрудил себя!.. Шуточное дело, с утра до вечера маешься; что мудреного… не я одна говорю…
– Вестимо, батюшка, – ласково подтверждала Дуня, отрываясь от люльки и подходя к печке, – отдохни день-другой; мы и то – я да матушка – хотели намедни сеть поднять сухую-то, и то с места не сдвинули; а ты, видела я нонче, один с нею управлялся…
– Врете вы обе! Послушай поди, что мелют-то! Сеть, вишь, всему причиной!.. Эх ты, глупая, глупая! Мне нешто с ней, с сетью-то, впервой возиться?.. Слава те господи, пятьдесят лет таскаю – лиха не чаял; и тут бы вот потащил ноне, да с ног смотался!
– Ну, не от сети, от другого чего, – смиренно возражала жена. – Ты бы, батюшка, – вот нонче печь истопили, – ты бы попарился: все бы отлегло маленько.
– Ничаво; полежу, проваляюсь ночь-то: авось к утру и так пройдет…
– Хорошо, кабы так-то…
– Надо полагать, все это пуще оттого, кровь добре привалила, – продолжал Глеб, морщась и охая, – кровища-то во мне во всем ходит, добре в жилах запечаталась… оттого, выходит, надо было мне по весне метнуть; а то три года, почитай, не пущал кровь-то…
– Вот то-то, отец родной, говорила я тебе об этом… все: нет да нет… Что ждать-то, право-ну!.. Сходи-кась завтра в Сосновку, отвори кровь-то; право слово, отпустит… А то ждешь, ждешь; нонче нет, завтра нет… ну, что хорошего? Вестимо, нет тебе от нее спокою… Полно, кормилец… право-ну, сходи!..
– Нет, теперь недосуг, – отвечал Глеб, с трудом приподнимаясь на локоть и переваливаясь на другой бок, – схожу опосля: работу порешить надо. И не то чтобы уж очень прихватило… авось и так сойдет. Встану завтра, промнусь, легче будет…
Проминание Глеба заключалось в том, что он проводил часа три-четыре в воде по пояс, прогуливаясь с неводом по мелководным местам Оки, дно которой было ему так же хорошо известно, как его собственная ладонь. Раз, однако ж, после такого «проминанья» он вернулся домой задолго перед закатом солнца: никогда прежде с ним этого не случалось.
Несмотря на заманчивое плесканье рыбы, которая с приближением вечера начинала играть, покрывая зеркальную поверхность Оки разбегающимися кругами, старый рыбак ни разу не обернулся поглядеть на реку. Молча приплелся он в избу, молча лег на печку. В ответ на замечание тетушки Анны, которая присоветовала было ему подкрепить себя лапшою, Глеб произнес нетерпеливо:
– Проваливай! – и перевалился на другой бок.
Всю ночь сон старика был тревожен. Дуня и тетушка Анна несколько раз были пробуждены тихими охами и стонами. Со всем тем на следующее утро Глеб встал еще раньше обыкновенного. День был серый, ненастный, – настоящий осенний день: мелкий дождь, перемешанный с крупою, косвенно ниспадал с неба, затканного от края до края хребтами сизых туч. Северный ветер покрывал чешуйчатою рябью Оку, которая мрачно синела в почерневших, мокрых берегах своих. Любо было бы пролежать такой день на печке в теплой избе. Особенно следовало бы поступить таким образом старому Глебу, у которого благодаря, вероятно, наступившей сырости всю ночь ломило кости; но Глеб рассудил иначе. Он, не медля ни минуты, отправился к лодкам. Он, очевидно, однако ж, пересиливал свою немочь; шаг его и движения отличались в это утро какою-то медленностью; он часто останавливался, потягивал руки, усиленно выгибал спину; каждое из этих движений сопровождалось глухим стоном и нетерпеливым, досадливым потряхиванием головы. Видно было, что он сильно негодовал на свою немощь. Он добрался, однако ж, до конца площадки и начал собирать невод. Косвенное направление дождя и крепкий восточный ветер плохо способствовали удачной ловле; но Глеб забрал в голову ехать на промысел, и уже ничто в мире не в силах было заставить его изменить такому намерению. «Отчаливай!» – сурово крикнул он Гришке, который, сидя на носу с веслами, не переставал следить лукавыми глазами своими за движениями старика. Лодка выехала в реку. Забросили невод. Сверх всякого ожидания, в неводе оказалось довольно много рыбы. При всем том седые брови Глеба оставались по-прежнему нахмуренными. Мало этого: он прекратил ловлю и молча принялся убирать в лодку невод. Кой-как справились, однако ж, и Глеб приказал грести к берегу. Во все продолжение переезда он сидел, склонив голову на грудь, и задумчиво глядел на воду. «Что, взял? Небось и тебя проняло?» – подумал приемыш, искоса посматривая на старика. Одежда Глеба была мокра до последней ниточки: дождь лил теперь как из ведра. Но Глеб, как бы в опровержение догадкам приемыша, долго еще оставался на площадке после того, как сошел на берег. Он и в самом деле чувствовал нестерпимый озноб во всех членах – чувствовал, что холод прохватил его до самого мозга. Руки его тряслись, ноги онемели; но он все еще крепился. Нахмуренное выражение его лица, досадливые движения ясно показывали, что он с трудом решался признать себя побежденным старостью и погодою. Он упрямился и крепился до последней минуты, наконец покинул берег: ему уже невмочь было стоять на ногах, – но и тут-таки, раз или два, пересилил себя и вернулся к лодкам; его точно притягивало к реке и лодкам какою-то непонятною силой. Он точно предчувствовал, что последний раз видится с Окою и лодками. Мрачно, грустно, задумчиво было лицо старика, когда, взглянув в последний раз на реку, стал он подыматься по площадке; он точно нес на плечах своих гроб ближайшего родственника, которого много любил при жизни. Войдя в избу, Глеб, против обыкновения своего, не подошел даже к люльке, даром что ребенок кричал и протягивал к нему свои розовые голенькие ручонки. Ничто уже, по-видимому, не радовало теперь старика – не радовал даже запах горячих щей, которые дымились на столе; он отказался от обеда и молча улегся на печку. Тетушка Анна и Дуня заключили из всего этого, что лучше уж не приступать к нему нынче.
Вечером в тот же день приплелся дедушка Кондратий.
– Вот, дядя, говорил ты мне в те поры, как звал тебя в дом к себе, говорил: «Ты передо мной что дуб стогодовалый!» – молвил ты, стало быть, не в добрый час. Вот тебе и дуб стогодовалый! Всего разломило, руки не смогу поднять… Ты десятью годами меня старее… никак больше… а переживешь этот дуб-ат!.. – проговорил Глеб с какою-то грустью и горечью, как будто упрекал в чем-нибудь дедушку Кондратия.
– Полно, сосед… что ты загадываешь! Один создатель ведает, что будет впереди… Бог милостив!.. Авось еще поживешь с нами…
– Нет, уж я не встану! – отрывисто сказал Глеб.
– Чем так-то говорить, помолись-ка лучше богу: попроси у него облегчения, продлил бы дни твои! Теплые наши молитвы, по милосердию божию, дойдут до господа…
– Болезнь во всем во мне ходит: где уж тут встать! – проговорил Глеб тем же отрывистым тоном. – Надо просить бога грехи отпустить!.. Нет, уж мне не встать! Подрубленного дерева к корню не приставишь. Коли раз подрубили, свалилось, тут, стало, и лежать ему – сохнуть… Весь разнемогся. Как есть, всего меня разломило.
– Усталому-то последняя верста тяжелее пяти первых кажется… Вздохнешь маленько, бог даст, поправишься…
– Пятьдесят лет уставал каждый день, лиха не чаял… не от того совсем! – перебил Глеб.
– Мало ли что, Глеб Савиныч! Года твои не те были. Много на них понадеялся… Я говорил тебе не однова: полно, говорил, утруждать себя, вздохни; ты не слушал тогда…
– Слушать-то нечего! – нетерпеливо перебил Глеб. – По-твоему, брось работу, сам на печку ложись!
– Оборони, помилуй бог! Не говорил я этого; говоришь: всяк должен трудиться, какие бы ни были года его. Только надо делать дело с рассудком… потому время неровно… вот хоть бы теперь: время студеное, ненастное… самая что ни на есть кислота теперь… а ты все в воде мочишься… знамо, долго ли до греха, долго ли застудиться…
– Наша вода мягкая: с нее ничего не сделается… не от того совсем! – упрямо заключил Глеб и повернулся спиной к собеседнику, как бы желая показать ему, что не стоит продолжать разговора.
С этого дня он не вставал уже с печки. Трудно определить, в чем именно состояла болезнь Глеба. Отвергая с таким упрямством догадки домашних, которые единодушно утверждали, будто немощь его происходила от простуды, он был, может статься, более прав, чем казалось. И в самом деле, если б пребывание в студеной воде могло сокрушить Глеба, – если б ненастье, лютый ветер, мокрая одежда, просыхавшая не иначе, как на теле, в состоянии были производить на него какое-нибудь действие, Глебу давным-давно следовало умереть. Его не стало бы с двадцатилетнего возраста. Тогда еще начал он заниматься промыслом. Каждый год после этого, в глухую осень, когда Ока начинала стынуть и покрывалась тонкой корой ледяных игл, он проводил целые дни в воде по пояс, и все-таки ничего ему не делалось. Оттого, и дожив до семидесяти лет, он не хотел верить простуде. Самый лед мог уже казаться ему «мягкою водою». Вообще говоря, в простонародье так же редко умирают от простуды в зрелых годах, как часто умирают от той же причины в молодости. Оно понятно: выдержав все то, что выдерживают крестьянские работники, человек смело считает себя невредимым, как бы застрахованным от влияния всевозможных непогод и невзгод. Слова: «здоровяк, крепыш, усилок», которыми величают в простонародье крепкого человека, по-моему, еще слабо выразительны. Это просто богатыри со сталью вместо кожи, каменными мышцами и железными костями. Простолюдин зрелых лет делается по большей части жертвою удара, ушиба, порванных жил, старости и, наконец, истощения физических сил – необходимое следствие того неумеренного, принужденно-усиленного труда, о котором говорили мы в предшествовавшей главе. По всей вероятности, это последнее обстоятельство свалило Глеба. Он уже не чувствовал теперь никакой боли – чувствовал только, как силы оставляли его и как постоянно слабли его члены. Послушался бы Глеб дедушку Кондратия, поберег бы силы свои, их стало бы, может статься, надолго. Силы Глеба были исчерпаны до последней капельки. Едва-едва доставало на то, чтобы поднять руку для крестного знамения. При всем том Глеб слышать не хотел о сосновских ворожеях и знахарях, которых предлагала ему жена. Такое же невнимание встречала тетушка Анна, когда, теряясь в скорбных догадках, советовала ему «порубить» спину, попариться в печи и пустить кровь. Он с упрямством отказывался от всякого пособия. «Так уж, знать, господом богом положено. Коли жить написано, так проживу и без этого; коли помереть суждено, так уж тут нечего хлопотать. Человек над смертью не властен!» Это был единственный ответ Глеба на все советы и замечания домашних. В критическую минуту, слепо отдаваясь на волю провидения, Глеб не унывал духом. Вера подкрепляла его. Он не терял надежды и, по-видимому, ждал выздоровления. А между тем жизнь заметно оставляла старого Глеба. Тело его уже только поддерживалось душою, которая до последней минуты сохраняла всю свою энергию. Казалось даже, деятельность, оживлявшая когда-то старика, перешла теперь вся в его душу. Он не переставал говорить о промысле, не переставал заботиться о хозяйственных делах своих, входил в мельчайшие подробности касательно домашнего управления, не переставал сокрушаться о том, какие произойдут упущения. Тело Глеба безжизненно почти лежало на печке, но душа его присутствовала всюду. Двадцать раз на дню призывал он жену или Дуню, посылал их в такое-то место двора и приказывал исправить такой-то предмет. Иногда все дело состояло в том, что надо было переложить верши из одного угла в другой или вынуть такой-то шест и поставить на его место другой. Гришка не выходил у него из головы. Он поминутно посылал за ним, заставлял его рассказывать о том, как идет промысел, входил во все мелочи, давал ему наставления. Первый вопрос, с каким он обращался к дедушке Кондратию, когда тот приходил навестить его, был всегда следующий: «Ну, что, дядя, как ловится рыбка?» Нередко дух Глеба проникался тревогою и сомнением. Ему казалось, что домашние исполняют наперекор все его приказания, что все идет не так, как бы следовало, что дом и все хозяйство гибнут от их нерадения. Слова старика показывали, что память не изменила ему. Он помнил мельчайшие подробности из жизни своих домашних, но выбирал те именно случаи, которые могли подтвердить его подозрения. Он осыпал их упреками, грозил лишить их благословения. Голос старика, прерывавшийся почти на каждом слове, звучал тогда негодованием. Страшно было смотреть на Глеба. Одно только появление дедушки Кондратия в силах было унять его. Душеспасительные слова кроткого, набожного старика мгновенно возвращали спокойствие встревоженной душе Глеба. Дедушка начал ходить каждый день и просиживал в избе рыбака с утра до вечера.
Раз Глеб не встретил уже его обычным вопросом своим о том, как ловится рыбка.
Глаза старого рыбака были закрыты; он не спал, однако ж, морщинки, которые то набегали, то сглаживались на высоком лбу его, движение губ и бровей, ускоренное дыхание ясно свидетельствовали присутствие мысли; в душе его должна была происходить сильная борьба. Мало-помалу лицо его успокоилось; дыхание сделалось ровнее; он точно заснул. По прошествии некоторого времени с печки снова послышался его голос. Глеб подозвал жену и сказал, чтобы его перенесли на лавку к окну.
Тетушка Анна, Дуня, дедушка Кондратий и приемыш поспешили исполнить его волю.
Пять минут спустя Глеб лежал на лавке, устланной соломой.
Голова Глеба, приподнятая свернутыми полушубками, была обращена по его просьбе к окну.
Взглянув на исхудалое, изнеможенное лицо своего мужа, на его руки – когда-то мощные и крепкие руки, похожие на ветвь старого вяза, но высохшие, как щепки, и безжизненно сложенные на груди, тетушка Анна вдруг зарыдала.
Старушка не могла дать себе отчета в своих чувствах: она не объяснила бы, почему рыдание вырвалось у нее теперь, а не прежде; тут только поняла она почему-то, что уже не оставалось малейшей надежды; тут только, в виду смерти, осмыслила она всю силу пятидесятилетней привязанности своей, всю важность потери.
– Полно, старуха, – сказал Глеб, находившийся, вероятно, под влиянием одних мыслей с женою, – перестань убиваться; надо же когда-нибудь умереть… все мы смертны! Пожили пятьдесят годков вместе… Ну, пора и расставаться. Все мы здесь проходимцы!.. Расстаемся ненадолго… Скоро все свидимся… Полно!..
Голос Глеба был спокоен и вполне отвечал спокойному выражению лица его. Последняя искра надежды на выздоровление погасла уже в душе его: он сознавал теперь близкую свою кончину. В последних два дня старик помышлял только о спасении души своей; он приготовлялся к смерти; в эти два дня ни одно житейское помышление не входило в состав его мыслей; вместе с этим какая-то отрадная, неведомая до того тишина воцарялась постепенно в душе его: он говорил теперь о смерти так же спокойно, как о верном и вечном выздоровлении.
– Полно вам убиваться!.. Что обо мне плакать-то! Мое дело решенное. Лучше о себе подумайте, – продолжал Глеб (жена его, Дуня, приемыш и дедушка Кондратий окружили лавку), – о себе, говорю, подумайте: оставляю вам немного… Ты, жена, не больно изъянься на мои похороны: мертвому немного надо; похорони, как хоронили, примерно, свата Акима, так и меня похорони… Положи только тело мое в Сосновку: хочу лежать подле покойных малых деток своих и сродственников… Там меня положи. Образ отпусти со мной тот, в серебряной ризочке, что Ваню-то благословляли… Это последняя моя воля… Окромя этого образа все вам оставляю. Живите, как при мне жили; жил я, как жили отцы мои и деды, и вы тому следуйте… Не оставил меня господь, и вас тогда не оставит!.. Проживете с мое, и вас сподобит умереть спокойно. В одном только отказал мне творец милосердый, – подхватил со вздохом старик, – не привел… не дал в последний раз наглядеться… на… Ваню… Не забывай его, смотри, жена!.. Не забывайте и все его!.. Мил был он моему сердцу, любил я его… Супротив всех других любил… Приведет вам господь увидеть его… Передайте ему мое родительское благословение, навеки нерушимое. Умирал старик, скажите, – умирал, его, милого детища, поминаючи… Так и скажите ему!..
Тут голос Глеба, до той минуты ровный и спокойный, как словно оборвался; он закрыл глаза и замолк.
Тетка Анна и Дуня плакали навзрыд. Дедушка Кондратий давно уже не плакал: все слезы давно уже были выплаканы; но тоска, изображавшаяся на кротком лице его, достаточно свидетельствовала о скорбных его чувствах. Один приемыш казался спокойным. Он стоял, склонив голову; ни одна черта его не дрогнула во все продолжение предшествовавшей речи.
– Гриша, – сказал неожиданно Глеб, – ты, Гриша, заступишь теперь мое место, будешь жить все одно, как сын родной в дому… Исполни последнюю мою родительскую волю: не оставляй старуху, береги ее, все одно что мать родную… Мы берегли тебя смолоду, растили, поили, кормили, как родного детища, – должон это помнить. Коли оставишь ты ее, не будет тебе моего благословения!.. Не будет также моего благословения, коли не станешь соблюдать жену свою, не станешь почитать тестя… Как меня слушал, так и его слушайся; почитай его, все одно как отца родного… А это, что вот приятели смущать будут, этого ты не слушай!.. Это, значит, враг путает! Приятели на один час, родные – на всю жизнь… их почитай и слушай!.. Ты уж не малолетний: сам должон видеть, что хорошо, что худо. Не послушаешь меня, отыму благословение!.. Востоскует душа моя, что оставил злодея в семье своей. Господь от тебя откажется, и не будет тебе тогда никакой радости в жизни!.. Смотри же, Гриша, веди себя крепко, живи по закону… Смотри же, не обмани меня! Ты вся моя надежда теперь… Окромя тебя и Вани, нет у меня… окромя вас, нет других детей! – заключил Глеб, причем на лице его изобразилась вдруг тоска.
Он, очевидно, хотел еще что-то прибавить, но дедушка Кондратий, догадавшись, вероятно, о чем пойдет речь, поспешил предупредить его.
– Полно, Глеб Савиныч, – сказал он, – полно, слободи ты свою душу… Христос велел прощать лютым врагам своим… Уйми свое сердце!.. Вспомяни и других детей своих… Вспомяни и благослови Петра и Василия.
Лицо Глеба мгновенно приняло строгое выражение, лоб покрылся морщинками, седые брови нахмурились.
– Помилуй их, Глеб Савиныч, – продолжал дедушка Кондратий.
– Батюшка, помилуй! – рыдая, воскликнула Анна.
– Глеб Савиныч! – подхватил отец Дуни. – Един бог властен в нашей жизни! Сегодня живы – завтра нет нас… наш путь к земле близок; скоро, может, покинешь ты нас… ослободи душу свою от тяжкого помышления! Наказал ты их довольно при жизни… Спаситель прощал в смертный час врагам своим… благослови ты их!..
– Прощаю всем врагам моим, какие у меня были… им прощаю… прощаю наравне с другими, – сказал Глеб.
– Этого мало, Глеб Савиныч! Они дети твои: должон благословить их!..
– Нет, они мне не дети! Никогда ими не были! – надорванным голосом возразил Глеб. – На что им мое благословение? Сами они от него отказались. Век жили они ослушниками! Отреклись – была на то добрая воля – отреклись от отца родного, от матери, убежали из дома моего… посрамили мою голову, посрамили всю семью мою, весь дом мой… оторвались они от моего родительского сердца!..
– Все же они дети твои, – убедительно произнес дедушка Кондратий, – какая их жизнь будет без твоего благословения? И теперь, может статься, изныла вся душа их… не смеют предстать на глаза твои… Не дай им умереть без родительского твоего благословения… Ты видел их согрешающих – не видишь кающихся… Глеб Савиныч!..
Строгость, изображавшаяся в чертах Глеба, постепенно смягчалась; но он не произнес, однако ж, слова.
Грустно было выражение лица его. Жена, Дуня, приемыш, Кондратий не были его родные дети; родные дети не окружали его изголовья. Он думал умереть на руках детей своих – умирал почти круглым, бездетным сиротою. Он долго, почти все утро, оставался погруженным в молчаливое, тягостное раздумье; глаза его были закрыты; время от времени из широкой, но впалой груди вырывался тяжелый, продолжительный вздох.
Около полудня он снова раскрыл глаза.
– Подымите меня… – сказал он ослабевшим голосом.
Дуня и тетушка Анна посадили старика на лавку; обе держали его под руки.
Глаза Глеба медленно обратились тогда к окну, из которого виднелись: часть площадки, лодки, опрокинутые на берегу, и Ока.
Дальний берег и луга застилались мелким, частым дождем. Был серый, ненастный день; ветер уныло гудел вокруг дома; капли дождя обливали и без того уже тусклые стекла маленького окошка. Мрачно синела Ока, мрачно глядел темный берег и почерневшие, вымоченные лодки. Печальный вид осеннего дня соответствовал, впрочем, как нельзя лучше тому, что происходило в самой избе.
– Прощай, матушка Ока!.. – сказал Глеб, бессильно опуская на грудь голову, но не отнимая тусклых глаз своих от окна. – Прощай, кормилица… Пятьдесят лет кормила ты меня и семью мою… Благословенна вода твоя! Благословенны берега твои!.. Нам уж больше не видаться с тобой!.. Прощай и вы!.. – проговорил он, обращаясь к присутствующим. – Прощай, жена!..
Старушка зарыдала так сильно, что дедушка Кондратий поспешил занять ее место и взял под руку Глеба.
– Полно печалиться, – продолжал Глеб, – немолода ты: скоро свидимся!.. Смотри же, поминай меня… не красна была твоя жизнь… Ну, что делать!.. А ты все добром помяни меня!.. Смотри же, Гриша, береги ее: недолго ей пожить с вами… не красна ее была жизнь! Береги ее. И ты, сноха, не оставляй старуху, почитай ее, как мать родную… И тебя под старость не оставят дети твои… Дядя!..
Дедушка Кондратий наклонил белую свою голову.
– Прощай, дядя!.. Продли господи дни твои! Утешал ты меня добрыми словами своими… утешай и их… не оставляй советом. Худому не научишь… Господь вразумил тебя.
Глеб долго еще прощался с домашними; он хотел видеть каждого перед глазами своими, поочередно поцеловал их и перекрестил слабою, едва движущеюся рукою. Наконец он потребовал священника.
Гришка тотчас же отправился в Сосновку.
Вплоть до самого вечера Глеб находился в каком-то беспокойстве: он метался на лавке и поминутно спрашивал: «Скоро ли придет священник?», душа его боролась уже со смертью; он чувствовал уже прикосновение ее и боялся умереть без покаяния. Жизнь действительно заметно оставляла его; он угасал, как угасает лампада, когда масло, оживлявшее ее, убегает в невидимое отверстие.
Поздно вечером приехал священник. Дедушка Кондратий и старуха встретили его в воротах и замолвили ему о старших сыновьях – Петре и Василии.
Дуня, ее отец, свекровь и муж оставались на крылечке.
По прошествии некоторого времени духовник уехал, объявив наперед, что старик исполнил их желание и велел им передать Петру и Василию родительское свое благословение.
Когда они вернулись в избу, Глеб лежал без языка.
Трепетный блеск свечи под образами освещал безжизненное лицо его с черными впадинами вместо глаз, с заостренною, холодною профилью, которая резко отделялась на совершенно почти темной стене. Он казался мертвым, и только легкое, едва приметное движение рубашки на груди показывало, что дух его не покинул еще земли. Тетка Анна и за ней поочередно все присутствующие прикладывали поминутно уши свои к губам его, в надежде услышать последнее слово, последнюю волю умирающего. В простонародье последнее слово покойника свято сохраняется домашними: оно переживает другие воспоминания, часто упоминается в семейных беседах, часто даже переходит к внукам.
Но Глеб ничего уже не сказал.
Дедушка Кондратий, который всю ночь не покидал его изголовья, принял на заре последний вздох Глеба и закрыл ему глаза.
– Полно, – сказал он, обратясь к старухе, которая рыдала и причитала, обнимая ноги покойника, – не печалься о том, кто от греха свободен!.. Не тревожь его своими слезами… Душа его еще между нами… Дай ей отлететь с миром, без печали… Была, знать, на то воля господня… Богу хорошие люди угодны…
В то время как обмывали покойника, дедушка Кондратий съездил на озеро за псалтырем. И вскоре в избе, посреди глухих, затаенных стонов, послышалось мерное, колеблющееся чтение при свете желтой восковой свечки, которая освещала почтенную, убеленную честными сединами голову дедушки Кондратия.
Дня через три, в воскресенье, у ворот рыбакова дома и на самом дворе снова стояли подводы; снова раздавались в избе говор и восклицания. Можно было подумать, что тут снова происходило какое-нибудь веселье.
Но желтая гробовая крышка, прислоненная к воротам, красноречиво опровергала неуместное предположение; длинные шесты, перевязанные веревками, ясно уже показывали, к чему съехались на этот раз сосновские родственники и родственницы.
Немного погодя со двора послышалось протяжное пение, и минуту спустя серый осенний день осветил погребальное шествие.
Позади гроба перед толпою шли дедушка Кондратий и Дуня, немного поодаль виднелся Гришка. За толпою ехала тележка, в которой лежала рыдавшая, осиротевшая теперь старушка.
Шествие обогнуло избу и медленно стало подниматься в гору. Вскоре все исчезло; один только гроб долго еще виднелся под темною линиею высокого берегового хребта и, мерно покачиваясь на плечах родственников, как словно посылал прощальные поклоны Оке и площадке…






