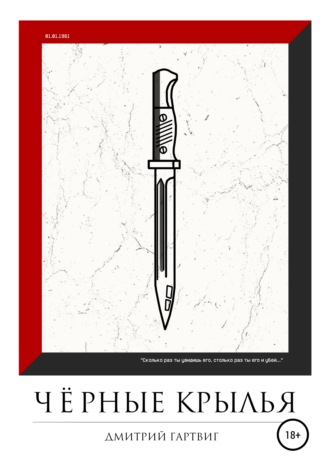
Дмитрий Гартвиг
Чёрные крылья
Потому что никто не хочет, чтобы улицы вновь заполонил запах жареного человеческого мяса.
Я с трудом разлепил тяжеленные, слипшиеся от натекшей крови, веки. Перед взглядом всё плыло, двоилось, но я всё-таки смог примерно оценить ситуацию. Меня притащили в подвальное квадратное помещение, освещаемое несколькими вонючими кострами, разведёнными прямо в жестяных бочках. Посреди комнаты стоял какой-то огромный прямоугольный булыжник, от чего-то чёрного цвета. Сперва, из-за гудящей боли в голове, я не мог понять, каким образом тут, в вонючей казанской канализации, оказалась плита из чёрного мрамора, но потом до меня дошло, что камень потемнел со временем, из-за толстого слоя высохшей крови на нём.
Рядом с пышущими жаром бочками сидели четверо оборванцев. Настоящие развалины, даже по меркам Московии, все в каких-то чирьях, с грязными жёлтыми ногтями, отекшими больными глазами и плотоядной слюной, стекающей с подбородка. На меня они, что удивительно, при этом не смотрели. Всё их внимание было приковано к человеческой икре, которую они, насадив на какую-то ржавую арматуру, медленно прожаривали на костре.
Я же вынужден был глядеть на это отвратительное зрелище, полулёжа на холодном бетонном полу, упираясь затылком в стену. Когда я попытался аккуратно, чтобы не привлечь внимание каннибалов, приподняться, в голову тут же впилась раскалённая толстая спица. Застонав, я снова упал на холодный пол. Четвёрка людоедов, тупо уставившись на меня, собиралась было разом подняться, чтобы окончить мои мучения, как вдруг из темного края комнаты, оттуда, куда не доставал неяркий свет костра, вышла ещё одна, пятая фигура.
– Оставьте, братья. Его время ещё не пришло, – напыщенно произнёс он, обращаясь к безумцам.
Те с явным неудовольствием сели назад, правда, тут же вновь с обожанием уставившись на готовящееся блюдо.
Боль, разрывающая мою черепную коробку на части, отчаянно запульсировала в висках. Перед глазами поплыли жёлтые круги, а сам я почувствовал, как делаю боковое сальто, хотя отчётливо понимал, что преспокойно лежу на полу.
– Пить… – сипло взмолился я, находясь на грани бреда и реальности, у подошедшего ко мне главаря людоедов.
Ответом же мне было легкий шлепок по щеке, который, как ни странно, слегка привёл меня в чувство. Муть ушла из взгляда, хотя мигрень, напрочь выжигающая всякие способности к рациональному мышлению, никуда не делась. Как, впрочем, и сжигающая горло жажда.
Теперь, мой взгляд был прикован к сгорбившемуся, но, тем не менее, достаточно мускулистому уродцу, который оценивающе меня рассматривал. На его плечах, едва на них налезая, висела форма немецкого лейтенанта, а к левой, безволосой груди был пришит суровыми чёрными нитками германский орёл со свастикой, споротый, по всей видимости, всё с той же шинели.
– Не проси, – вдруг ответил мне людоед. Голос его был глухой, тяжелый, а из пасти отвратительно пахло тухлятиной. – Настоящие арийцы не просят и не умоляют. Они достойны. Ты тоже. Я вижу это в тебе, чувствую в биении твоего сердца, в течении твоей крови. Ты один из них. Раса господ, повелитель. Это есть в тебе.
Продолжая нести бред, он пододвинулся ещё ближе ко мне, прислонив к моему левому виску два грязных пальца. Я попытался было дёрнуться, чтобы отстраниться, но голова тут же отозвалась такой дикой болью, что я решил перебороть брезгливость и слегка потерпеть.
– Я рад. Мы очень много молились, ты знаешь? Я и мои братья… Нас немного осталось, – он обернулся к бочке, рядом с которой сидели ещё четверо голодранцев, указывая, каких именно братьев он имеет в виду. – Он услышал нас! Чернобог услышал наши молитвы. Он не забыл про нас, он помнит… он послал нам арийца… – последнее слово псих выделил особой, фанатичной интонацией. – Мы выпьем его кровь, мы пожрём его внутренности, сравнявшись в силе и чистоте с самим Хозяином.
На секунду он закатил глаза и поднял руки кверху, будто церковник, завершающий своим религиозным рвением очередную мессу, а затем снова уставился на меня.
– Ты ведь тоже чувствуешь это, да? – в его голосе сквозила доверительная интонация, будто он сообщал мне сплетни про наших общих ближайших друзей. – Скоро он придёт, во второй раз придёт, он вернётся. Однажды он уже приходили, и слабые познали страх и сапог хозяев на спине, сильные – возвысились. В крови ответ, в крови сила, в крови чистота. Чернобог дал нам это понять, он обещал, он сделает достойных хозяевами, он сделает достойных повелителями. Кровь, кровь, кровь… это последняя истина. Только чистых кровью возвышает Чернобог. Бурею чёрной…
В своей полубезумной молитве он вдруг упал на колени и припал к грязному бетонному полу головой, развернувшись ко мне левым боком. Кинув взгляд к тому месту, куда он обернулся, я увидел достаточно большой портрет, в основательной деревянной рамке, но стоящий на полу и прислонённый к стенке. Несмотря на всю тусклость света, даваемого несколькими кострами, я всё равно сумел рассмотреть того, чей именно это был портрет. Изображённый в дни своего величия и молодости, Адольф Гитлер смотрел на меня тяжелым пренебрежительным взглядом. А безумец, припавший перед ним на колени, продолжал шептать что-то про Чернобога и Сатану.
Кажется, я нарвался не на простых каннибалов, а на идейных. Их лидер, судя по всему, почитал Гитлера как некое божество, достойное поклонения, а общение со своим идолом у него происходило посредством пожирания людей. Понятное дело, что человек здесь уже кончился, осталось лишь животное, но не попытаться договорится, я не мог. Тем более, что связанные руки и ноги не оставляли мне особого выбора.
– Брат, – с усилием задавив брезгливость в голосе, начал я, – там, наверху, огромная куча арийцев. Их очень много, целый город. Я могу тебя отвести туда, если хочешь…
Молящийся резко прекратил своё занятие и посмотрел на меня.
– Мы были там. Мы ели их. Младших, чтобы вкусить свежую кровь, взрослых, чтобы вкусить сильную кровь и старых, чтобы вкусить мудрую кровь. Они слабые. Все. Они ещё хозяева, но уже не арийцы. Чернобог отвернулся от них, хоть они и пришли с ним. Теперь Чернобог смотрит на нас. На тебя. Он рад, он видит, что мы нашли арийца. Скоро, совсем скоро мы сольёмся вместе, брат. Мы станем равными Чернобогу, встанем с ним в один ряд. И ты, ты, – он рванулся ко мне, схватив за связанные руки, отчаянно их тряся. – Ты станешь вместе с нами, брат. Твоя кровь растворится в нас, твоё тело накормит нас, оно придаст сил. Мы впитаем твою волю, твою честь, твой разум, ни на секунду не забывая, кому обязаны своим величием.
Безумцы. Самые натуральные безумцы. Таких нужно кончать исключительно из жалости, из христианского всепрощения. Даже, если бы эти животные не угрожали мне лично, я бы всё равно не смог пройти мимо. Несмотря на всю мою ненависть к немцам, к их нации, к их идеям, языку и образу жизни, я всё равно не имею права оставить эту мразь, это змеиное логово, похищающее детей и жрущее стариков, под их ногами. Даже у мести есть стандарты.
Глава этих шизофреников отошёл к своим подопечным, что-то радостно им втолковывая, я же тем временем отчаянно елозил туда-сюда, пытаясь освободиться от пут. В конце концов, мои телодвижения не остались незамеченными, потому что один из безумцев вдруг указал на меня пальцем, привлекая внимание вожака. Тот немедленно обернулся, пристально окинул меня взглядом, улыбнулся и подошёл ближе.
– Непокорность. Черта настоящего хозяина, – произнёс он, поднимая меня за шкирку и глядя прямо мне в глаза. В этот момент я, достаточно крупный мужчина, чувствовал себя нашкодившим котёнком. Очень хорошо эта тварь отъелась на человеческих останках. – Чернобог ждёт, брат. Пора.
Всё также, держа рукой за воротник, он поволок меня прямо к алтарю, который я приметил, едва разлепил глаза. Грубо закинул на булыжник таким образом, что связанными руками я упирался себе же в копчик, а глаза мои смотрели прямо в тёмный потолок. Склонился над моим лицом, почти ласково прикоснулся к моему лбу. И поднял длинный и кривой ржавый нож, целясь мне в сердце.
– Чернобог!!! Славим тя!.. – громко заревел он, сотрясая воздух небольшого подвальчика, и тут же захлебнулся своим криком, глотая ртом воздух.
Очень опрометчиво со стороны каннибалов было класть пусть связанного, но не убитого агента Чёрной Армии рядом со ржавым листом металла, который при должном желании вполне может сойти за ножовку, перерезавшую хлипкую и слегка подгнившую верёвку. Ещё более неосмотрительным было встать рядом с этим же агентом так, чтобы он смог дотянуться до твоего паха и одним точным ударом раздавить твои же яйца…
* * *
Мне пришлось убить их всех. Это, не смотря на моё не самое лучшее самочувствие, не составило особой сложности. Когда их предводитель упал, а я слез с алтаря, смешно прыгая на связанных ногах и стараясь завладеть ножом, выпавшим из руки людоеда, остальные просто молча стояли на своих местах, окружив алтарь, и тупо смотрели на меня, не осознавая своими животными мозгами, что, собственно, происходит. А я тем временем сумел спокойно подобрать недалеко отлетевший ритуальный нож и перерезать последние веревки, сковывающие мои движения. Правда, когда я кинулся на первого каннибала и перерезал тому горло, остальные людоеды всё же зашевелились. Они налетели на меня, оттолкнули куда-то в сторону и принялись рвать на части ещё даже не остывшее тело своего товарища. Я же завороженно смотрел на эту кровавую трапезу, не в силах оторвать глаз. Лишь через некоторое время, когда каннибалы слегка успокоились, начали есть медленно и аккуратно, явно растягивая удовольствие, наваждение спало, я нашёл в себе силы закончить начатое. Не забыл и об их вожаке, который без сознания лежал на полу. Ему я тоже провёл кровавую полосу на шее, от уха до уха.
Я минут пятнадцать пошатался по помещению, в котором находился, но не нашёл ни своего револьвера, ни ножа, который с таким скандалом приобрёл. Слава Богу, хоть сапоги эти ироды не сняли. Едва я понял, что мои вещички, похоже, утеряны безвозвратно, вдруг накатила такая усталость, что мне пришлось сесть там же, где и стоял, не обращая внимания ни на кровь, ни на крайне неприятные объедки. Сил у меня хватило лишь на то, чтобы поближе подтянуться к бочке с костром и снять с себя валенки, поставив поближе к раскалённому металлу, чтобы просохли.
Перед тем, как мои глаза закрылись, последняя мысль была о том, что я очень сильно хочу пить.
[1] нем. Жизненное пространство на востоке
Глава пятая
Расправляя плечи
«Пройдёт товарищ все бои и войны,
Не зная сна, не зная тишины.
Любимый город может спать спокойно,
И видеть сны, и зеленеть среди весны».
Граница Чёрной Армии и Новосибирской республики, Урал. 11 марта, 1962 год.
Олег Гордиевский раздражённо поморщился. Острый, холодный ветер задувал белую пыль бурана прямо за воротник тёплого тулупа, выбивая снежинками мурашки на его спине. Контрабандист зябко поежился и поднял жёсткий шерстяной ворот, закрывая шею.
Откуда-то сбоку послышался сдавленный кашель. Олег обернулся, столкнувшись взглядом с одним из солдат, что его сопровождали. В отличие от криминальной братии, с которой он привык общаться, это были молчаливые, суровые и дисциплинированные люди. Не отходили помочиться каждые пятнадцать минут, не рассуждали о бабах, бася на весь лес и не дымили самокрутками, с потрохами выдавая своё местоположение. Не походили они также и на бестолковых подпольщиков, отряд которых так глупо полёг где-то в этих местах. Это были настоящие солдаты, псы войны. Подтянутые, собранные и готовые ко всему: хоть вступить в настоящий смертельный бой, хоть лишь разыграть таковой.
При воспоминании о подпольщиках Олег вздрогнул. На секунду ему показалось, что это всё было в другой, бесконечно далёкой жизни, вдобавок случившейся не с ним. Перед глазами вдруг встало лицо Валерия, бесконечно усталое, обречённое, но оттого неимоверно счастливое. Такое бывает у партизан, которые умерли под пытками раньше, чем выдали палачам хоть каплю информации. На миг чёрствый и циничный контрабандист вновь оказался в приграничном лесу по ту сторону кордона, в последний раз прощаясь с Саблиным. Впрочем, всё это были лишь иллюзорные игры уставшего сознания Олега. На самом деле он всё также продолжал смотреть на узкую, засыпанную снегом автомобильную колею.
Что-то изменилось в Олеге с той самой ночи, когда Валерий и его подпольщики приняли смертный бой на японской границе. Что-то очень важное повернулось в его душе, изменило вектор, заставило его прямо сейчас глядеть на заснеженную грунтовку на нейтральной земле, вместо того, чтобы прятаться, петлять, заметать следы и уводить из-под удара себя самого и свою жену. Вместо этого тридцатилетний циник вдруг неожиданно для самого себя нацепил мундир с белой звездой на рукаве, раз и навсегда отрезав для себя путь к отступлению.
Это был второй раз в жизни Олега, когда он поступил в разрез с логикой и инстинктом самосохранения. Первый – когда пришёл к жене Михаила Петровича и поклялся, что сделает для неё и для её сына всё, что будет в его силах. И обещание своё он сдержал. Несмотря на то, что сын её подался в идиоты-подпольщики, а вся остальная команда, ходившая под руководством Саблина-старшего, сгинула без вести, бросив вдову на произвол судьбы. С тех пор жизнь Олега стала не то чтобы сложнее, но скорее более неудобна. Сынок его бывшего капитана, который, взяв вину на себя, спас весь остальной экипаж корабля, очень шустро сел Олегу на шею, сделав из него чуть ли не свой единоличный канал контрабанды. И это помимо тех заказов, что Олег регулярно выполнял для Сопротивления, Валерий постоянно гонял контрабандиста туда-сюда через границу, заставляя привозить вместе с собой оружие, оборудование и информацию. Именно этот канал, который создала для юного подпольщика доблесть его отца, и помог Саблину-младшему в короткие сроки подняться по ступеньками иерархии Сопротивления. И разорвать эту сделку не с дьяволом, но с маленьким и очень инициативным бесёнком, Олег не мог. Клялись в нынешней России не часто, но если уж приходилось, то клятвы выполняли даже ценой своей жизни.
Гордиевскому даже повезло. Он выполнил своё обещание, не лишился при этом жизни, остался при своих глазах, руках и ногах. Мог ходить, связно думать и разговаривать. А вот Саблин, тот самый нескладный, романтичный и витающий в облаках подросток, незаметно для самого себя ставший мужчиной – нет. Мёртвые не болтают. Не болтают те, кого покосил свинец станкового пулемёта, молчат, не говорят ни слова те несчастные, кого закололи штыками, забросали гранатами и задавили гусеницами бронемашин. Они не видят этой новой, едва-едва наступившей весны. Не видят последних холодов, отчаянно цепляющихся за свой последний час буранами и метелью. Закрыты их глаза, задёрнуты пеленой вечных снов. И пока они, те самые герои, не видят, бездушные, холодные и эгоистичные циники вдруг надевают на себя чёрные мундиры идеалистов, безумцев и еретиков, выходящих с пращой против Голиафа.
Олег знал, почему начал служить в Чёрной Армии. Ответ был очень прост, можно сказать, банален. Такие люди, как Валерий Саблин, могут быть разными. Кто-то из них может быть задёрганным интеллигентом, представителем класса, почти вымершего в современной России. Кто-то работягой, недалёким селюком из Московии или Новосиба. Кто-то суровым ветераном Последней войны, отмеченным медалями и шрамами почти поровну. Объединяет их одно: они все бы легли на той пограничной заставе. Не важно какая была у них жизнь до той роковой ночи, того рокового боя, важно то, что они были все как один, совершили поступок. Настоящий, один на всю жизнь. Все они без колебаний поставили бы интересы своей Родины и жизни тех, кто будет потом, выше своей собственной. И на секунду они все стали бы светом, яркой вспышкой пламени в тени чёрных крыльев германского орла или под копотью азиатского солнца. Таких людей очень мало осталось на этой земле. Настолько мало, что циникам и приспособленцам вроде него, матёрого контрабандиста, приходится самим вставать в строй, чтобы хоть как-то заменить эту немногочисленную, но непобедимую армию.
Просто потому что иначе, в самый ответственный момент, светить будет больше некому.
– Командир! – отвлек Олега от размышлений оклик солдата, – едут.
Олег внимательно прислушался. Несмотря на завывание метели, вдали, где-то слева, можно было разобрать натужное гудение. Такой звук издаёт старая, ещё советская трёхтонка, когда на пределе своих шестицилиндровых сил идёт по бездорожью. Кажется, их операция потихоньку подходила к концу.
– Хорошо, – Олег кивнул, соглашаясь с наблюдением солдата, – тогда работаем, всё стандартно, знаешь же? – спросил он.
Ефрейтор, первым услышавший приближение колонны грузовиков, кивнул. Сунув два пальца в рот, он пронзительно свистнул, чем привёл их немногочисленный отряд в движение. Солдаты в количестве шести штук, ещё недавно спокойные и тихие, тут же собрались и подтянулись ближе к Олегу, их формальному начальнику. Хоть, конечно, никакого столкновения не ожидалось, им всё равно было необходимо соблюдать волчью армейскую осторожность.
– Скалов, выйди на дорогу, – приказал Олег рядовому, по случайности оказавшемуся ближе всех.
Тот лишь пожал плечами, дёрнул предохранитель штурмовой винтовки, переведя её в режим стрельбы очередями, и неспешно пошагал в сторону грунтовки, проваливаясь в снег почти на всю длину валенок.
Олегу ещё подумалось, что зима в этот раз слишком подзатянулась, ведь уже прошла треть марта, а следы весенней оттепели только-только начали появляться.
Вскоре рядовой остановился посреди дороги и, спокойно опустив автомат, принялся ждать. Буквально через несколько минут из-за небольшого пригорка, рассекая жёлтым светом фар стену из быстро падающего снега, появилась колонна автомобилей.
Грузовиков было много, наверное, даже больше десятка, что для контрабандистского рейда было практически запредельное число. Кажется, партнёры Чёрной Армии свою задачу выполнили на оценку пять.
Конечно, всё то представление, что сейчас собирались разыграть бойцы под командованием Олега, было излишним. Торговля между Чёрной Армией и Новосибирской республикой хоть официально и была запрещена японскими оккупационными властями, но запрет этот игнорировался всеми хоть сколько-нибудь влиятельными дзайбацу в регионе. На Урал шли грузовики с оружием, электроникой или продовольствием, оттуда – с рудами и драгметаллами. Конечно, принимая во внимание азиатский формализм, в открытую торговать было нельзя. Тем, кто принимал товар, обязательно нужно было разыграть нападение. Это было сделано для того, чтобы японские шишки спокойно могли врать императорским проверяющим прямо в глаза, приводя в пример слова своих же подчинённых. А о том, что о «нападении» было заранее сообщено, и что весь «крупный диверсионный отряд русских партизан» состоял, по сути, из шести случайно выбранных солдатиков, об этом было принято помалкивать. Способ оказался достаточно удобным, и поэтому даже обычные, никак не связанные с японскими торговыми домами контрабандисты пользовались именно этим им.
Когда до спокойно стоявшего Скалова оставалась какая-то сотня метров, головной грузовик колонны стал потихоньку притормаживать. Ход автомобиля начал замедляться, заставляя всю кавалькаду постепенно снижать и так невысокий темп. Тем не менее, ведущая машина остановилась едва ли в трёх шагах от солдата. То ли водитель не рассчитал тормозной путь, то ли наоборот, знал свой грузовик как пять пальцев и решил просто покрасоваться.
Скалов, правда, даже не шелохнулся. Он дважды ударил по капоту затянутой в рукавицу ладонью и махнул рукой отряду Олега, призывая выходить из леса и имитировать тех самых диверсантов. В последний раз переглянувшись с ефрейтором, бывший контрабандист с кряхтением начал пробираться сквозь сугробы. Остальные солдаты повторили его манёвр, но только молча.
– Что у нас тут? – бодро спросил Гордиевский, подойдя к первому автомобилю.
– Сдаются, товарищ лейтенант, – также весело отрапортовал Скалов, щеря при этом желтоватые зубы.
– Всё готовы выложить, лишь бы вы нас не тронули, – хохотнул шофёр, уже успевший вылезти из грузовика и тщетно пытающийся закурить папиросу на леденящем ветру.
Худощавая и высокая фигура, свесившая из открытой кабины головного автомобиля ноги, согласно закивала.
– Это хорошо, что готовы, – пробормотал Олег, глядя на незнакомца, подтвердившего слова Скалова. Что-то в этом человеке было неуловимо знакомо, но Гордиевский никак не мог понять что. Неизвестный плотно обмотал лицо шарфом и натянул меховую шапку-ушанку чуть ли не на глаза, спасаясь от холода.
– Пусть тогда возьмут нас на борт, – продолжил контрабандист. – Дойдут с нами до третьей заставы, там их разгрузят, заправят, и обратно отправят.
– Уважаемый, – вдруг обратился к Олегу тот самый незнакомец, – прежде чем мы отправимся в путь, я бы хотел прояснить один вопрос, чрезвычайно важный для меня.
И всё-таки, Гордиевский явно где-то слышал этого голос. Пусть даже глухой и искаженный плотной тканью шарфа, он всё равно был до боли знакомым.
– Ну? – мрачно спросил Олег, незаметно, как ему показалось, расстёгивая поясную кобуру.
– Не нужно так сильно волноваться, – спонтанное движение контрабандиста от неизвестного не укрылось, – я не кусаюсь, Олег. Тем более, я всего лишь хотел спросить, как обстоят дела у Олеси?
– У Олеси? У Олеси всё хорошо, а откуда ты… – тут Олега как обухом по голове ударило. Вся подозрительность мигом слетела с него, а сам он, вытянувшись струной, слегка подскочил на месте.
– Джеймс! – воскликнул он, мгновенно узнавая незнакомца. Через секунду двое мужчин уже заключили друг друга в медвежьи объятья, выбивая воздух из лёгких ощутимыми хлопками по спине.
– Господи, Джеймс, ты какими тут судьбами? – спросил Олег, вытягивая американского шпиона на расстояние вытянутых рук и внимательно его осматривая, будто убеждаясь, что это действительно он. – Ты же вроде подался обратно?
– Уже вернулся, – с улыбкой ответил Кюри. – Разве я могу вас, идиотов, здесь бросить? Помрёте ведь, все как один, то грудью на амбразуру ляжете, то на таран пойдёте. Лучше расскажи, как всё-таки у Олеси дела?
– Да что с ней будет, хорошо у неё всё, – широко улыбаясь и глядя в лицо боевого товарища, ответил Олег, – сидит в Свердловске на довольствии. Пристроили её куда-то в штаб, перекладывает бумажки.
– В Свердло-о-овске… – насмешливо протянул Джеймс. – То-то я смотрю, и ты умудрился в мундир влезть? Ты же птица вольная, бандитская, чего погоны-то нацепил?
– Может и бандитская, но не синяя, – хмыкнул в ответ Олег, – звёзды на плечах не рисовал. Так что мне не зазорно. А что до вольной… знаешь, я тоже думал до недавнего времени, что свобода – это самое ценное, что может быть у человека. Вот ходишь ты такой красивый, в кожаной импортной куртке, купленной на контрабандные деньги, и кажется, что лучше уже быть не может, что никто тебе не указ, ни Гитлер, ни Хирохито, ни Жуков. А потом один шебутной мальчишка, который когда-то к твоей жене клинья подбивал, очень глупо, как ты говоришь, кидается грудью на амбразуру, и становится сразу понятно, что дерьмо это всё. И кожанка твоя, и тропы контрабандистские, и деньги эти сраные. Всё это брызги просто, ничего это добро не стоит.
Олег ненадолго замолк, собираясь с мыслями.
– И единственное, что в этом мире значение имеет, – продолжил он чуть погодя, – это звезда белая на рукаве твоего чёрного мундира. Потому что ты сам теперь как мундир этот, скорбный и мстительный.
Оба мужчины, к недоумению замерших полукругом солдат, неожиданно долго смотрели друг другу в глаза. Просто смотрели, не говоря ни слова. Те мысли, те чувства и эмоции, которые они сейчас переживали, оказались бы только испорчены словами.
– Он был настоящим солдатом, – американец первым нарушил молчание.
– Он был больше, чем солдат, – возразил Олег, – он был человеком. Наверное, одним из последних в России.
* * *
Рейхскомиссариат Украина, Киев. 18 марта, 1962 год.
Город помнил всё.
Камень его мостовых видел за свою долгую тысячелетнюю жизнь, казалось бы, всё. Он прекрасно помнил горячую кровь храбрецов, некогда окропившую его прекрасные, покрытые густой изумрудной травой холмы. Никогда не забывал древний город и густые слёзы братоубийства, пахнущие речной водой, лебединым пухом и углём, сгорающим в топке поезда. До сих пор на улицах города звенели давным-давно позабытые и неслышимые для обычных людей пламенные речи, что когда-то, долгую тысячу лет назад, сокрушили тиски безжалостной и суровой судьбы, уготованной этим краям. Тогда злой фатум отступил, утёрся, нацепил на голову толстую монгольскую шапку, поправил половецкое стремя и громыхнул на прощание тяжёлым копьём польского гусара. Кому, право слово, было знать, что ушёл он лишь для того, чтобы вновь вернуться через сотни лет, вернуться, одевшись в непробиваемую серую сталь немецких заводов. И в тот день, когда злой рок вошёл в вековой город на Днепре, не хватило никакой горячей и молодой крови, чтобы остановить его.
Город помнил всё это. Ни на секунду не забывал. На гранитных страницах его истории навсегда отпечатались и яростные предсмертные крики окружённых солдат, и глухие стоны, заглушающие громкий плач ведомых в рабство, и спокойный, монотонный голос завоевателей, размеренно подсчитывающий вагоны с кубометрами родной чернозёмной земли.
Николай Уваров знал, что город запомнит и его.
Двадцатилетний молодой человек шёл по широким проспектам столицы рейхскомиссариата, что вот уже почти как двадцать лет снабжал всю огромную немецкую империю зерном и мясом. Молодой человек, чьи предки из поколения в поколение обрабатывали эту землю, проливали за неё кровь и пот, шёл по улицам матери городов русских и уныло втягивал голову в плечи. Он не поднимал взгляда, не замечал немногочисленных прохожих вокруг него, а перед редкими в столь раннее время немцами он почтительно раскланивался, отступая на шаг назад и уступая господам дорогу. Всё это он, хозяин этой земли, этого города, делал, не отрывая взгляда от мостовой.
Вот только, делал он это не из страха или раболепия. Если бы кто-то из тех равнодушных, склизких и давным-давно сдавшихся прохожих, что имели несчастье не принадлежать к стержневой нации, заглянул в глаза Николаю, он бы не увидел в них ни покорности, ни заискивания перед самозваными хозяевами. Он бы увидел там то, чего так не хватало ему самому, этому безликому прохожему, когда на улицах его города погибали, отчаянно сражаясь, красноармейцы. То, чего не хватило ему, когда дивизии СС «Мёртвая голова» и «Галичина» маршем прошли по широким киевским проспектам, когда в Германию пошли первые составы с рабами, чернозёмом и пшеницей.
В глазах у Николая сияла решимость. Решимость суровая и непоколебимая, такая, какая бывает только у потенциальных покойников.
Если бы у Николая кто-то, равный ему по силе воли, спросил сейчас, когда эта решимость появилась у него во взгляде, Николай бы не ответил. Не из-за гордыни, отнюдь нет. Просто он не помнил, когда именно его ненависть, дикая, жгучая, переполняющая до краёв, превратилась в одно-единственное желание. Желание убивать немцев.
Наверное, этот невероятно важный, но такой предсказуемый синтез произошёл, когда умерла его мать. Уваров до сих пор помнил, как на обессиленном, с разрывающими кожу рёбрами теле развевалось могильным саваном замызганное грязное платье. Она лежала на высокой, заполненной клопами кровати, с ломкими волосами, впавшими щеками и чёрными глазами, желтыми от недоедания. Её тонкая, как у скелета, ладонь свисала со смертного ложа, будто приглашая мальчика, стоящего в дверях и ёжащегося от октябрьских холодов, пробивающихся сквозь открытую форточку, за собой. Вот только этот мальчик не поддался зову. Не заплакал, не огласил последнее пристанище умершей от голода матери, что всегда отдавала ему последний кусок, траурным воем. Он всего лишь подошёл к остывающему телу самого любимого и родного человека в мире, убедился, что её веки закрыты, а затем ушёл. Куда – он и сам тогда не знал.
А может быть, это было много позже. Когда его, тринадцатилетнего, впервые выпороли кнутом. Он, стоя за конвейером и отчаянно температуря мерзким февральским гриппом, не выполнил норму. Чутка не дотянул до плана, не пересёк черту, не перебрал столько крупы, сколько было необходимо в этот день. За что грузный бородатый человек с красно-чёрной повязкой на рукаве, работавший в цеху надзирателем, от души ввалил ему, больному, десять ударов кнутом. С молчаливого одобрения хозяина – превесёлого немецкого бюргера, приехавшего осваивать новое жизненное пространство вместе со своей женой и двумя детьми.
Нет, скорее всего этот союз ярости и действия в его глазах окончательно оформился лишь несколько месяцев назад, когда Лидия, его белокурый ангел, что ласковыми прикосновениями спускался к нему в горячем бреду рубцов на спине, сгорела от банального воспаления лёгких, не получив медицинской помощи. Лишь благодаря ей он выжил, благодаря ей он сейчас разглядывает гранитные вычищенные со всей немецкой старательностью и дисциплиной мостовые. Лидия… хрупкая и нежная брюнетка, выросшая в семье врачей, чудом не угнанных в Германию и не побрезговавшая подобрать умирающего под забором подростка. Всего на пару лет его, Николая, старше, всегда, даже в самые чёрные и смертные годы, улыбавшаяся, неунывающая и верящая в светлое будущее, несмотря на блеск немецких штыков и эсесовских пряг. И так неожиданно, так быстро и скоро сгоревшая от, казалось бы, банального холода и сырости. Когда Николай, волоча на плече едва дышащую, тоненькую и в тот момент так сильно похожую на его умершую мать Лидию, постучался в двери одной из многочисленных киевских больниц, ему отказали. Пожилой, явно заслуженный немец-врач, одетый в чистенький и белый халат, выгнал его оттуда пинками, заявив, чтобы он вместе со своей проституткой убирался подыхать в какую-нибудь сточную канаву, как им, собакам, и положено. Аналогичная ситуация повторилась ещё в нескольких заведениях. Немногочисленные посетители тех клиник равнодушно взирали на происходящее, не обращая внимание на умирающую, а зачастую и помогали персоналу выгонять славянских недочеловеков прочь.
Всё закончилось на пороге их квартиры. Невесомо лёжа у него на руках, она, прилагая неимоверные усилия, подняла тонкую, бледную ладонь, погладила его по шее, привлекая внимание, печально улыбнулась…
И умерла.
Только тогда, потеряв всё и всех, Николай понял, что больше он не выдержит. Остальные вокруг него могут делать что хотят: жрать скудный паёк, каждодневно слушать немецкие радиопередачи и постепенно превращаться в бездумных, тупых животных, которыми и хочет их видеть нацистская верхушка. А он не имеет на это всё право. Не имеет, потому что до сих пор помнит вкус того мерзкого, черствого хлеба, которым делилась с ним его угасающая мать. Он не может радостно раствориться в мерзком, недочеловеческом существовании, покуда на его шее огненным рубцом горит прикосновение женщины, ставшей для него всем.


