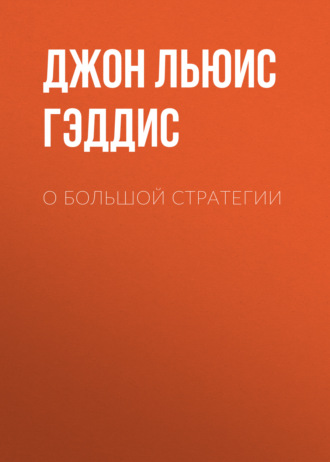
Джон Льюис Гэддис
О большой стратегии
XVI
Вскоре после падения Сайгона каждый офицер, направленный на обучение в Военно-морской колледж США в 1975–1976 учебном году, получил по почте загадочную посылку. Внутри была толстая книжка в мягкой обложке и распоряжение прочесть ее – от начала до конца – до прибытия в Ньюпорт. Большинство офицеров служили во Вьетнаме, некоторые по нескольку раз. Каждый знал кого-то, кто был там убит или ранен. Никто не хотел говорить об этом, а исторических работ на эту тему тогда было еще мало. Но теперь у нас был Фукидид, и этого было достаточно.
Хотя я был моложе, чем все мои «студенты», и не имел боевого опыта, меня привлек для совместного преподавания курса стратегии и политики адмирал Стенсфилд Тернер, который не придавал особого значения послужному списку, зато был твердо убежден в значимости классики для современности[105]. Он твердо решил, что Вьетнам будет в нашей программе (в конце концов, это был военный колледж, а он был его президентом), – даже если мы придем к нему обходным путем длиной в 2500 лет. Так я начал обсуждать на своем семинаре труд древнего грека, которого я знал раньше только как суровую статую.
Скоро мы начали рассуждать, в духе Фукидида, о сходствах, сначала в общих чертах – стены, армии, военный флот, идеологии, империи, – а затем более конкретно и применительно к стратегии: кто лучше соразмерял цели с возможностями, афиняне или спартанцы? Потом об аналогиях: говорит ли это нам что-либо о холодной войне? Потом о демократиях: нанесла ли афинская демократия поражение самой себе? А потом: о чем вообще думали афиняне, посылая армию не куда-нибудь, а на Сицилию? На этом пункте воцарялось молчание, после чего все преграды рушились. Обсуждение Вьетнама не только допускалось: мы целые недели говорили только об этом. Мы занимались терапией посттравматического стрессового расстройства до того, еще до того, как этот синдром получил это название. Нас научил Фукидид.
Несколько десятилетий я не мог понять, почему это работает. Ответ наконец пришел: это случилось осенью 2008 года на семинаре для первокурсников Йельского университета. Эти студенты годились во внуки тем офицерам, которых я знал в Ньюпорте. Ни у одного из них не было никакого военного опыта. Зато они знали Толстого, поскольку, следуя методу адмирала Тернера, я велел им прочесть «Войну и мир» от корки до корки. Они не только это сделали, но и начали приводить места из книги даже в те дни, на которые я ее не задавал. Однажды я спросил их, какое отношение, по их мнению, имеют князь Андрей, Наташа и увалень Пьер к их собственной жизни, столь непохожей на жизнь героев книги? На мгновение (точно как в Ньюпорте) воцарилось молчание. А затем трое студентов одновременно сказали: «С ними не так одиноко».
Фукидид быть может, выразился бы иначе, но мне кажется, он имел в виду именно это, призывая своих читателей «исследовать достоверность прошлых и возможность будущих событий (могущих когда-нибудь повториться по свойству человеческой природы в том же или сходном виде)». Ведь без какого-то понимания прошлого будущее может быть лишь одиночеством: амнезия – это недуг, изолирующий людей друг от друга. Но и знание прошлого в статичной форме – как моментов, застывших во времени и пространстве, – было бы для нас почти таким же калечащим: мы рождаемся благодаря движениям сквозь время и пространство, переходя от малых масштабов к большим и обратно. Мы знаем о них из повествований – исторических, художественных или художественно-исторических. Так что Фукидид и Толстой гораздо ближе к нам, чем кажется, и нам очень повезло, что мы можем посещать их семинары, когда захотим.
Глава 3
Учителя и привязки
Далеко от мостов через Геллеспонт и афинских длинных стен, на другом конце света древние китайцы, ничего не зная о Ксерксе и Перикле, писали руководство о том, как соразмерять устремления с возможностями. За именем Сунь-цзы мог стоять один или несколько людей, а трактат «Искусство войны» мог составляться на протяжении нескольких столетий: в этом смысле он ближе к Гомеру, чем к Геродоту или Фукидиду. Но греческие эпопеи и истории доносят до нас картины конкретных событий и людей. Уроки должны извлекать уже мы сами.
С Сунь-цзы все ровно наоборот: утверждаются четыре принципа, избранные за их действенность на протяжении времени и пространства, а затем они соединяются с практикой, привязанной к времени и пространству. «Искусство войны» поэтому – не история и не биография. Это свод наставлений, процедур, а также категорических утверждений: «Полководец, который будет действовать на основании этих расчетов, непременно добьется победы; такого следует оставить на службе. А полководец, который будет действовать, не принимая во внимание этих расчетов, непременно потерпит поражение; такого нельзя держать на службе».
Весьма недвусмысленно, но какова стратегия? «Форма войска – все равно что вода: действие воды заключается в том, чтобы избегать высоты и стремиться вниз, – говорит нам мастер Сунь. – Природа деревьев и камней такова, что на ровном месте они лежат покойно, а на круче приходят в движение; когда имеют прямоугольную форму, они лежат на месте; когда же форма их круглая, они катятся». И совсем кратко: «если он выставляет приманку, не проглатывай ее». Точно так же Сунь-цзы вместе с шекспировским Полонием мог бы нам посоветовать: «Смотри / Не занимай и не ссужай». Или так, в духе наставлений для новичков в маркетинге: «Покупай дешево, продавай дорого».
Вот только история изобилует примерами заемщиков и кредиторов, которые дорого купили и дешево продали. У них практика разошлась с принципами. Они не смогли устоять перед предложенными приманками. На самом деле внешне банальные рассуждения в «Искусстве войны» – это нити, не дающие практике слишком далеко убегать от принципов. «Диспозиция войска подобна воде», – продолжает учить Сунь-цзы. Если напасть там, где враг меньше всего этого ожидает – «установив слабое место противника, оно [войско] наносит туда удар, и его натиск невозможно сдержать». Бревна и камни иллюстрируют принцип рычага: «[Н]ужно сделать совсем немного, чтобы многого достичь». И о приманках: «Рыба, проглотившая приманку, попадается на удочку; войско, проглотившее приманку, оказывается побежденным»[106].
Наставления Полония совершенно отрываются от земли – вот почему Гамлет его высмеивает:
Гамлет: Видите вы вон то облако в форме верблюда?
Полоний: Ей-богу, вижу, и действительно, ни дать на взять верблюд.
Гамлет: По-моему, оно смахивает на хорька.
Полоний: Правильно: спинка хорьковая.
Гамлет: Или как у кита.
Полоний: Совершенно как у кита[107].
Сунь-цзы бы это совершенно не устроило. Он выманивает молнию во время грозы при помощи воздушного змея, шнура и ключа. Он заземляет каждое свое наставление каким-то ярким и живым примером. Он привязывает очевидное к далеко не столь очевидному: как государство может избегать поражений и выигрывать войны.
«Строй расчеты так, чтобы извлечь имеющуюся выгоду», – наставляет учитель Сунь. Полководцам следует «держать под контролем соотношение сил сообразно с доступной выгодой». Эта тавтология сама по себе служит привязкой, поскольку «имеющаяся выгода», о которой он пишет, заключена в обстановке с «доступной выгодой», когда можно применить принцип рычага. Мудрый лидер ищет именно их. Он поплывет по ветру, а не против ветра. Он обойдет болото, а не отправится напрямик. Он избегает сражения, пока не уверен в победе. Он стремится воспользоваться тем, что в жизни (в отличие от игры) не бывает равных возможностей. Он понимает, что не стоит, как выражались мои студенты из Военно-морского колледжа, «ссать против ветра».
«Война – великое дело государства, – предупреждает Сунь-цзы, – нельзя начинать ее необдуманно». Ксеркс и Алкивиад не размышляли. Артабан и Никий размышляли слишком долго. Учитель Сунь размышляет, но затем действует, применяя максимальный рычаг в точке минимального сопротивления. Успех приходит так быстро, как только возможно при минимальных затратах ресурсов и жизней. «Знай противника и знай себя – победа придет сама, – наставляет «Искусство войны». – Знай, где Небо, и знай, где Земля, – победам тогда не будет конца»[108].
Но не потребуется ли для этого познать все, чтобы сделать хоть что-то? У Артабана не нашлось ответа на этот вопрос Ксеркса, зато он есть у Сунь-цзы: он показывает нам, что там, где есть сложность, есть и простота, и простота может провести нас через сложность.
Музыкальных тонов не более пяти, но все изменения пяти тонов расслышать невозможно. Цветов не более пяти, но все изменения пяти цветов разглядеть невозможно. Вкусов не более пяти, но все изменения пяти вкусов распознать невозможно. Боевых конфигураций существует не более двух видов – необычная и регулярная, – но все превращения регулярных и необычных ситуаций сосчитать невозможно. Действия регулярные и необычные порождают друг друга, и это подобно круговороту, у которого нет конца. Разве может кто-нибудь это исчерпать?[109]
Никто не может предвидеть все, что может произойти. Однако получить представление о возможных событиях лучше, чем не иметь о них никакого понятия. Сунь-цзы стремится дать такое понятие (и даже основанное на здравом смысле) в соединении принципов, которых очень немного, – с самими разными действиями. Он соединяет их в зависимости от ситуации, как будто регулируя уровни звука на синтезаторе или соотношение цветов на мониторе. Он оставляет достаточно возможностей, чтобы остались довольны «лисы», сохраняя при этом целеустремленность «ежа». Он удерживает в уме противоположные идеи благодаря тому, что разворачивает их во времени, в пространстве и в масштабе.
Таким образом, по мысли автора «Искусства войны», руководить – значит видеть простое в сложном. Некоторые явления столь же легко воспринять, как и пять основных звуков, цветов и вкусов, упоминаемых Сунь-цзы: так мы узнаем их природу. Но когда простые элементы соединяются, мы получаем бесконечное количество сложных. Как бы тщательно мы ни готовились, они не перестают нас удивлять. Но если связать их с принципами, они не должны парализовывать нас. Как же научиться устанавливать эти привязки? Мне кажется, этому нужно учиться у великих учителей, ведь это именно то, чего они от нас хотят.
I
Для человека с таким множеством имен – Гай Октавий Фурин, Гай Юлий Цезарь Октавиан, Император Цезарь, Сын Божий (Imperator Caesar Divi Filius), Император Цезарь Август, Сын Бога (Imperator Caesar Augustus Divi Filius), Император Цезарь Август, Сын Бога, Отец Отечества (Imperator Caesar Augustus Divi Filius Pater Patriae), начал он с относительно малого. Он родился в 63 году до н. э. в семье уважаемого, но ничем не примечательного римского сенатора. К своему двадцатилетию он был членом правящего триумвирата. В тридцать два стал самым могущественным человеком «западного» мира. В семьдесят шесть мирно скончался в постели, которую выбрал сам – невероятное достижение для императора той эпохи, тем более что сам он никогда не пользовался этим титулом. Еще задолго до его смерти ходили слухи о чудесных знамениях, предшествовавших его рождению: и даже о необычном, если не непорочном, зачатии (что-то такое о змее). На самом же деле – за исключением того, что он вовремя обрел учителя, – юноша в основном добился всего сам[110].
Ахилл и другие герои греческого эпоса получали наставления от кентавра Хирона; у римлян эту роль весьма успешно выполнял Юлий Цезарь. Своими завоеваниями он за два десятилетия удвоил размеры их «республиканской» империи[111]. Прошло уже две тысячи лет, а его исторические записки находят своих читателей и почитателей. Перейдя Рубикон (тот, настоящий) в 49 г. до н. э., он стал верховным правителем Рима и был полон решимости восстановить в стране порядок после полувека гражданских войн. Но у Цезаря, которому тогда было за пятьдесят, оставалось мало времени, чтобы, как выразился Плутарх, «будущими подвигами превзойти совершенные ранее». Он слишком спешил, и поэтому 15 марта 44 г. до н. э. стал жертвой самого знаменитого политического убийства. Таким образом, жизнь и смерть Цезаря стали образцом для подражания. Он учил тому, что следует, а также тому, чего не следует делать[112].
Живых законных детей у Цезаря не было, но был многообещающий внучатый племянник Октавиан, которого он наделил статусом, по римским понятиям соответствующим стажеру. Октавиан должен был как тень следовать за Цезарем в Риме, а затем и в испанской военной кампании, оказавшейся для Цезаря последней. Молодой человек хорошо справлялся со своей ролью приближенного: постоянно наблюдал, никогда не заносился, нарабатывал опыт и воспитывал в себе выносливость и стойкость (он всегда отличался слабым здоровьем) для любой следующей задачи, которую мог поручить ему Цезарь. Октавиан проводил учения в Македонии, готовясь к нападению на парфян, когда до него дошла весть двухнедельной давности об убийстве в Риме. Ему было всего восемнадцать. «Поговорим позже, – изображает романист Джон Уильямс сцену, где Октавиан сообщает новость своим помрачневшим друзьям. – Сейчас мне нужно подумать, что это будет значить»[113].
Первым его решением было вернуться в Рим, не зная, кто там сейчас распоряжается и как его примут. Ставки взлетели до небес, когда после высадки под Брундизием он узнал, что Цезарь оставил завещание, в котором назвал его своим наследником и сыном. В столицу он вступил уже как Гай Юлий Цезарь Октавиан[114], а легионы, перед которыми он предстал, из уважения к своему убитому полководцу приняли его новый статус всерьез. Октавиан мог бы упустить все эти возможности, если бы оказался пустышкой. Но он уже тогда понимал разницу между получением титула по наследству и освоением искусства управления людьми. Первый может упасть в руки мгновенно; совершенствование второго – занять целую жизнь.
Октавиан никогда не объяснял, как он этому учился, но имея редкую возможность наблюдать вблизи величайшего из полководцев, на его месте совсем ничему не научился бы только законченный тупица. В трактате Сунь-цзы, который был переведен на европейские языки только через восемнадцать столетий, говорится о том, что именно он мог усвоить:
Мудрость – это умение повелевать в любой обстановке и знание постоянства в переменах. Доверие – это когда наказания и награды не вызывают сомнений. Человечность – это любовь к людям и бережное отношение к другим. Отвага – это умение воспользоваться обстоятельствами для того, чтобы одержать решительную победу. Строгость – это неукоснительное исполнение приказов и наказаний в войсках[115].
Цезарь же, по всей видимости, никогда не объяснял Октавиану, зачем его учат[116]. Это уберегло его от тревог, связанных с преждевременным знанием о том, что он станет сыном, наследником и командующим. Римский Хирон воспитал ученика, который не чувствовал, что его воспитывают. Это ограничение дало ему и знания, и свободу[117].
II
И то и другое было необходимо Октавиану, если он собирался не просто принимать почести легионов двоюродного деда. Его собственный отчим полагал, что принимать наследство или титул Цезаря слишком опасно. Цицерон, знаменитый оратор и друг семьи, считал, что Октавиан не заслуживает ни того ни другого. Даже Марк Антоний, который сделал пребывание в Риме убийц Цезаря весьма неуютным, пытался сделать то же самое для «мальчишки», взявшего себе имя Цезаря. Будучи консулом, Антоний отказался выплачивать деньги, завещанные Цезарем гражданам города, и заставил Октавиана, явившегося к нему заявить свой (тщетный) протест, дожидаться в приемной.
Тогда Октавиан с большим эффектом применил ограниченные средства. Октавиан раздал римлянам свое собственное имущество, а когда этого оказалось недостаточно, взял денег в долг. Этот риск оправдал себя: Антоний теперь выглядел дешево. Более простой задачей оказалось привлечь на свою сторону Цицерона, известного своим непостоянством. Он был падок на лесть, и Октавиан на нее не скупился, хотя Цицерон одобрил убийство Цезаря. Дело в том, что Цицерон одновременно ненавидел Антония, и его атака против консула (он выступил против него в сенате с четырнадцатью обличительными речами – филиппиками), предпринятая в таких эпических масштабах, в каких это никогда не смог бы сделать сам Октавиан, была на руку последнему. Летом 44 года до н. э. его главной заботой стала организация похоронных игр в честь Цезаря, во время которых в небе неожиданно появилась комета. Октавиан, проявив необычайную ловкость, сумел убедить римлян, что это не дурное знамение, а душа его двоюродного деда, воспаряющая к бессмертию[118].
Но для того, чтобы обезопасить себя на долгую перспективу, одной ловкостью было не обойтись: Октавиану нужно было сохранить верность солдат Цезаря, а его военный опыт был пока очень ограниченным. Антоний, хоть и не был Цезарем, был очень опытным полководцем. Ему не хватало других качеств, которыми владел Октавиан: умения действовать с упреждением, продумывать последовательность ходов и использовать их результаты[119]. Воспользовавшись своими македонскими связями, Октавиан завладел деньгами, которые Цезарь держал в запасе для нападения на парфян (теперь уже отмененного). Затем он отправил своих людей в Брундизий, поручив им выдавать денежные премии высаживавшимся там войскам. Антоний, которого эта ситуация застала врасплох, бросился туда же и, не имея возможности проявить такую же щедрость, пришел в ярость, отдав приказ о децимациях: казни каждого десятого в нескольких воинских подразделениях. Этими кровавыми мерами дисциплина была восстановлена, но обида македонских легионов на Антония оказалась столь сильной, что они при первой возможности перешли на сторону того, кого начинали считать новым Цезарем уже не только по имени[120].
Октавиан был моложе Антония более чем вдвое, но гораздо лучше разбирался в людях. Он сделал самого себя фоном, оттенявшим все недостатки Антония: его огромные долги, беспорядочные половые связи, открытое пьянство, буйство и вспыльчивость[121]. Наследник Цезаря вовсе не был скромником и тоже мог вспылить при случае, но он чувствовал, что должен держать себя в руках, чего никак нельзя было сказать об Антонии. Кроме того, Антоний и сам не всегда понимал, чего хочет. Он знал о заговоре против Цезаря, но не участвовал в нем. Он надеялся стать правителем Рима, но не имел ясного представления о том, как именно будет править страной, если она ему достанется. Он позволил инерции и порокам заслонить свои цели. Октавиан же, как только он узнал из завещания Цезаря о своем положении, сосредоточил все силы на том, чтобы отомстить за смерть «отца», завершить восстановление нормальной жизни в Риме и сделать все, чтобы не кончить жизнь окровавленным трупом на полу в зале сената[122].
III
Для этого нужна была трезвая самооценка: качество, которым не вполне владел и сам Цезарь (отсюда – окровавленный труп) и которое с немалым трудом воспитал в себе Октавиан. Вскоре после своего возвращения из Македонии Октавиан ошибочно принял энтузиазм ветеранов Цезаря за наказ идти на Рим, как когда-то поступил великий полководец. Но Октавиан пока не видел перед собой своего Рубикона: его войска отказались воевать с Антонием, а римляне не были готовы приветствовать диктатора-юнца. Это фиаско стало для Октавиана большим унижением. С этого момента он старался соизмерять свои порывы с тем, что действительно умел делать.
Октавиан знал с самого детства, что легко заболевает. Однако он не знал (и узнал об этом чуть ли не слишком поздно), что нечто подобное может происходить с ним и перед сражениями[123]. Было ли это недомогание физическим или психическим, но оно выглядело как трусость. Октавиан впервые обнаружил эту свою особенность в первом сражении, в котором он принял участие: битве под Мутиной в Северной Италии в апреле 43 г. до н. э. Он объединил свою армию с войсками, верными Цицерону и сенату, чтобы выступить против Антония, который все еще оставался грозным противником. Новые римские консулы Гирций и Панса храбро повели в бой свои легионы и погибли от ран, как и многие солдаты собственной армии Октавиана. Его же самого в первый день битвы нигде не было видно. Почему – никто не знает точно и по сей день.
Октавиан, однако, быстро осознал, что так у него ничего не получится. Уже на следующий день он овладел собой, сплотил вокруг себя войско, прорвался через позиции неприятеля, захватил тело Гирция вместе с потерянным штандартом и заставил Антония отступить. Один консул погиб, другой находился при смерти, но противник бежал, и Октавиан одной лишь силой воли добился победы, достойной самого Цезаря. Он, однако, не устремился обратно в Рим, чтобы праздновать свой триумф. Он ждал, пока не убедился в том, что легионы погибших консулов на его стороне, и пока Антоний, который тем временем уже ушел в Галлию, не перегруппировал свои силы. И только после этого, имея под началом армию, которая признавала его командующим, и имея поддержку другой, более отдаленной армии, которой Цицерон и другие сенаторы имели все основания опасаться, Октавиан перешел свой собственный Рубикон. Только тогда Октавиан потребовал назначения на консульскую должность, дававшую самую большую власть в Риме. Ему еще не было двадцати[124].
Уже находясь в сильной позиции, Октавиан продолжал беспокоиться о ее слабых сторонах. Править Римом еще не значило контролировать его империю. Антонию, несмотря на его поражение при Мутине, никто не угрожал в Галлии. Убийцы Цезаря Кассий и Марк Брут набирали армии в Сирии и Македонии. Секст Помпей, сын старого противника Цезаря Помпея, захватил Сицилию. Сам римский сенат, в котором вызрел заговор против Цезаря, без пристального надзора был способен на что угодно. Таким образом, трезвая оценка собственной позиции подсказывала Октавиану, уже одержавшему победу, что ему нужна помощь – даже если ее придется просить у тех, кто вызывает его крайнюю неприязнь. Как выразился один из его биографов, «устранить соперника значило устранить потенциального союзника»[125].
IV
Сначала он обратился к Антонию. Их встреча состоялась осенью 43 г. до н. э. на речном острове близ Мутины. Октавиан со своими легионами совершил марш на север из Рима, а Антоний со своими – на юг из Галлии, взяв с собой покладистого Лепида, бывшего консула[126]. Численно войска Антония и Лепида превосходили войска Октавиана, но тот потребовал обращаться с собой как с равным. Вот как случилось, что под настороженными взглядами своих воинов, стоявших на обоих берегах, три полководца – один из которых только что вышел из подросткового возраста – поделили бо`льшую часть известного им мира[127].
Этот раздел, на первый взгляд, был невыгодным для Октавиана. Антоний получил лучшие части Галлии, Лепид взял себе Испанию и дороги, ведущие к ней из Италии, а Октавиану пришлось довольствоваться Сардинией, Сицилией и побережьем Африки, где ему предстояло воевать с Секстом Помпеем. Кроме того, Октавиан сложил с себя обязанности консула и согласился на то, что Римом будет править триумвират. На этом этапе, однако, статус значил для него больше, чем реальные преимущества. Будучи слабее, он предпочел стать одним из трех: единоличное правление, для которого необходимо было превосходство в силах, могло и подождать. Меж тем у всех к тому времени накопились старые счеты.
Во время встречи на острове Антоний, Лепид и Октавиан передали друг другу имена видных римлян, которых следовало казнить, конфисковав их имущество и выслав их семьи. Самым известным человеком в этой проскрипции был Цицерон, который всегда слишком много говорил. Хотя он всегда хорошо чувствовал, куда дует ветер, он вызвал слишком большую ярость Антония своими филиппиками. Триумвир велел не просто казнить оратора, а прибить его голову вместе с рукой, писавшей речи, к рострам на римском форуме[128].
Маловероятно, что такое представление распорядился бы устроить Октавиан, но столь же маловероятно, что он пытался ему воспрепятствовать. На публике Цицерон всячески превозносил его как многообещающего юношу, но в частных разговорах не мог удержаться от намеков в том смысле, что при необходимости от услуг такого неопытного правителя всегда можно будет отказаться. Молва донесла эти речи до Октавиана, который отметил их для себя на будущее[129]. Теперь, когда Антоний стал его союзником, он больше не нуждался ни в филиппиках Цицерона, ни в его одобрении, ни в его бестактных намеках. Иными словами, Октавиан более не нуждался в Цицероне.
Следующей задачей триумвирата было объявить вне закона Брута и Кассия, но для этого нужно было разбить их армии. Эта битва произошла осенью 42 г. до н. э. под Филиппами (название звучит странным эхом цицероновских «филиппик») во Фракии[130]. Антоний был военным главой триумвирата, а Лепид остался править Римом. Октавиан высадился со своими легионами в Македонии, но сразу заболел и был доставлен к месту сражения на носилках. Антоний, находясь в невыгодной позиции, неожиданно напал на противника, защищенного укреплениями, и разгромил сначала Кассия, а затем Брута, вынудив обоих к самоубийству. Единственный из триумвиров, умевший воевать, одержал полную победу.
В злобе на самого себя, Октавиан начал вымещать эту злобу на других. Он принялся унижать и даже казнить пленных. После того как Антоний не позволил осквернять тело Брута, Октавиан, по некоторым свидетельствам, надругался над ним, отправив его голову в Рим и приказав водрузить ее перед статуей своего двоюродного деда – к счастью, она утонула в пути во время кораблекрушения. Сам Октавиан, вернувшись в Рим, застал граждан в страхе и напряженном ожидании: никто не знал, что он станет делать дальше. Хотя он уже вышел из возраста незрелости, Октавиан вел себя как инфантильный тиран[131].
V
И все же, благодаря отчасти стихийному проявлению решимости, отчасти полученной помощи, а отчасти более трезвым и рассчитанным проявлениям жестокости, Октавиан вновь сумел овладеть собой. После сражения под Филиппами Антоний остался на востоке. Формальной причиной для этого было его намерение возобновить планировавшуюся Цезарем войну с парфянами, но он, по-видимому, также надеялся уклониться от участия в раздаче земель в Италии солдатам, в службе которых больше не было необходимости. Эта задача досталась Октавиану, и выполнить ее, не обозлив землевладельцев или не разочаровав ветеранов, казалось просто невозможным. Между тем Секст Помпей, укрепившись на Сицилии, понемногу перекрывал каналы поставки средиземноморского зерна в Рим.
Переломный момент наступил в один из дней 41 года до н. э., когда Октавиан опоздал на встречу с недавно уволенными в отставку солдатами. Разъяренные тем, что их заставляют ждать, они убили центуриона, старавшегося призвать их к порядку. Октавиан прибыл, увидел тело, попросил солдат впредь вести себя лучше и приступил к распределению наделов. Увидев, что он остался невозмутим, бывшие солдаты настолько устыдились, что сами потребовали наказания убийц. Октавиан согласился, но только при условии, что преступники признают свою вину и что ветераны одобрят их приговоры. Так, проявив в опасной ситуации мужество и самообладание – качества, которые не были очевидны в нем после Филипп, – он начал восстанавливать свою репутацию[132].
Видя это, жена Антония Фульвия и его брат Луций попытались сместить Октавиана, пока он не обрел слишком мощную поддержку. Луций захватил укрепленный город Перузию в Центральной Италии, а Фульвия наняла войско в Риме и его окрестностях. Антоний, который все еще находился на востоке, знал о том, что происходит, но был слишком занят: во-первых, он объявил себя новым Дионисом и начал носить подобающее одеяние, во-вторых, он влюбился в египетскую царицу Клеопатру, у которой прежде был продолжительный роман с Цезарем. Антоний заявлял, что это необходимо, чтобы добыть средства на войну с парфянами и обеспечить снабжение Рима продовольствием: в Египте не было недостатка ни в золоте, ни в зерне[133]. Так он дал Октавиану шанс.
Уже зная теперь, что командование войсками не относится к его сильным сторонам, Октавиан поручил осаду Перузии Квинту Сальвидиену Руфу и Марку Випсанию Агриппе, двум своим друзьям, которые были с ним в Македонии во время убийства Цезаря. Они быстро вынудили Луция сдаться, а войско Фульвии рассыпалось само собой. На этот раз Октавиану хватило здравого смысла уступить свои полномочия, не пытаясь применять их там, где он не был уверен в своих способностях[134].
Но там, где дело касалось устрашения, он в них не сомневался. Полный решимости впредь предотвратить любые бунты, Октавиан переправил в Рим триста пленных в ранге сенаторов, осудил их на смерть и приказал принести их в жертву на месте кремации Цезаря. В Риме такие расправы уже давно были осуждены и прекращены, но Октавиан нарушил правила. Во-первых, ему нужно было послать всем ясный сигнал, что он более не потерпит никакой оппозиции в городе. Во-вторых, пролив кровь в самом сердце Рима, он мог наконец сказать, что отомстил за убийство Юлия Цезаря[135].
VI
Теперь империя представляла собой дуополию (Октавиан и Антоний вытеснили Лепида в Африку), но две ее половины управлялись по-разному. Октавиан, находясь в Риме, продолжал осваивать искусство применения уже обретенной власти. Антоний, все еще остававшийся на востоке и более сильный из двух правителей после битвы при Филиппах, постепенно забывал то, что умел. Они по-прежнему питали взаимную неприязнь и нисколько не доверяли друг другу. Но у одного из них была цель, и он действовал сообразно этой цели. Действия второго, когда они вообще случались, были скорее реакцией на действия первого. Это уже было мало похоже на соперничество.
Тенденция наметилась после Перузии. Сначала Октавиан восстановил свою репутацию в Риме, искусно пройдя опасные рифы при перераспределении земель. Затем он добился победы в сражении, доверив командование войсками тем, кто умел делать это лучше него. Наконец, он обезопасил свою власть от будущих мятежей, публично казнив главных мятежников, и этот акт насилия был настолько точным в выборе жертв и ясным в своих целях, что помог предотвратить новое насилие. Октавиан мыслил наперед и стремился влиять на будущие события конкретными решениями.
Этого нельзя было сказать об Антонии. При последнем разделе империи ему досталась вся Галлия, но сейчас он был в Греции, готовясь выступить против парфян, то есть в противоположном направлении. Именно в этот момент внезапно умер его наместник в Галлии. Поскольку Галлия намного ближе к Риму, чем Греция, Октавиан молниеносно прибыл туда и принял на себя командование одиннадцатью легионами. Это был прямой вызов Антонию, который отложил поход на парфян, приказал своим войскам вернуться в Италию и вместе с Секстом Помпеем начал наступление на суше и на море, рассчитывая полностью покончить с Октавианом.


