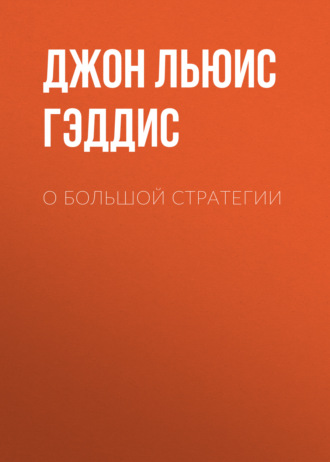
Джон Льюис Гэддис
О большой стратегии
Перикл не был Ксерксом. «Я опасаюсь гораздо больше наших собственных ошибок, чем вражеских замыслов», – признавал он с приближением войны. Зная, что империя афинян не может расширяться безгранично, Перикл «сдерживал такое стремление сограждан к предприятиям в чужих странах и старался отбить у них охоту вмешиваться не в свои дела», говорит нам Плутарх, «считая уже достаточно важным делом остановить рост могущества Спарты»[79]. Однако, как признали послы Перикла, выступая перед спартанским народным собранием, допущение равенства, которое он восхвалял в городе, в масштабах империи могло привести к ее уменьшению и даже развалу.
А наши союзники, привыкшие обращаться с нами как с равными, если только против ожидания им хоть чем-нибудь придется поступиться (будь то по приговору суда или по принуждению нашей власти), отнюдь не благодарят за то, что их не лишают гораздо более важного, а с еще большим возмущением подчиняются господствующей власти, чем если бы мы, уже с самого начала отбросив законность, открыто притеснили их.
Персы обращались со своими подданными более сурово, но это было в прошлом, а в настоящем «всегда подвластные недовольны своими правителями» – и здесь «подвластные» – очень странное слово для обозначения тех, кто «равны» афинянам. Если бы спартанцы одержали победу, то они бы точно так же «скоро утратили бы расположение союзников (которого добились только из-за страха союзников перед нами)»[80].
Таким образом, порочным звеном логики Перикла была идея равенства. Он считал достойными целями и равенство, и империю, но плохо понимал, что поощрение одного умаляет другое. Это противоречие отразилось и в его надгробной речи: он говорил о добровольных союзах во имя общего блага – но при этом славил афинян за то, что их отвага открыла перед ними «все моря и земли», воздвигнув на их пути памятники «бедствий и побед». Это выглядело так, как будто вместо того, чтобы одновременно удерживать в своем сознании противоположности, он то и дело раздваивался, и в середине речи доктора Джекилла сменял мистер Хайд. Примерно то же происходило с Периклом в его последние годы.
IX
Пример одной мухи, превратившейся в слона, очень наглядно показывает, как это происходило. Мегары были тогда (как остаются и сейчас) небольшим городом на северо-восточной оконечности Коринфского перешейка – единственной полоски суши, соединяющей Пелопоннес с остальной Грецией. Его жители давно враждовали с афинянами, но никакой военной угрозы для их большого города не представляли. Но мегарцы могли вступить во враждебный Афинам союз: самым вероятным вариантом был соседний Коринф. Такой шаг мог стать плохим примером для других, поэтому в 433 году до н. э. Перикл убедил народное собрание лишить мегарцев торговых привилегий в Афинах и запретить им пользоваться гаванями по всей империи. У Мегар были другие возможности вести торговлю, и этот запрет казался настолько бессмысленным, что Аристофан высмеял его в своей комедии «Ахарняне», поставленной через несколько лет после смерти Перикла. Но указ против мегарцев был задуман как средство предупреждения, а не принуждения голодом. Это было экономическое эмбарго, рассчитанное на то, чтобы предупредить будущие измены невоенными средствами. Как можно было ожидать, это нововведение насторожило спартанцев, которые сделали его отмену одним из условий предотвращения войны. Гораздо более неожиданным поворотом событий – учитывая, что риски, связанные с сохранением указа в силе, намного перевешивали его выгоды, – оказалось то, что Перикл отказался отменить указ.
Его упрямство было одной из причин раздражения в народном собрании спартанцев, но, даже проголосовав за войну в 432 году до н. э., спартанцы не спешили действовать. В течение следующего года они отправили в Афины трех эмиссаров, каждый из которых изыскивал возможности для компромисса. Перикл, однако, отклонил все предложения: «Я всегда держусь, афиняне, такого мнения, что не следует уступать пелопоннесцам».
По его мысли, хотя мегарский указ может казаться «пустяком», но отменить его означало бы встать на ледяную горку. «Если вы уступите лакедемонянам в этом пункте, то они тотчас же потребуют новых, еще больших уступок». Ситуация исключала дипломатию, делая войну единственным выходом: не имело значения, сколь «велика или мала» была причина. Разве Фемистокл не победил персов с гораздо меньшими ресурсами? «Мы должны быть достойны наших предков и всеми силами противостоять врагам, с тем чтобы передать потомству нашу державу не менее великой и могущественной»[81].
Нарушая тот самый совет, который афиняне дали спартанцам, Перикл сам прервал ожидание. Судя по всему, именно по его приказу последнего спартанского эмиссара даже не приняли в Афинах, а велели ему покинуть Аттику до наступления ночи. Говорят, что, пересекая границу, он сказал: «Сегодняшний день станет началом великих бедствий для эллинов»[82].
X
Перикл, отмечает Плутарх, «был уже не тот, – не был, как прежде, послушным орудием народа, легко уступавшим и мирволившим страстям толпы, как будто дуновениям ветра». Фукидид тоже почувствовал эту новую жесткость: Перикл «не только не допускал уступчивость [по отношению к спартанцам], но, напротив, побуждал афинян к войне»[83]. Но что же вызвало эту перемену?
Может быть, это была просто старость: с годами сохранять гибкость становится все труднее. Возможно, как предположил биограф Перикла, кризисы, нараставшие в конце 430-х годов до н. э., обострили его эмоции и ослабили его способность к компромиссам[84]. Но нельзя исключать, что объяснение связано с разными представлениями о том, что значит управлять или, по метафоре Плутарха, править судном.
Возможный способ заключается в том, чтобы плыть с попутными потоками. Определив курс, вы ставите паруса, ободряете гребцов, учитываете направления ветров и течений, огибаете мели и скалы, делаете допуски на непредвиденные обстоятельства и эффективно расходуете ограниченный запас энергии. Вы контролируете одни обстоятельства и сообразуетесь с другими. Вы соблюдаете баланс никогда не забывая, что делаете это, чтобы попасть из того места, где вы находитесь, к намеченной цели. Вы и «лиса», и «еж» одновременно – даже на воде. Таким был молодой Перикл, стоявший у руля афинского государства: разносторонне одаренный человек, поставивший себе цель.
Но со временем Перикл начал пытаться контролировать сами потоки: он начал воображать, что ему должны повиноваться ветра, течения, гребцы, скалы, народ, его враги и сама судьба. Он считал, что может строить сложные причинно-следственные связи: если A, то не только Б, но неизбежно и В, и Г, и Д. Планам, сколь бы сложными они ни были, надлежало реализовываться в точности. Постаревший Перикл по-прежнему вел афинский корабль; однако теперь он был «ежом», пытающимся согнать в стаю «лис», а это уже другая и куда более трудная задача.
Это противопоставление проясняет то, что все время старается донести до нас Фукидид: причиной Пелопоннесской войны стал страх, вызванный ростом могущества Афин. Ведь рост может быть двояким. Первый происходит постепенно и допускает приспособление к обстоятельствам по мере того, как они меняются с появлением нового. Умелый земледелец может влиять на этот процесс: для него рост растения – это то же, что навигация для кормчих у Плутарха: одновременное управление несколькими процессами. Но ни один крестьянин или садовник не станет утверждать, что он может предвидеть и тем более контролировать все, что будет происходить с его растениями от посадки семян до сбора урожая.
Другой рост происходит вопреки обстоятельствам. Он задается внутренними факторами и поэтому игнорирует внешние условия. Он сопротивляется культивации, поскольку сам задает свое направление, темп и цель. Не предвидя никаких препятствий, он не предполагает компромиссов. Подобно необузданному хищнику, неистребимому сорняку или метастазирующему раку, он не видит, куда идет, пока не оказывается слишком поздно. Он последовательно поглощает все, что его окружает, а затем и себя самого[85].
Сначала Перикл вел свой корабль, сообразуясь с течениями, – это была стратегия убеждения. Но когда оказалось, что не все поддаются убеждению, он повел его против течения – это была стратегия конфронтации. Он бросал вызов устоявшемуся порядку в обоих случаях: Греции предстояло измениться. Но терпеливое воздействие убеждением было бы ближе к выращиванию растений или управлению кораблем, чем та конфронтация, в которую Перикл вовлек афинян. Речь идет о различии между соблюдением ограничений и отрицанием их существования, которое принципиально для стратегии.
Может быть, он считал, что у него нет выбора. Когда убеждение не дало результатов, конфронтация могла показаться ему единственным способом удержать курс. Но почему его непременно нужно было удержать? Почему он не мог отклониться, как позже делал Линкольн, чтобы обойти болота, пустыни и ущелья? Как и Линкольн, Перикл смотрел в грядущие века. Он даже оставлял для них памятники и отправлял им послания. Но он не оставил после себя функционирующего государства, и потребовалось больше двух тысячелетий, чтобы демократия снова стала моделью, привлекательной для многих людей. Такого кормчего нельзя назвать дальновидным – он ведет свой корабль прямо на скалы. К которым еще долго будут потом пробираться спасатели.
XI
Спартанцы вторглись в Аттику весной 431 года до н. э., и афиняне, как и предполагала их стратегия, покинули свои имения, укрылись за городскими стенами и вновь смотрели на клубы дыма, поднимающиеся к небу на горизонте. Их настрой, однако, был уже не тот, что полвека назад, когда Фемистокл приказал эвакуировать Афины. Тогда победа при Саламине пришла быстро. Сейчас же никакого триумфа не предвиделось. Периклова надгробная речь прозвучала утешением для города, но мало способствовала укреплению его боевого духа, и в 430 году до н. э. спартанцы вернулись – вместе с союзником, появления которого никто не мог предвидеть.
Происхождение чумы, поразившей Афины тем летом, остается тайной, однако нет сомнений в том, что «островная» стратегия усилила ее действие. Афиняне, хвалился Перикл, открыли свой город миру, но тем самым они отгородили его от его ближайшего окружения. Длинные стены стали замкнутым сосудом, в котором бактерии со всей империи нашли себе носителей со всей Аттики: космополитизм Афин вдруг обернулся своей неожиданной смертоносной стороной. Фукидид вспоминает, что гибли даже собаки и стервятники, пожиравшие незахороненные трупы. Впрочем, сам он каким-то образом выжил. После того как гибель постигла сначала имения, а потом и сами тела афинян, Перикла начали обвинять «в том, что тот посоветовал им воевать и что из-за него они и терпят бедствия»[86].
Поначалу он отказывался созывать народное собрание, но затем все же решился предстать перед ним. Его единственная ошибка, настаивал Перикл, заключалась в том, что он недооценил решимость города, ведь «испытания, ниспосланные богами, следует переносить покорно, как неизбежное, а тяготы войны – мужественно». Беженцы, пришедшие в город из окрестных мест, должны благодарить флот, который их защищает, и империю, которая их кормит: «наше морское могущество представляется мне несравненно более ценным [достоянием], чем те частные дома и земли, утрата которых для вас столь тягостна. Вы не должны огорчаться этими потерями больше, чем утратой какого-нибудь садика или предмета роскоши».
Получалось, что, выражаясь попросту, это достояние требовало установления тирании. Создавать империю, «возможно, было неправильно, но отказываться от нее теперь – опасно». Сейчас ее подданные ненавидят своих правителей и, будь у них выбор, с радостью сменили бы их на других. Но ненависть подданных – это «общая участь всех, стремящихся господствовать над другими». Если неприязнь необходима ради «высшей цели», то она «длится недолго, а блеск в настоящем и слава в будущем оставляет по себе вечную память»[87]. Так в поисках спасения Перикл снова обращался к будущим векам – как будто он и его город могли ждать века.
XII
Но Перикл умер от чумы в 429 году до н. э., оставив афинян, словно на отточенном им лезвии ножа, на острие выбора между своеобразием демократии, которую он надеялся сделать универсальной, и обычным зверством, которое до этого правило миром. В эпоху, избавленную от болезней, страха, неразумия, амбиций и лжи, последователи Перикла может быть могли бы удержать эти противоположности в равновесии. Фукидид, однако, не рассчитывал на это, «пока человеческая природа останется неизменной»[88]. Завершающая часть его истории прослеживает движение Афин вниз от необычайной культуры к заурядной. Лучше всего это видно в двух эпизодах, разделенных промежутком в двенадцать лет; и в том и в другом случае речь идет о гребцах.
В 428 году до н. э. жители Лесбоса, острова у берегов Малой Азии, расторгли союз с Афинами и обратились за поддержкой к Спарте. Опасаясь, что это станет дурным примером, афиняне устроили блокаду Митилены, главного порта острова, и послали войско для осады города. Спартанцы обещали помощь, но – как обычно бывало со спартанцами – не оказали ее, и следующим летом митиленцы сдались. Полный решимости пресечь любые будущие измены, Клеон, который теперь был самым влиятельным афинянином, призвал перебить всех мужчин, а женщин и детей продать в рабство: «Ведь если они восстали по справедливости, то вы не вправе господствовать над ними». Народное собрание поддержало его, и трирема с соответствующим приказом вышла из порта, взяв курс на Митилену.
Но затем собрание передумало. Афинскую империю, доказывал соперник Клеона Диодот, населяет «свободный народ». Окажись он жертвой угнетения, он, конечно, тоже поднял бы восстание. Кроме того, неразумно казнить – даже если это справедливо – тех, кого афинянам выгодно оставить в живых. Собрание проголосовало еще раз, и Диодот с небольшим отрывом одержал верх. Поэтому была послана вторая трирема с бумагой, отменявшей первый приказ, но чтобы догнать первую, ее гребцам нужно было грести что есть сил.
Команда первой триремы, пишет Фукидид, не спешила «передавать свой смертоносный приказ». Команда же второй, получившая задание предотвратить резню, имела все основания торопиться. Они получили особые пайки из вина и ячменных лепешек, ели прямо во время гребли и спали только когда их сменяли другие. В рекордный срок переплыв Эгейское море, они достигли Митилены как раз в тот момент, когда афинские военные читали приказ, доставленный первой триремой, который им надлежало исполнить. К счастью, они еще не успели выполнить приказ, и резню удалось предотвратить. Митилена, по сдержанному выражению Фукидида, «находилась на волосок от гибели»[89].
В 416 году до н. э. афиняне отправили войско на Мелос, остров неподалеку от Пелопоннесского полуострова, который долгое время был спартанской колонией, но в Пелопоннесской войне сохранял нейтралитет. Теперь мелосцам было сказано, что они должны подчиниться Афинам, и не потому, что они имели на это право – только равные имели права, – а потому, что «более сильный требует возможного, а слабый вынужден подчиниться».
Пораженные этой логикой (которая обычно шокирует читателей Фукидида и в наши дни), мелосцы напомнили афинянам о том, что те некогда славились своей справедливостью: если теперь они отказываются от нее, то это будет примером, который «заставит весь мир задуматься». Афиняне ответили, что готовы пойти на такой риск. Они добавили, что стремятся подчинить мелосцев ради их же собственного блага.
Мелосцы: Но как же рабство может быть нам столь же полезно, как вам владычество?
Афиняне: Потому что вам будет выгоднее стать подвластными нам, нежели претерпеть жесточайшие бедствия. Наша же выгода в том, чтобы не нужно было вас уничтожить.
Неужели, спросили мелосцы, нет третьего пути? Что плохого было бы в сохранении нашего нейтралитета? Афиняне отвечали, что они – хозяева моря и требуют ото всех островов послушания, а не дружбы. А спартанцы, известные своей медлительностью, не станут спешить на выручку ни одному из них.
Не желая отрекаться от своей независимости и надеясь на то, что мир все же живет не по таким законам, мелосцы отказались подчиниться. Афиняне прислали на остров подкрепление (о помощи спартанцев все еще ничего не было слышно), и в 415 году до н. э. Мелос сдался. На этот раз афиняне не колебались и никаких трирем наперехват не посылали. Фукидид пишет, что они «перебили всех взрослых мужчин и обратили в рабство женщин и детей. Затем они колонизовали остров, отправив туда 500 поселенцев»[90].
Дух – не очень осязаемая субстанция, к тому же Фукидид относился к этому понятию не так серьезно, как Геродот. И все же из его повествования видно, что на действия афинян и в истории с Митиленой, и в истории с Мелосом сильно повлиял дух Перикла. Молодой Перикл торопил бы гребцов, летящих через Эгейское море со вторым приказом: энергия, с которой они исполняли свою гуманную цель, заключала в себе весь смысл универсальности демократии. Но постаревший Перикл, боявшийся уступок, мог бы поаплодировать бесчеловечной мелосской миссии. Как мрачно отмечает Фукидид, война приводит характер большинства людей в соответствие с их судьбой[91]. Величайший из афинян не был исключением.
XIII
Почему же Перикл боялся уступок? Эта война оказалась его выбором, а не вопросом необходимости. Спартанцы, даже проголосовав за войну, предлагали варианты урегулирования, ни одним из которых он не воспользовался. Перикл уверил себя, что не может уступить и мухи (мегарского указа) без потери слона (авторитета Афин). Но разве с завершением постройки длинных стен четверть века назад он не готов был бы уступить всю Аттику, кроме Афин и Пирея, если бы война со спартанцами все-таки началась? Почему же теперь вдруг оказалось, что Мегары стоят такого риска?
Пример, помогающий понять это, мы находим в американской истории двадцать четыре века спустя. 12 января 1950 года госсекретарь Дин Ачесон заявил, что отныне Соединенные Штаты намерены обеспечивать при помощи своих военно-морских и военно-воздушных сил «защитный периметр» в западной части Тихого океана, проходящий по линии Япония – о. Окинава – Филиппины. Казалось, что этим решением, которое всесторонне обсуждалось на самых высоких уровнях администрации Трумэна, остальная Восточная Азия уступалась Советскому Союзу, недавно провозглашенной Китайской Народной Республике и зависевшим от них странам[92]. В данном случае длинные стены шли по океану, но их конфигурация означала уступку большей территории, чем мог когда-либо вообразить Перикл.
И тем не менее, когда 25 июня 1950 года Северная Корея вторглась в Южную (Ким Ир Сен и Сталин прочли речь Ачесона), президент Трумэн в течение дня принял решение направить американские войска под командованием генерала Дугласа Макартура на защиту этой материковой позиции. Успехи Макартура заставили вступить в Корейскую войну Китай, и она окончилась, зайдя в тупик, только в 1953 году. В боях за страну, которую их правительство открыто признало не имеющей особого значения пятью месяцами ранее, погибло более тридцати шести тысяч американцев[93].
«Островные» стратегии требуют стальных нервов. Вы должны быть в состоянии спокойно наблюдать, как над местностью, которую вы недавно контролировали, поднимаются клубы дыма, не потеряв при этом самообладания, не пошатнув самообладания союзников и не ободрив противника. Строительство стен и объявление периметров может быть рациональным выбором, поскольку постановку недостижимых целей при ограниченных ресурсах вряд ли можно считать разумным делом. Но стратегия – дело не всегда рациональное.
Отступления, вселяющие в людей доверие и надежду, пишет Клаузевиц в своем трактате «О войне», «бывают очень редко». Чаще выходит так, что армии и народы не отличают добровольного отхода от нерешительного отступления – или мудрой предусмотрительности от страха.
Народ будет испытывать чувства сострадания и досады, видя судьбу, постигшую принесенные в жертву провинции; армия легко может утратить доверие к своему вождю и даже веру в свои силы, а непрерывные арьергардные бои во время отступления будут постоянно вновь подтверждать ее опасения. Относительно таких последствий отступления не следует заблуждаться[94].
Именно это волновало Перикла в связи с мегарским указом. В обычное время никто не счел бы его проверкой решимости Афин, но кризисы 432–431 годов до н. э. полностью изменили ситуацию. Так же смотрел и Трумэн на Южную Корею. Сама по себе она была ничем. Но когда на нее напала Северная Корея – что можно было сделать только при поддержке Сталина, – она стала всем.
Вот так лидеры сами разрушают стены, которыми сначала пытались отделить свои жизненно важные интересы от второстепенных. Дело в том, что стратегические абстракции и эмоции стратегов никогда нельзя отделить друг от друга: можно только нащупать их верный баланс. И их доли в этом балансе меняются в зависимости от обстоятельств. Пламени эмоций нужно лишь мгновение, чтобы растопить абстракции, многие годы создаваемые в спокойных размышлениях. А затем могут наступить целые десятилетия, когда люди не размышляют вовсе.
XIV
Редкий историк стал бы утверждать, что Трумэн сделал ошибочный выбор в Корее; однако биографы Перикла всегда недоумевали в отношении мегарского указа[95]. Периклу нужно было объяснить афинянам, что решается вопрос об авторитете их государства: без него это не пришло бы им в голову. Трумэну же не нужно было объяснять это американцам и их союзникам. Они это знали.
Это различие важно. Одно дело, когда враг испытывает вашу решимость на глазах у всех: тогда вы можете решить, как вам действовать, посоветовавшись с другими, и вы обычно понимаете, когда ваши действия были успешными. Совсем другое – проверять решимость своей нации, оглядываясь на собственные страхи: ведь эти страхи могут быть бесконечными? Что может остановить проекцию ваших страхов на бесконечно увеличивающиеся экраны? Если безопасность Афин требовала сохранения в силе мегарского указа, то почему было бы неверным казнить митиленцев? Или истреблять мелосцев? Или, например, ввязаться в войну на суше вдали от дома против врага, находящегося в союзе со спартанским флотом?
Эскалация последнего упомянутого конфликта началась в конце 420-х годов до н. э., когда Эгеста и Селинунт, два города в западной Сицилии, вспомнили о своей старой вражде. Сиракузы, крупнейший город на этом острове, поддерживали селинунтян, поэтому эгестяне в 416–415 годах до н. э. обратились за помощью к афинянам, которые когда-то туманно пообещали их защищать. Если Сиракузы останутся безнаказанными, настаивали эгестяне, то они захватят всю Сицилию, после чего сицилийцы объединятся со спартанцами и их союзниками и вместе сокрушат империю афинян[96].
Этот сценарий напоминал историю с Эпидамном, Керкирой и Коринфом, хотя доводы, которые убеждали тогда, звучали теперь гораздо менее убедительно. Почему Сиракузы – единственная демократия в Средиземноморье помимо Афин – стали бы объединяться с авторитарными спартанцами? Но даже если бы это произошло, каким образом Афины смогли бы победить город, по меньшей мере такой же по размерам, как их собственный, расположенный на острове, превышавшем по площади Пелопоннес, за тысячу триста километров от Афин? Здесь не решался вопрос о репутации: только что устроив резню на Мелосе, находившемся недалеко от Афин, они едва ли могли показаться слабыми, оставив без помощи далеких эгестян. И если бы Афины спасли этих птенцов, сколько других тоже потребовали бы помощи?
Афинское народное собрание всегда живее отзывалось на эмоциональные призывы, чем на абстрактные идеи: остужать его страсти приходилось его лидерам, которых теперь почти не осталось. Оно отмахнулось от доводов Никия, самого опытного полководца в городе, протестовавшего против участия Афин в «совершенно чужой» войне, и с восторгом приняло соблазнительные аргументы Алкивиада, который больше славился яркой внешностью и победами на Олимпийских играх, нежели благоразумием. Защитники Сицилии, заявил этот павлин, – это сброд, который легко будет подкупить. Победив их, Афины получат империю в западном Средиземноморье. И никому не следует пытаться очертить границы афинских владений: «если мы не будем властвовать над другими, то нам самим придется подчиниться чужому господству». Но ведь именно так защищал Перикл свой мегарский указ.
В отчаянии, зажатый между обаянием Алкивиада и духом Перикла, Никий нарочно завысил свою оценку стоимости экспедиции, но тем лишь усилил воодушевление афинян. Дело кончилось тем, что собрание послало его на Сицилию в 415 году до н. э. с огромной армадой из 164 трирем и транспортных кораблей, 5100 гоплитов, 480 лучников, 700 пращников, 30 всадников – и Алкивиадом в роли второго командующего, который мягко напоминал всем о том, что «юность и старость друг без друга бессильны»[97].
Но когда афиняне прибыли на место, им не помогли ни юность, ни старость. Никий был вял и часто болел. Алкивиад же был отозван в Афины, чтобы предстать перед судом за пьянство и разгул, но перешел к спартанцам. Знакомые с трудностями перевозки по морю лошадей, афиняне прислали их слишком мало, и перевес в коннице был на стороне противника. Сицилийцы сражались храбро и ничуть не уступали афинянам. Увидев свой шанс, спартанцы против обыкновения действовали быстро и изобретательно: в союзе с коринфянами они послали на Сицилию флот, который запер и потопил флот афинян в просторной сиракузской гавани.
В отличие от Ксеркса после Саламина, у афинян теперь не было возможности вернуться домой. Боевой дух и дисциплина войск начали падать; в конце концов афиняне проиграли главную битву, нечаянно выдав свой пароль врагу. Они исчерпали запасы провианта и стали пить окровавленную воду. Они совершили неслыханное святотатство, оставив своих мертвых непогребенными на поле боя. В конечном счете им оставалось только сдаться; пленные афиняне провели многие месяцы в сиракузских каменоломнях: под палящим солнцем, без пропитания, среди гниющих трупов. «Все возможные бедствия, которые приходится терпеть людям в подобном положении, – сокрушается Фукидид, – не миновали пленников»[98].
Стратегия требует такого чувства целого, которое позволяет понять значимость частей. Сицилия показала, что афиняне утратили это чувство. Туда отправилось больше половины войск империи; вернулись немногие. Между тем, как пишет современный историк, «спартанцы разбили лагерь в двадцати километрах от стен Афин, рабы бежали из Аттики тысячами, а платившие дань союзники Афин, от Геллеспонта до южных островов Эгейского моря, были на грани мятежа»[99]. Все эти несоответствия и нестыковки почти необъяснимы, но, даже оставляя их без объяснения, стоит вспомнить, что Фукидид говорил о будущем.
XV
Через две тысячи триста восемьдесят два года после того, как афиняне сдались на Сицилии, 543 000 военнослужащих Соединенных Штатов обеспечивали защиту территории, которую Генри Киссинджер позже назовет «маленьким полуостровом большого континента»[100]. К 1969 году в Индокитае погибало по двести американцев в неделю: к 1975 году, когда Южный Вьетнам сдался, было убито 58 213 американцев, пытавшихся его спасти[101]. В результате война во Вьетнаме стала четвертой по количеству потерь из всех войн, в которых участвовали Соединенные Штаты, а также их первой явно проигранной войной; при этом причины их участия в этой войне поддаются объяснению хуже всего.
В начале этой войны не было ничего подобного корейскому блицкригу: Северный Вьетнам вел ее как медленно нарастающую по масштабам партизанскую войну, прибегая к обычным войсковым операциям только когда американцы отступали. Она не была и «марионеточной» войной, ведущейся де-факто между более крупными державами. Ее начало, ведение и завершение определил сам Ханой, в то время как Советский Союз и Китай поддерживали его нерегулярно, а временами даже неохотно[102]. Больше обеспокоенные в конце 1960-х годов возможностью взаимной войны, обе эти страны вскоре стали искать согласия с Вашингтоном[103].
Между тем в мире в то время происходило очень многое. В 1969 году Советский Союз обогнал Соединенные Штаты по размерам арсенала стратегических ракет. В 1968 году он подавил Пражскую весну – на тот момент самую перспективную попытку реформировать марксизм-ленинизм изнутри. В 1967 году Израиль радикально изменил ситуацию на Ближнем Востоке, нанеся военное поражение своим арабским соседям и оккупировав Западный берег. В 1966 году Франция вывела свои вооруженные силы из НАТО, были установлены дипломатические отношения между Восточной и Западной Германией, а в Китае началась Великая культурная революция. В 1965 году расовые волнения и антивоенные протесты в Соединенных Штатах достигли масштабов, невиданных со времен гражданской войны. А самопровозглашенному советскому сателлиту, расположенному в полутораста километрах от побережья Флориды, удалось уцелеть в течение всех 1960-х годов, несмотря на то что в какой-то момент на нем были размещены ракеты с ядерными боеголовками, способные начать, а может быть и закончить Третью мировую войну.
Почему же американцы так много вложили в войну во Вьетнаме, если по сравнению с другими их интересами того времени там было так мало поставлено на карту? Ответ на этот вопрос дают, как мне кажется, Фукидидовы «сходства». Мегары могут показаться пустяком, сказал Перикл афинянам в 432 году до н. э., но если они уступят в этом незначительном вопросе, от них «тотчас же потребуют новых, еще бо`льших уступок». «Без Соединенных Штатов, – предупреждал Джон Кеннеди аудиторию в Техасе утром 22 ноября 1963 года, – Южный Вьетнам пал бы за одну ночь», а остальные альянсы США по всему миру были столь же уязвимы. Нет иного выбора, настаивал Перикл, кроме как «всеми силами противостоять врагам». Ведь, как добавил Кеннеди, «мы по-прежнему замковый камень в арке свободы»[104].
Сколь бы ни была велика дистанция во времени и пространстве между подобными утверждениями, они становятся весьма сомнительными при изменении масштаба. Ведь если сила и авторитет постоянно подвергаются сомнению, то либо возможности должны стать бесконечными, либо запугивание должно стать регулярно применяемым методом. Ни то ни другое нельзя осуществлять на постоянной основе: поэтому, собственно, и существуют стены. Они отделяют важное от неважного. Когда люди рушат созданные ими стены собственными неточными решениями – как случилось с Периклом и Кеннеди, когда они отвергли возможность хоть в чем-то уступить, – страхи становятся видениями, видения – проекциями, а проекции ширятся, расплываются и теряют очертания.


