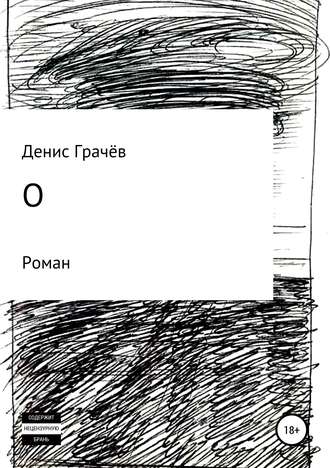
Денис Александрович Грачёв
О
Однажды ответ было предложил пистолет, до поры до времени молчаливо лежавший в ящике письменного стола. Боже мой! Как я мог забыть об этом, чуть не воскликнул Пётр, вспомнив о нём. Пистолет в ящике письменного стола – это же классика жанра, самый весомый аргумент про запас, который приберегают до последнего – и правильно делают, поскольку, несмотря на свою действенность, это аргумент шумный, а значит недостаточно точный; такой, словом, который делает победу в любом споре чуть-чуть жульнической. И это неизбежно – пистолет из верхнего ящика письменного стола всегда работает в шулерском амплуа deus ex machina. Однако для Петра это было совершенно неважно: когда человека ослепляет вспышка света, ему абсолютно все равно, был ли то свет фаворский или магниевый взблёск подкравшегося папарацци. Да уж, для Петра это была поистине упоительная мысль, и все её следствия, все деяния, так или иначе, каким-либо отдаленным боком соприкасавшиеся с этой мыслью, обретали горячку и азарт упоительности. Но самым упоительным стал для нашего героя момент, когда его длань, бестрепетности которой был нанесён серьёзный ущерб чужим плавно скользящим универсумом с местонахождением в районе телесного низа, приставила к проклятому виску стальное дуло, а палец, прекрасный, как небожитель, ставший на миг перекрестьем волшебных, радостных, цветных и цветочных энергий, нажал на трудный курок. И всё. На этом упоительность закончилась.
А закончилась она тем, что иные назвали бы техническим прозвищем осечки, а я не погнушаюсь и назову судьбой – чего уж тут: мы с вами свои люди; как-никак, не первый час совместно наблюдаем приключения слов, так что нам ли стесняться употребления громогласных вокабул.
– Та-ак, – протянула она20, остановившись, и от одного этого, даже если вынести за скобки далёкий, оглушающе пустой взгляд, целый взвод иракских повстанцев способен был обратиться в безоглядное бегство. – Решили, значит, побаловаться? Прекрасно.
Она встала, деловито оправила юбку, отстегнула предмет и зло бросила его в стоявший на полу весёлый жёлтенький ридикюль, похожий на подвыпившую трапецию. Туда же полетел и мелко дрожащий пистолет. Вслед за предметом, исчезнувшим в узком жерле ридикюльчика, сорвалось было и сердце Петра, избитое, истрёпанное, словно пятистопный ямб, так и готовое сорваться за кем угодно и куда угодно, лишь бы вон из этого прóклятого тела, но то кормило пневматической механики и аэродинамики, которое в секунды величайшей опустошённости и глубочайшего бессилия ответственно брало на себя управление жизненными ду́хами Петра, вдруг раздвинуло его сердце до размеров целой груди, так что теперь этому валуну, этому остывшему сгустку, этому, то есть, пенному жёрнову не то что упасть, но даже и сдвинуться было некуда: да-да, так и напишу, не постесняюсь: сердце так и застряло у него в груди – как кость в горле.
– Значит так, – сказали ему, – это всё, конечно, очень милые шутки, но вы и сами, очевидно, понимаете, что не вполне безобидные, то есть такие, которые требуют адекватного к себе отношения, или, говоря великим и справедливым языком важнейших книг, воздаяния. Ну, на первый раз мы забираем… скажем, пусть это будет память о первых десяти годах жизни. Уточнимся: как вы в день своего рождения познакомились с Пашкой Денисовым, вы ещё помните, а вот то, что было до этого – увы. В следующий раз, когда отважитесь на подобную глупость, взвесьте, будьте добры, возможные последствия, поскольку, уж не сочтите за шантаж, к вопросу следующего воздаяния мы подойдём гораздо энергичнее. Всего доброго.
Пашка Денисов, жопа с ручкой! Сколько же лет я не вспоминал о тебе, промолчал о нем Пётр, но промолчал не так, как принято молчать о знакомствах, подёрнутых толстым слоем плесени, – изъяснительно, промолчание это было восклицательным, с особыми громокипящими интонациями: такие обычно насыщают воздух при возгласе «эврика!» Так что в тот миг Петра больше занимало не то, как ему бороться с геометрической прогрессией вязкого кошмара, какие обманки и капканы расставлять на пути мажорного его аллюра, как сплющить, наконец, его нарастающую многомерность – Петра просто-таки срубило воспоминание – тем более хлёсткое и поразительное, что, по закону озарения, оно было спрессовано в крошечную долю секунды – о знакомстве с Пашкой Денисовым: о том, стало быть, как они вдвоем, незнакомые пока друг другу, в траченных кроличьих шапках и суконных пальтишках на искусственном, нездорово серебристом меху и в клеточку (только у Петра клетка покрупнее, а у Пашки – помельче, с полосочками потоньше), как они, оказавшиеся по какому-то нелепому счастливому случаю рядом в тёмном курганском дворе, отбивались и руками и ногами, и подвернувшимися железными закорюками (которые и решили-таки дело) от стайки очень одинаковых, безмолвных, омерзительно коренастых современников, при заходе солнца вылезших поразмять задубелые кулачонки на случайных одиноких прохожих, буде выражение лица у них обнаружит при ближайшем рассмотрении более отдалённое сходство с физиогномическими рельефами медведя или крысы, чем тó допускалось кодексом зоологической равнодушной злобы, по которому жили поколения и поколения смиренных среднестатистических курганцев, или буде конституция фланёра окажется потоньше нормативной, с уклоном в соразмерную благородству гармоничность. Однако тут наши маленькие засранцы просчитались, поскольку Пашка, при всей своей видимой мягкости (искусственно и любовно взращённой на стальном каркасе для раздразнивания всяких разных среднекурганских покемонов с бугристой трупной кожей), обладал той яростной гордостью, которая не позволяла ему оказаться в роли тренировочного тюка, смиренно поглощающего чужие удары, тем более если это были тычки тех, кого он в своей персональной иерархии вряд ли ставил выше пищевых отходов или, скажем, скомканных обёрток из-под «Юбилейного». От невозможности (а может, нежелания) занять свою жизнь чем-то более цельным, ценным, подобающим (славный канцеляризм!), нежели сон, в городе ложились рано, и за годы-годы этому бессмысленному ритуалу, де-факто являющемуся бессмысленной роскошью десятичасового беспамятства, подобрались лукавые обоснования, вроде: тяжело работаем – много спим; чем дольше сон – тем здоровее тело; чем глубже сон – тем здоровее дух. Но как ни крутил, как ни измышлял дорогой соотечественник, Пётр – неблагодарный сын своего города – со младых ногтей вынес для себя сколь неверное, столь же и твёрдое убеждение: город, в котором зажжённые после полуночи окна – non grata, – это мёртвый балласт человечества, это населённое кладбище, о котором без ущерба и паники настоящие люди могут забыть, это, продолжаем мы неправедный метафорический ряд, куча антропологического барахла не то что без будущего, но даже и без настоящего, механические навигаторы из никуда в никуда. Итак, нисколько не удивительно, что тот двор, где на последних этажах хрущёвок жидко горела парочка млечных окон, испуганных собственной смелостью, казался легче, невесомей и – не побоюсь этого слова – призрачней орудовавших в нём теней – тяжёлых, как танки, угловатых какой-то крупнотоннажной угловатостью, а посему мало удивительного в том, что Пётр, на которого сыпался град хлёстких, тупых, бесцельных, как бы медвежьих, ударов, отвечал на них с некоторым сарказмом, с некоторым снисходительным прищуром – так, как отвечал Сократ на кривословые атаки софистов, – и эта внутренняя улыбка только заостряла точность его ответных ударов, придавая им эпиграмматическую ладность. Луны было мало, туч – море, что позволяло внутренней улыбке Петра быть ещё непринуждённей. И всё-таки последнюю точку в этом препирательстве поставила с помощью невидимой, смутной железяки рука Пашки Денисова.
– Надо же, – сказал он, когда всё закончилось, и по тому, что он сказал это не заикаясь, через пару месяцев Пётр понял, насколько всё-таки взволнован был Пашка этой ночной схваткой, – шапку забыли, – и он поднял со снега чужую кроличью шапку, испачканную кровью и поэтому похожую на убитую крысу.
В общем, если навести фокус памяти на эту послесумеречную сценку, то она выглядела так, как и полагается выглядеть породистому воспоминанию, глубоко вросшему в жизнь его владельца: рельефно, глубоко, а кроме того – живописно-размыто (ведь тёплая, акварельная размытость воспоминания – естественное следствие его долгого, любовного, активного использования). Но стоило сместить мнемонический фокус чуть влево по хронологической оси, как в его объектив переставало попадать что-либо, кроме теней, клубящихся в совершеннейшей темноте. Ну и чёрт с ним, сказал себе Пётр после парочки попыток овеществить и орельефить эту волчкообразную сверхтуманную невнятицу, ну и чёрт с ним, подхватим вслед за Петром и мы: было бы весьма неосмотрительным плотность и оформленность считать чем-то вроде сертификата качества. Наоборот, дорогой читатель: очень немного на этом свете вещей плотных и состоявшихся, что могли бы поспорить в своей ценности с бесплотной, абсолютно полой тенью, которая то в одну сторону, то в другую крутится-вращается, что-то там себе под нос наборматывая, на самой границе между миром здешним, осязаемым, как три копейки, и юниверсумом тамошним, который есть ничто иное, как тёплая трясина без берегов и разметок. Предмет состоявшийся по большей части зол, требователен, а то и просто мстителен, в то время как несостоявшаяся вещь – тень – в основном ласкова к человеку, она почти всегда рада по-дружески, оберегающе прильнуть к нему, короновав его, как нимбом, небытием, а ведь человек с нимбом небытия куда приглядней, чем человек без какого бы то ни было нимба. Так что, повторим, и ладно, и Бог бы с ним, что вместо воспоминаний о первых десяти годах жизни в голове у Петра вращались только тени, ибо, как мы сказали уже, зачастую предпочтительней, чтобы реальность и не выходила из тени. Вот, скажем, город детства Петра, милое самаритянское поселение, полусвалка-полукладбище-полусерпентарий с праздничным именем Курган, тоже родился из кружения теней: клубились они себе, вращались, словно дервиши, между Уралом и Казахстаном, и в один отнюдь не прекрасный миг, то ли наскучив собственной волчкообразностью, то ли повинуясь властному гласу, исходящему откуда-то из-под корневищ чертополоха и рябины, то ли ещё почему, решили оплотниться в город. Эх, лучше бы им этого не делать…
Из офиса Пётр вышел совсем поздно. Он погасил свет в кабинете, закрыл тяжёлую плавную дверь и, пофехтовавшись в полной темноте с замочной скважиной, наконец попал ей ключом прямо в сердце. Тильта́м, сказал замок, и Пётр усмехнулся. Как бы вспомнив о чём-то и не переставая улыбаться, он ещё раз повернул ключ туда и обратно: тильтам, послушно повторил замок, тильтам, и если бы мы были всезрячи и вездесущи, если бы та темнота, в которой, как в формалине, застыл Пётр, была для нас полностью прозрачной, то его улыбка, неподвижная и оттого как бы мёртвая, вполне оказалась бы способной высечь у нас из груди горькие очистительные искры. Но он тем временем уже положил ключи себе в карман (и по той небрежности, если не сказать брезгливости, с которой он сделал это, было отчего-то понятно, что этих ключей для него больше не существует), по памяти обогнул невидимую мебель и, выйдя из дверей офиса, длинными скользящими шагами, словно бы изображая призрака, устремился к своему «ситроену».
Одной рукой уворачиваясь от бегущих навстречу улиц, кажущихся в этот час бессмысленно широкими, другой рукой он выудил из кармана мобильный телефон и, скосив глаз, нашёл домашний номер Кирилла.
Поздно уже, автоматически подумал Пётр, но эта мысль тут же показалась ему настолько несущественной, что он не стал думать её дальше.
– Привет, Кирюша, – сказал Пётр в ответ на скрипучее, плохо смазанное «алло», раздавшееся в трубке после целого каравана длинных гудков, неспешно прошествовавших по серым, пустынным и широким пескам между Москвой и Санкт-Петербургом. – Это Пётр.
– А, Петя! – ответил голос, который после осторожного умелого прокашливания уже успел сменить тембр подколодной кикиморы на тембр добраго витязя раскудрявого, с верным соколом на шуйце, и Пётр безучастно отметил про себя, что удивления в его приветствии было, пожалуй, больше, чем радости. – Ну как дела?
– Да всё путем. Работа движется, деньга́ капает, судьи по-прежнему благосклонны к неформальным финансовым вспомоществованиям – чего ещё нужно бедному Йорику? Ты, кстати, Кирюша, не волнуйся. Я понимаю, конечно, что время для столь безрассудного звонка несколько неподходящее, – весь его смысл заключается, собственно, в простой проверке связи или, может быть, в простом желании не быть забытым – но в последнее время я как-то так крепко заработался, что выныриваю изо всего этого только в глубокой ночи. Поэтому я отчего-то и решил, что если твёрдо придерживаться правил приличия и хорошего тона, то можно вообще забыть о дружбе. Так ка́к у тебя жизнь продвигается?
– Супер она продвигается, – проговорил голос, явно смущённый и смятый этой излишне энергичной извинительной речью, обрушившейся на него в глухую заполночь. – Всё по-прежнему, а это значит – супер, – повторил он уже смелее, расправляясь и набирая ход. – И вообще, Петя, тебе ли, дураку, извиняться. Ты же знаешь, что от твоего голоса я ликую в любое время суток.
– Ну и слава Те, Господи, я рад, что у тебя всё пучком и кустиком. – Он собрался с духом, изо всех сил, до полной деревянности сжал рукой руль и задал невиннейший на свете вопрос: – А как Олеська, кстати? Как там у неё?
– Ой, не спрашивай. Одни огорчения. Вот вчера с ротвейлером сцепилась – тот сам, конечно, дурак, виноват, ты же знаешь этих тупых свиней – еле оттащил, иначе бы кирдык свинюшке. Пришлось потом с хозяином полчаса перетирать: такой уверенный в себе живчик с приблатнённым говорком – наверное, владелец парочки точек в большом торговом центре; в общем, крепенький такой энергичный прыщ с понятиями и кругозором вряд ли сильно отличающимися от соответствующих параметров его питомца. Ну, короче, спортивный у~бок из тех, что при разговоре постоянно вращаются, как на шарнирах, так что от него, как от ротвейлера, не знаешь, чего ожидать: то ли сейчас бить бросится, то ли обниматься. Всё повторял сначала как заведённый: «Ты у меня за это конкретно ответишь»… И какой же мерзкий у него, типа, знаешь, волевой подбородок: без одной чёрточки голливудский типаж, но ведь эта чёрточка всё и решает: чуть-чуть где-то поострее уголок у челюсти – и всё, поверх всей этой голливудщины образуется такой толстый налёт хамства, дешёвой подлости и бесконечно плоской хитрости, которую он, разумеется, ценит как зеницу ока, всерьёз считая её чем-то вроде житейской мудрости, что ото всего этого физиогномического букета хочется просто блевать, потому что человек с нормальным физиономическим обонянием сразу чувствует, что букетик-то безнадёжно и давно гнил. Ну, я его, разумеется, залакировал, как действительность, всякими разными ссылками на знакомства во властных структурах. Этот урод был в конце концов настолько же любезен, насколько и туп, что даже дал мне свою визитку и предложил обращаться к нему, если вдруг какие проблемы. (Я, понятно, уклонился от ответного жеста.) Вот смеху-то! Хотелось бы мне знать, в каких таких ситуациях я смогу опереться на его гнилое плечо, из какой такой ямы меня сможет вытащить этот шкодливый КМС то ли по боксу, то ли по подлости?..
– Ну вот, завёлся, как обычно, – как бы с улыбкой (хотя ему сейчас, разумеется, было не до улыбки) протянул Пётр. Эту громокипящую тираду Петру не раз хотелось перебить неправильными, единственно интересующими его вопросами, но ведь на то и были дадены ему сравнительно большая воля, довольно-таки большое сердце и несомненно большой ум, чтобы иметь возможность вовремя удерживаться от неправильных вопросов, и поэтому стоило Кириллу замолчать на миг, чтобы перевести дыхание, как правильная, невинная и бесконечно дружеская реплика созрела и, созрев, упала в эту паузу, точно заняв предоставленное ей местечко:
– Эх, Кирюша, жениться тебе надо. Не положил ещё глаз на кого? А то так и будешь со своей бультерьершей долгий век коротать. Нам ведь лет по пятьсот каждому отпущено, не меньше…
– Дурак ты, – возразила телефонная трубка, сухо рассмеявшись, – ну сам подумай, как много на свете девушек хороших, как много ласковых имён. И зачем мне при таком обнадёживающем разнообразии жена?
– Ладно, Кирюша, заговорился я с тобой что-то, – произнес Пётр с ласковой грубоватостью. – Давай до следующего созвона.
– А, ну да! – спохватились на том конце провода. – Давай, конечно. Пока.
Но Пётр не попрощался в ответ, Пётр, словно бы заприметив невесть откуда вырисовавшуюся соломинку, словно бы обнаружив в отдалении ещё живой, тлеющий уголёк погасшей было реальности, схватился за эту соломинку, этот уголёк, эту крапинку, точечку, за едва видимую, полую линию как за обещание объяснения:
– А как его звали-то? Ну, того, с ротвейлером?
– А, беса-то мелкого? А хрен его знает… Хотя постой, он же мне свою визитку оставил. Где-то она тут валялась… Так-так-так… Ага, вот. – И прочел с парадной торжественностью: – Владимир Рекемчук21! Предприниматель! Салют! Пушки палят! Улыбки на лицах беременных женщин и малюток-несмышлёнышей, заполонивших красно убранный дворец!
– Я так и знал, – облегчённо проговорил Пётр.
– Что знал?
– Что мелкого беса, если он, конечно, существует, могут звать только Владимиром.
– Да? Почему это вдруг?
– Ну сам подумай, это же не просто имя, это целый легион имён в упакованном виде, одно пошлее другого: тут ведь тебе и Володя, и Володенька-лапочка, и Вовка, и Вовчик, и, разумеется, Вован, и еще чёрт-те сколько подобной гадости…
– Ну, ты просто льстишь Владимиру. Ведь есть ещё и Станислав…
– Э, нет, Станислав – это всего лишь младший брат Владимира. Ну давай, до скорого…
А между тем автомобиль уже въезжал во двор, осторожно, фарами нащупывая себе дорогу среди негладкой осенней темноты. Целая Москва только что пронеслась перед Петром, а он её и не заметил: телефон проглотил всего Петра, оставив снаружи только правую его руку и ступни, которые всё это время жили своей жизнью, нажимая педали и руль вращая, огромной скоростью путь сокращая, ведь в том-то и сила руки и ступней – чтоб к дому доставить владельца скорей: вот поэтому-то, дорогой читатель, подъехав к своему подъезду целым и невредимым, на жалком ли продукте АЗЛК или на роскошном «роллс-ройсе», не почти за труд так же горячо поблагодарить свои ловкие ступни и свою зрячую руку, как Пётр поблагодарил своего начальника, рыжего, большого, страшного, бородатого-очкастого, бывшего гиревика, а ныне просто любителя поблевать в туалетах дорогих ресторанов, поблагодарил уже перед дверью квартиры, глядя задумчиво на носки ботинок, этого кота-мурлыку с двумя сердцами – сердцем гепарда и сердцем ежа – за то, что тот, в ответ на нелепую полуночную просьбу об отпуске, посвистывая, подышал несколько долгих, быстрых, обычных, в общем, секунд в трубку и ответил грозным и огорчённым басом: «Ну, ~ с тобой. Поезжай, раз так нужно. Карьера твоя, тебе и решать, что с ней дальше делать».
Карьера, нервно рассмеялся Пётр, входя в коридор своей квартиры, обычно пахнущий для него такой полнотой бытия, какая не снилась ни одному дому этого мира, а ныне объятый той же промозглой сиростью, что равномерно заполнила все кулуары, норки и вмятинки вселенной, карьера – для Петра не было сейчас более бессмысленного слова, карьера, повторял он с каким-то злым задором, карьера, карьера, карьера, и только через несколько десятков карьер вдруг почувствовал, что нервы, сердце и мозг его раскалены до того предела, за которым воля превращается в тайфун, а мысли – в смерчик колючих, больно бьющих песчинок, и что тело его наэлектризовано до кондиции шаровой молнии, которую любое малейшее прикосновение может разорвать на миллионы огненных брызг. Поэтому Пётр быстренько-быстренько застелил себе постель, быстренько разделся, быстренько достал из бара бутылку «Арарата» и, только отпив из неё крупными, как бильярдные шары, глотками добрую половину, почувствовал, что напряжение в электрической сети начинает падать. Вот и славно, молча сказал он себе дрожащим голосом и спринтерски допил оставшуюся половину коньяка. Тело разрядилось окончательно, однако ещё не начало тяжелеть. Потом всё-таки поплыли руки-ноги, потом утонула грудь, и комната, уже потеплевшая, какая-то вся фланелевая, медленно перевернулась и погасла.
А потом пришла Тонкая Женщина, и это было похоже на то, как если бы внутри сна вдруг пошёл невидимый мокрый снег. Опять она вошла деревянной и негнущейся, так, словно бы внутренний и настоящий её каркас – затейливый симбиоз рыбы и змеи – снаружи лишь слегка был облицован человечинкой и ей, тонкой, мучнисто-прозрачной, сердитой на этот необходимый и, видимо, вынужденный камуфляж, было неудобно в непривычной андрогинной шкурке.
– Та-ак, – протянула она угрожающе тихо и развернула небольшой лист бумаги, – что вы тут мне написали? «Платкоточку ему включи! И побольше горечи! Вот будет гарно! Враз зробим!»
Она помолчала и так медленно подняла на Петра свои каменные, заполярные глаза истощавшего Вия, твёрдые глазёнки, похожие на два метеорита из какой-то злой вселенной, что Пётр, у которого заготовленная уже фраза, замороженная спокойствием при участии самых высоких экзосферных слоёв выдержки, – «Я ничего не писал вам» – предательски размягчилась, захлюпала истерикой, одним словом, что Пётр счёл за благо просто промолчать в ответ.
– Какая вульгарность! – процедила она звенящим от раздражения полушёпотом. – Откуда, позвольте спросить, этот панибратский тон? Я запамятовала: может быть, мы пили с вами на брудершафт? Вы всё-таки совершенно неуёмны, и это определённо требует некоторых мер…
Но некоторые меры остались недоговоренными, некоторые меры, точнее, оказались созвучны с помилуй-сохрани или с упокой мя, потому что из угла того кисельного, кисейного, равномерно-мёртвого пространства сна, в котором пребывала Тонкая Женщина, вдруг молниеобразно выметнулось игольчатое, шерстяное серебро и, мелькнув обнажившейся пастью цвета слоновой кости, как бы преувеличенно пародирующей стоматологию графа Дракулы, снесло чёртову худобу с ног. Какой-то из карманов сна, по мере надобности открывающихся внутри сна везде и повсеместно, тут же навсегда проглотил скользкие клочки разъединённой плоти, и это было… Так, ладно, по фигу, что там «это было». Мне нужен ответ на один простой вопрос: КАКОГО ХРЕНА? Какого опять хрена это шерстистое небытие, эта фигня на постном масле, эта, блин, выдуманная мною закорючка на листе бумаги начинает вмешиваться в то, чему отмерен свой ход и у чего есть свой, совершенно отдельный толк? Чито злой гавариш, камандир? Я руски не панимать. Руски язык савсем не панимать. А, не понимать? Ну что же, это всё объясняет. Ничего, вымараю тебя из текста, сразу поймешь. Займусь-ка, кстати, я без отлагательства этой чрезвычайно полезной для моей прозы процедурой. Одну минуточку. Что? Одну минуточку благосклонного внимания, попросил бы я Вас. Я, как уже было говорено мною ранее, отношусь к институту авторства – древнему, благородному, освящающему саму Культуру институту! – с огромным почтением, которое, будучи, в сущности, даже больше, чем почтением, граничит со священным трепетом, но позвольте на минутку вмешаться в беседу, дабы привлечь Ваше внимание к тому незаметному на первый взгляд факту, что чрезвычайно суровый властитель, железной рукой сдавливающий судьбы и души подданных, менее любим оными, а значит у него менее шансов построить действительно величественное и всевосхищающее здание Государства или, в нашем с Вами случае, Романа. Тьфу ты, это просто напасть какая-то! Ну откуда эти велеречивые до пошлости голоса, откуда эти ходульные эпитеты, за ломаный грош приобретённые на каком-то куртуазном блошином рынке? Я и думать не думал одалживаться благорасположением мимолётных зверушек, чей век, по первоначальному, авторскому, заметим, замыслу, должен был длиться не более нескольких строк. За пределами этих строк вы оба – недоразумение, нонсенс, ничем не обоснованное скривление прямого, как стрела, рассказа. Кстати, а откуда вообще странное заблуждение, что я будто бы пишу роман? Роман – имя-то какое препротивное! До каких же глубин пошлости и недомыслия нужно доскакать, в какого же рекемчука на палочке превратиться, чтобы во всеуслышание заявить: «Я – пишу – роман!» Это моветон, братцы букеры: пишут не романы, а слова, на свой лад причёсывая каждое из них со всем тщанием, и, буде они все вместе приобретут должную ухоженность, которая, разумеется, не имеет ничего общего ни с пасторальной прилизанностью, ни с варварской роскошью, фонтанирующей сиропными красотами, ни с какой иной литературной шиловщиной, тогда, возможно, кое-что из получившегося позволительно будет поименовать романом; пока же нечто ещё только пишется и некоторые из слов вот-вот с пылу с жару, ни о каком романе речи вестись не может. Да и вообще, по правде-то и шёпотом говоря, в эти штормовые деньки начала двадцать первого века романом можно назвать только литературный трупик, хотя, конечно, многие и находят очарование в старательно изукрашенных мумиях, для многих, то есть, и сейчас этот трупик живее многих живых, в чем, замечу, я лично не вижу ничего предосудительного, поскольку некрофилия – страсть древняя и почтенная, унаследованная отечественными нашими дубами-колдунами с наклонностями читайки от инженеров-пантократоров былых аристократических времён, для которых высшей радостью служило доскональное ощупывание ладно сконструированного словесного органума – так, что все втулки в пазах без малейшего зазора, все зубчики сцепляются друг с другом, что твои Ромео и Джульетта, а штыри бездвижно вытянулись во фрунт в надлежащих отверстиях – и чем более громоздка сия умная машинерия, тем в больший экстаз (на посторонний взгляд уже совершенно неотличимый от катарсиса) она приводила наших умудрённых технократов. Но мне-то, мои немыслимые, несуществующие слушатели, мне-то желается совершенно иного, мне хочется писанины, с одной, чрезвычайно важной стороны, бешеной и расхристанной, такой, где бы концы болтались без начала, где бы сюжет был хронически пьян и сосчитывал все углы на своём пути, а слова беспечно слонялись взад и вперед, полюбовно соединяясь друг с другом по собственному разумению, и всё-таки, с другой, ещё более важной стороны, такой писанины, от которой, несмотря на всю её сумятицу и вихреобразность, у настоящего читателя захватывало дух, чтобы он, отбросив книгу, восклицал бы: «Что за ~! Что этот ~ понаписал!» – но, отбросив и воскликнув, вновь с шевелящимися на главе волосьями брался жадно пробегать глазами эти невыносимые страницы. А-а, вот-вот, и я же об этом, милый мой, многоуважаемый автор, и я ведь, только другими словами, говаривал про эту самую свободу, про эти зазоры и колдобины, которые просто необходимы настоящей живой книге. И, коль на то пошло, мы с серым и есть те колдобины и углы, о которые спотыкается и ушибается Ваше ладное, я бы сказал, слишком ладное повествование, и если Вы думаете, что нам самим вот это бытие загогулинами приносит единственно только радость, то Вы глубоко ошибаетесь: ведь Вы наверняка знаете, что пишете не чернилами, как многие прочие, а живым пламенем, и этот огонь, или, лучше, огнь, обжигает не только тот мир, поверх которого пишет перо, но и нас, бедных и счастливых постояльцев этого мира. Да что там говорить понапрасну. Серый, покажи левый бок. Вот видите, с подпалинами. Да и мой пышный хвосток уж не тот, что в начале повести: и здесь, и там пёрышки обуглились, потеряли цвет, ещё недавно приведший бы в восхищение любого новоявленного ренуара. Ну ладно, будет болтовни. Любая ступенька на то и существует, чтобы нога, поперхнувшись ею, прокашлялась несколькими необязательными, смазанными шагами и затем возвратила себе привычный ритм. Итак, вычёркиваем из повествования эту серую морду и продолжаем кропотливо строить нашу извилистую фабулу, хотя, признаться, скоропостижное исчезновение Тонкой Женщины нанесло оной сложновосполнимую потерю: кому ещё, как не ей, погружать нашего героя в атмосферу липкого ужаса, сквозь которую идёшь, как слепой, на ощупь, по таким хрупчайшим вешкам, что они при любом, самом воздушном прикосновении норовят обратиться в пыль, чтобы больше ровным счётом ничего не значить для идущего. Впрочем, рассыпающиеся вешки – дело наживное, при должном усердии за ними не заржавеет; а покамест мы все, дорогая публика, с чувством глубочайшего удовлетворения должны дружно сказать оревуар нашему беспокойному серошёрстому персонажу, которому отныне и вовеки не суждено побеспокоить ни нас, ни кого бы то ни было ещё, поскольку беспокоить нас теперь, собственно, будет не-ко-му: вся эта серая шерстистость вкупе с великолепным дентальным аппаратом и бойкими, скоростными лапками под наши бурные аплодисменты, переходящие, как водится, в овации, покинула, расшаркиваясь, пределы повести и… Одну минуточку, уважаемый. О, да мы снова научились русскому? Браво! Сколь быстрая перемена! Сколь стремительное умножение вежества! Однако же – никаких минуточек! Итак, расшаркиваясь и виляя умилённо крепким, как рулевое весло, хвостом дворняжьего окраса, наша серая образина покидает, повторяю для слабослышащих, покидает повесть… Да что ж это такое! Ну, не сдержался я, да, не сдержался, так ведь порвал на кусочки не Алёшу Карамазова и не Красную Шапочку с её милой бабулей, а злодейское создание, коварный морок, диаболическую, можно сказать, креатуру, справляющую своё бытиё за счёт сумрачных, злокозненных валют, замешанных на вязком ужасе. Да и вообще – спокойно, спокойно, я стараюсь быть рассудительным, вы же любите рассудительность, проза-то у вас ой какая рассудительная, вы ведь не будете это отрицать – не я, в конце концов, себя создал, я, извините за выражение, не Паро, царь Мицраима, [не] крокодил из книги Иезекииля, и создал меня не буду показывать пальцем, кто, волком, а не синицей или камешком, лежащим у обочины Великого Шёлкового пути, так что по глубокому авторскому замыслу я волк, зубами, ~, щелк, или, говоря более пространно, если какая-либо писанина претендует на корректное использование слов (а мы здесь, вроде бы, существуем не в жанре шифровки, где пишешь верблюд – подразумеваешь скворечник), то должна быть выстроена и корректная связь между, во-первых, этим самым словом, во-вторых, материальной составляющей означиваемого им предмета и, в-третьих (внимание!), ипотесы и номоса22 этого предмета; так вот, волчьи ипотеса с номосом имплицируют, если кто не знает, следующее: свирепость, стремительность, сочетание острого ума с непредсказуемостью поведения, нетерпеливость и еще премногие брутальные характеристики. Так вот, вопрошаю я вас, дорогие слушатели и благосклонные читатели, можно ли быть столь суровым к несчастной зверушке, которая, будучи изготовлена многохитрым автором по не им созданным лекалам, а по лекалам, миль пардон, Господа Бога, всего-навсего следовала своей природе, на кусочки разрывая вражину, опасную для любого, не принадлежащего к войску антихристову? Вот болтун, Боже ты мой, и откуда что только берётся: эта лукавая словесная кучерявость, призванная замусолить до неузнаваемости смысл сказанного (что прежде, кстати, была замечена только у пылкой сахарной птички); эти небрежные вкрапления платоновой лексики, не слова, а прямо-таки настоящие индульгенции для хамов всех мастей, контрабандой протаскивающие ту несложную мысль, что, дескать, ежели шкодливый наш клиент заучил десяток терминов из философской энциклопедии, то ему везде и всюду сугубая хвала, ему с этаким-то культурным багажом и у старушек кошельки среза́ть дозволено, а не то что задрать на ужин какую-нибудь инферналию; это фальшивое самоуничижение краснобая с повадками напёрсточника, наконец. Весь нехитрый арсенал дешёвого словесного шулерства брошен в бой, лишь бы одурачить читателя-недотёпу. В одном мы просчитались, уважаемое создание: читатель-недотёпа не прикоснется к моему скромному, но весьма тревожному труду, это не его форматик; твой адресат загорает на диване с томиком Набокова или Голсуорси, время от времени произнося сомлевшим и круглым голосом: «Какой стиль!» А вот и нетушки, ошибатушки-заблуждатушки, читатель твой – нормальный такой вменяемый парнишка, а не учёный аллигатор с мозгом вместо сердца, как тебе о нём хочется думать. Так что ему-то как раз моё присутствие мило, он-то как раз вполне себе даже готов прощать мне минутные вспышки вспыльчивости. Ой ли? Да я готов свой хвост прозакладывать, что это так и только так. Я, по правде-то, вообще не понимаю, к чему это обилие разговоров, если есть идеально простой и надёжный способ определить фортуну героя… Ну-ка, ну-ка, какой же такой способ? С этого момента я прямо-таки увеличительное стекло своего повышенного внимания навожу на твою прямую речь; мне с этого момента, можно сказать, жизненно важно выяснить, что же там за такой простой и надёжный, как ты изящно выразился, способ нарисовался для определения полезности фиктивного фигуранта. Так у читателя спросить. Вау, восклицаю я в восторге, йоу и вах-вах-вах! Не перебивай. Так вот, если он, читатель, решит, что я тут лишний, никчёмный и даже, как тебе в голову взбрело, вредный для сюжета, то – что ж – сокроюсь я отседова, ищи-свищи меня, нежеланного, но если он вдруг посчитает, что я здесь к месту, – тогда извини-подвинься: придётся за мной местечко-то в уголке всё же закрепить. М-да, дружок, идейка та еще. Но, знаешь, хоть я и отношусь к читательским рекомендациям без всякого пиетета и даже внимания, поскольку хороший читатель, как знает каждый карапуз, – это читатель, почтительный к прочитанному слову, читатель, следовательно, воспринимающий его как сакральную территорию, где запрещён снос имеющихся зданий и возведение собственных, словом, хоть я и принимаю только такого читателя, который в процессе чтения максимально, на посторонний взгляд, может быть, даже чрезмерно молчалив, но в качестве лёгкой шутки, дающей сюжету забавный завиток, – что ж, пусть любитель изящной словесности, чуть стосковавшийся и, пожалуй, слегка квёлый, подразвлечётся. Итак, мой отважный читатель, мы с тобой договоримся почти по-родственному: в одной из нижеследующих строчек тебе достаточно лишь поставить галочку, крестик, чёрточку, нолик, точечку или звёздочку, в общем, любую пустяковину и почеркушку, чтобы наш серый проказник либо покинул, либо, увы, остался на страницах сего повествования (впрочем, мы-то с тобой понимаем, что это чистая формальность в угоду стилю, мы-то совершенно убеждены в предопределённости голосования, это у нас с тобой тут как бы маленькие такие выборы между Туркменбаши и смутным дохленьким инородцем с тремя судимостями). Итак, бери стило в правую или левую руку, держи его, как хочешь: прижимая указательным или средним пальцем, твёрдо или расслаблено, и, означив естественное своё суждение, переверни страницу, чтобы далее устремиться вслед за авторским пером-непроливайкой, с или без сам-понимаешь-кого, с или, запомни особо, без…





