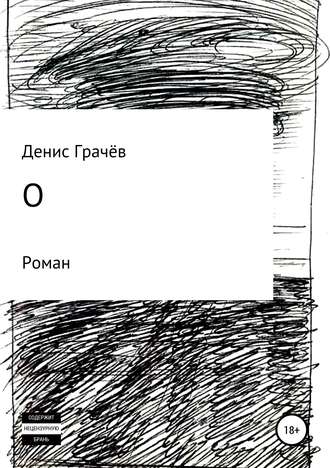
Денис Александрович Грачёв
О
– Таких здесь не проживает… Таких здесь не жили никогда.
– Подождите, − сказал наш Пётр, уже особенно ни на что не надеясь, – это номер такой-то?
Там легонько помолчали – очевидно, чтобы помучить Петра, которому показалось, что у него сейчас пойдёт носом кровь: да, ответили – и сразу положили трубку, но всё же перед тем, как питерская эта телефония втопила рычажки, на заднем плане, вдали, раздался смех, и дальше мы побежим по рецептивной саванне Петра, как маленький Мук в сапогах-скороходах: журчание смеха – – краткого, как точка, женского смеха – – – ставшего, увы, слишком знакомым за эти три дня, чтобы на его счёт можно было ошибиться – – – —
– Таких здесь не жили никогда, – с удовольствием повторил он пожилую эту фразу и выпил перед сном стакан «Джонни Уокера». Ничего особенного; важно, может быть, отметить лишь то, что стакан был старый, гранёный.
Через пару дней он заметил, что дни стоят тёплые, что широкие лучи солнца заставляют быть шире дворы и улицы города, что воздух вовсе не прогоркл, но свеж почти по-альпийски, и, заметив всё это обычное, всё то, что московский среднепешеход замечает влёт, без какого-либо надрыва чувствилища, он понял, что его тело, высвободившееся наконец из сложной системы мерцаний и сполохов, обрело неглубокую успокоенность, пусть и не такую, которая утешает хотя бы на краткое время, но во всяком случае достаточную, для того чтобы просто дышать, просто ходить, а не взвинчивать эти повседневные обыденности до статуса Дышать или Ходить12. Одним словом, тело заново, хотя и только отчасти, попривыкло к жизни. В качестве первой пробы голоса после долгой немоты он азартно кинулся обзванивать мебельные магазины. Результатом этого увлекательного блуждания по телефонным линиям города Москва13 стало давно уже анонсированное исчезновение кожаного дивана и появление двух тонкошеих кресел голубых кровей. Следующий день принёс с собой два новых окна, от которых комната как бы прозрела и все предметы в ней, оставшись вроде бы на своих местах, приобрели новый, более строгий порядок, а вот день послеследующий, как тó и положено всему постепенно усложняющемуся по сравнению с предыдущим, принёс нечто позатейливее интерьерных рокировок.
Когда жидкий вечер лёг в доме, когда бутылка «Арарата» опустошилась на треть, когда тело и сознание Петра растворились, напоследок оставив по себе лишь кисть руки, автоматически перещёлкивающую телевизионные каналы, в пустом доме раздался телефонный звонок. Вы, наверное, не знаете, как звонит телефон в пустом доме? Можно было бы долго распространяться о чрезмерной внезапности того звонка, что делает воздух в доме воспалённым, можно было бы после безмерно сосредоточенного вдумывания укрупнить посредством методичной дескрипции все капиллярчики звонкового феномена до обхвата секвойных стволов, с тем чтобы многомерность этого звонка переместилась из московской квартиры периода условных времён прямо в терпеливую читательскую душу, но я не стану вести караваны слов в эту гору, я хочу вызвать не понимание, но согласие, когда скажу, что телефонный звонок в пустом доме всегда окаянный, что сущность его слишком вертлява, едва ли не на грани с блудливостью: ведь отчизна пустоты целомудренна в своей неподвижности, и любое движение, будоражащее оную, нечисто и проклято от века. Что хорошего можно ждать от этой акустической Хиросимы, вопрошаю вотще я, волче? Не знаю, ситцевый, не знаю, прямоходящий; ведь не было же, в конце концов, в истории вашей столичной Хиросимки этой б~дской бомбы, ведь оставил её и. о. ё~ного того американца под раскладушкой, не взял её на акустическое свое дело? Как знать, серый, как знать… Увидим.
– О, наконец-то, буржуазия! – услышал он в ответ на своё сакраментальное, но отнюдь не равнодушное алло. – Невозможно застать этого человека! Спички ворует, дома не ночует: совсем обогемился! Не разбудил?
– Да что ты, Кирюш, – ответил он как можно ласковей, хотя слова как-то плохо шли к горлу, – время-то детское.
– Второй час ночи – детское? Значит, правильно я угадал насчёт резко поднявшегося уровня богемности? Это ничего, иногда нужно интенсивно поколбаситься, для того чтобы жизнь не заиливалась… У меня как-то, друг родимый, опять ссохлась по тебе душа: удивительно животворящим оказалось прошлонедельное наше клокотание – и мозги неожиданно прочистились, и кровь в венах правильно позиционировалась, и так называемая энергия откуда ни возьмись нагрянула.
– Энергия? – произнёс вдруг Пётр полушёпотом, потому что обыкновенный его обыденный голос куда-то запропал, так что энергия прозвучало как нечто среднее между простите меня и помилуй мя. – А что там с ней, с энергией?
– Да чёрт-те что. В другое бы время заплакал горючими слезами и бросил все свои усердия в мусорный цилиндрик, ну а тут крутился и рубился, аки воин Ахилла супротив задавак-троянцев. Вот например. – И здесь, очевидно, Кирилл набрал полную грудь воздуха, а Пётр облегчённо выпустил весь воздух, мрачно стоявший в груди, в голове, в ушах, перед глазами и в сердце, поскольку зачин его приятеля был несомненно эпичен, и за время рассказа, уже начавшего проясняться, подобно отдалённой сиреневой-лиловой-голубой черте горизонта, вполне можно бы попытаться выровнять слишком косую ныне границу между внутренним и внешним интерьерами. – Так вот, в один амбивалентный день стучатся в двери нашей скромной шарашки некие люди в чёрном и говорят красивыми бархатистыми голосами, что желали бы видеть на своей интеллигентной и закрытой вечеринке давно почившую в забвении, но от этого не менее великую голландскую поп-рок-группу «Шокин-блю» (– Кирилл произнес это гораздо ниже, со внушительным английским прононсом: Shocking Blue) или по крайней мере звонкоголосую солистку её Маришку Верес. Ну, я, разумеется, отнекиваюсь – мол, это не наш профиль, мы таким особенно-то и не занимаемся – а у самого в голове тем временем наигрывают все эти «Шизгары» и «Railroadman’ы». Дал-таки себя уговорить этим джедаям. Гонорар определили в десятку, так что, думаю я, потирая попеременно ладошки и портмоне, порядком подзабытой нашей суперзвезде, распевающей в амстердамских кафешантанах, сие вполне подойдет, особливо ежели продать ещё пяток равногонорарных бенефисов туды и сюды. Хорошо, начинаю искать. Никакие агентства контактов этой шушеры не дают. Тогда я применяю дилетантский, но безотказный приём: во-первых, пытаюсь отыскать её интернет-сайт, во-вторых, пытаюсь отыскать сайт издающей её драгоценное творчество конторки. И то, и другое удаётся, но как-то половинчато: ну не имеется персональной странички у нашей мадам, превратившейся за годы из эфирной русалки в статридцатикилограммовый экспонат для павильона «Животноводство», зато отыскивается некий американский сайтешник, изготовленный любителями её пронзительных песен, куда я благополучно отсылаю скорбную просьбу о вспомоществовании в виде контактов примадонниного продюсера. Вторая эпистола летит прямо в негостеприимные объятия продуцентов её сегодняшнего закатного творчества. И, знаешь ли, друг мой, ответы приходят почти одновременно. Слабый заокеанский голос сообщает мне, что никакого продюсера у нашей бурёнки не имеется, это для неё теперь непозволительная роскошь, рулит она всем сама по себе, а телефоны еёные вот они, на блюдечке, чей голубой обод даёт немало оснований для оптимизма. Уверенный же голос обладателя небольшого нидерландского звукозаписывающего сарайчика поначалу немного суров, но в ответ на моё подобострастное блеянье смягчается и выдаёт-таки страшную тайну Маришкиных телефошек. Ну что же, звоню ей окрылённый на домашний нумер: меня встречает молчание, после которого автоответчик предлагает мне оставить сообщение, и я наговариваю сходу, что мы такие и эдакие, с вот такой-претакой репутацией, что мы её рады того-этого в Питер и Москву, ну и далее в том же непростительно оптимистическом тоне. Набираю мобильный – не нажимает никто на том конце зеленую кнопульку своего портативного ящичка. Ладно, решаю, светлое завтра задаст на орехи туманному сегодня – и откладываю дальнейшие тщания до утра, которое, собственно, и наступает в скорейшем времени. А утро оказывается не менее туманным, оно оказывается седым, как лунь, потому что сто́ит мне начать свою мажорную интродукцию – каждый раз это, естественно, соло для автоответчика, поскольку, по-видимости, миссис-твиссис видит на определителе незнакомый номер, и у неё душа – не побоюсь этого слова – уходит в то, что ещё лет тридцать назад могло сойти за пятки – так вот, сто́ит мне начать дудеть в дуду радужных перспектив и существенного отяжеления кошелька нашей тётьки, как невидимая, но чрезвычайно решительная рука нажимает с той стороны эфира на «отбой», и моё бойкое аллегро подхватывается ещё более бойким престо коротких гудков. Что за притча, думается мне на манер героев классической русской прозы после надцатой, примерно, попытки штурма телефонного бастиона. Может, американо-голландский мой ИТАР-ТАСС засбоил, может, случайно переслал мне вопиюще архаичные сведения? Звоню, пишу моим благодетелям – поможите, мол, ещё один добавочный раз, люди добрые, сверьте базу данных – на что мне приходят ответы разные, и каждый из них будоражит с разной интенсивностью. Добрый американский энтузиаст сообщает следующее: нье сльедует огортшаца, тётя Мотя у нас странных правил, она у нас норовистая по-ахалтекински и порывистая по-ваххабитски, душа у неё – угловатые потёмки, и что там в очередной момент из этих потёмок повыпрыгнет и повыскочит, невемо никому, включая самого владельца вышеуказанного мрака. Так, продолжает свой печальный дискурс заокеанский друг, оная суперзвезда неоднократно высказывала заочно сердечное удовлетворение изготовленным мною виртуальным ресурсом, который, собственно, и привёл вас, дорогие русские друзья, в мой почтовый ящик, однако ж никогда и никак не обратился ко мне звонкоголосый идол с очным словом ободрения. Да и вообще, други мои, да и вообще, продолжает наш грустный товарищ, но, видимо, силы изменяют ему, слабая рука отказывается печатать порочащие идола сведения, и наррацию продолжают многоточия длиной в четверть Млечного пути. А вот с робятами из аудиосарайчика имени Маришки Верес происходит иное: они раздражённо кашляют в кулак в ответ на мой звонок, они деловито мнутся, а потом заявляют: ну, милые мои, дали мы маху с вручением приватных номеров неизвестным респондентам. Мефрау Верес были в бешенстве, они в гневе звонили нам и устраивали разнос, они просили передать этим русско-монгольским шулерам, что, буде им пожелается ещё раз побеспокоить талантище с предложением каких-то дурацких авантюр, ей придётся обратиться в полицию – да-да, to the police! Я как-то спроста пугаюсь, чуть ли не оправдываюсь, говоря, что, разумеется, двигали мною в том числе и некие корыстные соображения, но и мефрау с пятьюдесятью тысячами за пять концертов не осталась бы внакладе, а уж получение ею упомянутых дензнаков мы гарантируем ещё до приезда в Россию, сразу после подписания обоюдоудобного контракта. Да нет, отвечает мне трубка, нет: вы ведь рус-ски-е, а потому Маришка готова дать на отсечение самое дорогое, что у неё есть, – облапошите вы её, оберёте до нитки, на том и конец фильма. Не будет она тратить время на разговоры с подозрительными гомункулами. Как вы полагаете, вопрошаю аз смиренно, поскольку безнадёжность обуяла-таки моё сердце, не переменит мнение наша шизгара, если поговорить с ней доверительно и ласково и матсредства преподнести в режиме реального времени, то есть непосредственно в ходе митинга. Молодой неизвестный чоловик, отвечает мне глас, уже начинающий нервничать ввиду сенсационной моей непонятливости, не интересует её криминальное ваше бандитское-душегубское золото – другого-то у вас не бывает – и говорить она с вами просто-напросто не будет, приволоки вы ей хотя бы и все сокровища тысячи и одной ночи вкупе с драгметаллами ацтеков и майя. Ну вы же русские, доверительно добавляет голландский наш друган, поймите сами. Каждый, конечно, – а уж ты и подавно – сможет воушию представить себе тот серный ливень из проклятий и анафем, который я виртуально вылил и на дебелую эту венеру с мышиным кругозором английского правозащитника, и на западную великую цивилизацию в общем и целом, которая на людях-то и самому Ясиру Арафату с Шамилем Басаевым жопу готова поцеловать, а в кабинетной приватной тиши такую плебейскую спесь развесит, что её отбойным молотком не прорубить. Ну ничего, мы ещё пристегнём чёрные крылья и отправимся их бомбить. Непременно отправимся.
– О, как высок твой штиль, – проговорил Пётр, который к тому времени, к тому заметно полегчавшему и посветлевшему времени уже научился заново – и небезуспешно, надо сказать, то есть чуть ли не с шиком – дышать; который к тому же разгрёб между тем какие-то тесные, бугристые завалы в лёгких и вновь обрёл дар слова, дар мысли и ещё один, самый драгоценный – дар чувства.
– Ничего, бывает и выше, и, уж поверь мне, непременно был бы повыше, кабы не твой благородный визит.
– Спасибо, дорогой, спасибо… – ответил он и тут же оборвал свой ответ, поскольку, несмотря на то что пришло время спросить о самом для него главном, сил на самое главное, как тó зачастую и случается в этом мире, вдруг не хватило.
– Что-то тухленький ты сегодня, – беззлобно пробурчал Кирилл, и в этой беззлобности ясно как день-деньской прочитывалась его усталость от тяжёлой послеполуночи и от собственного марафонского спича. – Да и понятно оно… Замучил я тебя демосфеновыми своими руладами… У-у, как позднёхонько-то, – спохватился он, взглянув, по-видимости, на часы, захотев, по-видимости, всплеснуть – эть! – руками по-своему, по-мужски, но не совершив того вследствие невозможности всплескивать ими, удерживая одновременно неудобную пластмассу телефонной загогулины.
– Затухлеешь тут, – вздохнул Пётр, но Кирилл не обратил никакого внимания на крывшуюся в этом вздохе многозначительность и, перешагнув через последнюю реплику Петра, сделал вывод то ли из кромешной осенней ночи, господствовавшей на всём пространстве от Москвы до Питера и наоборот, то ли из своих предыдущих слов, сказанных при отключённом мозге на излёте риторической ажитации:
– Ладно, поздно есть поздно – не думай, что этого слова я не знаю. Да и слово усталость находится у меня не только в пассивном запасе. Просто хотелось какого-то вербального контакта…
– Неопытный я сегодня, Кирюш, юзер осмысленных вербальностей…
– Э, Петька, не дури. Правильно заполнять паузы – тоже искусство, так что не будем самоуничижаться: мне нужно было выплеснуться, с тобою беседуючи, тебе нужно было… О, сорри, – раскатисто прорычал он в трубку прямо сквозь огромный зевок, – всё, спанюшки. Давай завтра созвонимся в урочное время. Не забывай нас.
– Да уж вас забудешь, – ответил Пётр и тут же обмер на мгновение от ужаса, что эти слова могли прозвучать с непростительной многозначительностью, но – слава Богу, отомри! – это всего только нервическая суматошность, будь спок, братишка, и братишка продолжает уже сильно успокоенный сам собой: – Позвони мне, Кирь, а то я зело заморённый жизнью в последнее время. Как Олеська-то? (Как же ты утробно ёкнуло, сердце, решившись на такое! Как же просело ты под грузом вопроса сего!)
– Позвоню, куда я денусь. Спит Олеська эта, сопит в две дырочки. Пока, ночи доброй.
И он перебил сам себя короткими телефонными гудками. Пётр слушал их долго и жадно, как если бы утолял жажду.
– В две дырочки, говоришь? – наконец сказал он этим коротким гудкам, которые всё гнались и гнались и никак не нагоняли недостижимый для них длинный гудок. – Ну что же, ночи доброй, милое создание.
Прошло два дня, и, как про любые два дня, об их прошествии гораздо легче заявить, чем прожить всю их тревогу, равно как и всю их маету, бессилие, горечь (которую сто́ит многозначительно выделить в отдельный курсив). Пётр этими днями делал то и это, поступал так-то и так-то, но, несмотря на всю плотность его рабочего графика, достигшего в процессе искусственных наращиваний прямо-таки барочной ажурности, каждый из этих дней по своём истечении имел не растворимый ничем остаток, как если бы нечто неизбежно должно было произойти, но недослучилось, фатально недопроизошло, спрятавшись сапой где-то в непрозрачной складке между двадцать четвёртым и нулевым часом, и не было понятно ни мне, автору, ни тем паче дорогому нашему юристу, чего в этом осадке больше – горького обаяния или же глухого, тихого, но перворазрядного (побольше воздуха в лёгкие —) страха. Впрочем, Пётр и не задумывался над тем, чтобы определить место своему мерцающему чувству: в эти дни он старательно создавал видимость чрезвычайнейшей занятости, которая ни в какую не дает разглядеть то, что творится по ту сторону повседневщины.
В конце второго дня, когда вечер ещё сильнее, добавочной нахлесткой тёмного засурдинил солнце, которое теперь даже и днём, будучи запакованным в серый пух, не светило, а только подсвечивало мутную смерть, притворяющуюся ненастным воздухом, словом, в конце этого самого второго дня, находясь в том блаженном состоянии, когда крайняя измотанность кажется почти бодростью, он почти не удивился тому, что Олеся, про которую внутренний цензор не позволял ему не только думать, но которую непозволительно было видеть даже во снах, взяла его, глубоко задумавшегося о пустоте-тоте-тете, за руку и сказала своим дважды тихим, трижды взволнованным голосом:
– Я не могу жить без тебя, сволочь. Я не могу без тебя жить, самовлюблённый негодяй.
А он молча открыл дверь подъезда. Она, тоже молча, но не отпуская его руку своей мелко дрожащей рукой, зашла с ним. Ему стало вдруг очень холодно, и он даже попытался инстинктивно застегнуть негнущимися пальцами расстёгнутый плащ, не попадая, словно пьяный – монетой в прорезь игрального автомата, пуговицей в петлю до тех пор, пока не понял – а понял быстро, на то он и московский умник – всю смехотворность своих попыток уладить реальность перед многоликим лицом нагрянувшего напролом чуда. В петлю, говоришь, кто-то там не попал? Ты уж будь поосторожней с такими фигурами речи, а то они, поганцы (г – фрикативное), имеют обыкновение этакими чеховскими ружьями расползаться по вниманию доверчивого читателя. А ведь он, наивный, он, трёхголовую собаку съевший на всяких деталях и лейтмотивах, не с тебя, безответственного, – с меня спросит в последнем акте, когда пукалка не то что не выстрелит, а скорее всего обратится в детскую рогатку, в морковный салат, в снеговика с гебистской корочкой: почему не предупредил, почему водил нас за ночь, а не за нос, как положено маститому писаке-умняке? Ну хватит уже, серый, мешать неспешному процессу, хватит уже с пылу с жару сшибать мою прозу с ног своими идиотскими комментариями. И, кроме того, нечего провоцировать своего автора (автора! – подчеркну особо, а не какого-нибудь своего товарища по небытию) к патовой рекогносцировке: невместно мне открещиваться как от маститости, так и от дилетантства – егда пишешь незажатой рукой и со свободным дыханием, то сор, пепел и тлен, которые поднимаются движением пера, окутывают строчки наподобие жизни, а ведь негоже роптать на жизнь, даже если она порой принимает двусмысленную форму чеховских афоризмов. Ну загнул, серьёзный, ну загнул так загнул, креативный – опять без пол-литры не разберешь: у тебя, как послушать, прямо не клавиатура, а мусорный мешочек с пылью, прахом и гилью, которому только и есть дел, что облачать жизнь помойными убранствами. Да и с чего мне не роптать на жизнь, кто она вообще такая, эта претенциозная чушка? Если заслужит – а с неё станется – рыкну так, что полные штаны наложит. Но вот что ещё важно для тебя, плодовитый (…ой-ой-ой, какая страшная в своей многозначительности пауза, сейчас я выроню из ослабевших пальцев перо, а из ослабевшего сердца – отвагу, чтобы не слышать фундаментальных выводов о важности для меня чего-то важного): ведь не думаешь ты, что безнаказанно можешь этаким провинциальным Роланом Бартом козырять одним модным и чрезвычайно вредным словечком – автор, подсказываю тебе это пустое словцо, author, Autor, auteur – и отделаешься от меня только чужими испачканными штанишками. Откуда вообще такая лингвистическая спесь: мол, мы тут, видишь ли, авторствуем во всю ивановскую, а значит – и это самое для меня возмутительное – якобы обладаем пунцовой и багровой супериорностью, а вы, марионетки задроченные, кочумаете в небытии. Ошибаешься: наше небытие, может, и покраше твоей худосочной экзистенции будет, наше небытие пахнет резедой и клевером, в нём ничего не невозможно, и в этих возможностях, которые охватывают тебя сладостным кислородом, жить («жить», жить – вижу скептическую улыбку на твоих устах, но я не гордый, могу обозначить своё пребывание по-разному) значительно просторней – словом, здесь не прерываясь на рутину можно постоянно жить в ударе. Но это всё я произнес вслух, а ведь каждая речь, как ты знаешь, говорится одновременно и вслух, и шёпотом, и почти всегда сказанное шёпотом как-то крепче телом: ведь так говорят правду и только правду, а полным голосом – разное. Так вот, на правах истины я выскажу вчетвертьголоса простую мысль, что, с тех пор как мы и вы обросли потребностью в подтверждении собственной реальности, а, обросши ею, мгновенно потеряли в тумане аксиомы, что умели пестовать специфическую уверенность, которую прежний, обычный угол зрения способен был обратить в то самое чаемое доказательство нашей реальности, – с тех самых пор, словом, мы не имеем права на невыносимую лёгкость, с которой некогда отваживались лепить какие-то чудны́е иерархии, располагая пласты этой великолепной, блистательной, всеполнейшей жизни в порядке убывания их реалитэ́. Но ведь жизнь полна собой, она вся насквозь реальна, от неё так же невозможно отдалиться ни словом, ни делом, как и приблизиться, и если уж зашёл разговор о наших с тобой отношениях (не лукавь, серый, никакого разговора я не заводил, это ты мне навязываешь свои невнятные солилоквии), если уж этот разговор зашел, то, будем честны, мы взаимонереальны, мы просто-напросто взаимоне́жить. О, вот до чего мы договорились, вот как, оказывается, может при определённом попустительстве зафилистерствовать дилетант! Ну и что же говорит твой заводной карманный бергсон14 – нет в этой однородной жизнемагме островков повышенной устойчивости, островочков, существующих помимо или сверх взаимоаннигилирующихся реальностей, точек швартовки к невибрирующему каркасу жизни? Есть, кто спорит – это я всё ещё шепотом, все ещё этаким тишайшим говорком – да только не интересны нам с тобой такие островки: мы дышим раскидистыми мыслями, мы длим себя строками и строками, мы вырастаем колоннадами фраз, а в той офшорной зоне бытия, сколь плодородной для аскетов экзистенции, столь же неблагодатной для нас с тобой, есть место для одной лишь фразы – Мама мыла раму – она и только она обозначает и исчерпывает этот микротопос с повадками параноидального интроверта. Хватит бреда, серый, ты говоришь футбольными полями, а повесть – это поезд, она не стоит на месте, и если правильно объявляет механический голос – при выходе из вещей не забывайте свои поезда – то, пока мама мыла раму, он и она трижды наполнили комнату синим светом, трижды превратили её в октаэдр и своим шквальным дыханием прогрели воздух в ней до полутора миллионов имбирных градусов.
– Это невыносимо, – сказал он, – это невыносимо, когда столько должно быть сказано, и всё то, что должно было быть сказано, просто испаряется при одном взгляде на того, кому это, собственно, и предназначалось. Как эфир.
– Я не могу жить без тебя, – строго ответила Олеся и выжидательно, со значением посмотрела на него.
– Ну что же, – ответил он, и, видит Бог, слова эти дались ему как нельзя просто, – о такой жене, как ты, я мог бы только мечтать.
– Стоп, – резко оборвали его, но ведь совершенно невозможно быть по-настоящему резким, когда у тебя такие лукавые искры в глазах, – стоп, сумасшедший! Я не хочу этого слышать. И самое главное, – она заговорщически понизила голос до свистящего шёпота, – Кирюша не переживёт этого, его надо как-то… м-м… подготовить…
– Прошу тебя, – прошептала она ещё ниже и уже в минорной тональности, когда Пётр в ответ на её предыдущую фразу недоумённо пожал плечами и взялся за трубку телефона. – Я сама найду для него нужные слова. Я знаю, что тебе это не нравится, знаю, что совершаю подлость, но я сама, любимый, сама найду для него нужные слова. Понимаешь? – и на этом занавес, который открылся нам так ненадолго, снова падает, поскольку невозможно чего-нибудь не понять, если лёгкая, легчайшая, нежнее самого нежного летнего бриза ручка сначала притрагивается к, а потом плотненько так охватывает сонный черенок, перевоплощаясь из невесомого атлантического сирокко в плотную, вибрирующую массу тропического шторма.
– Я схожу в душ15, – таковы были её первые слова после часа отчаянной борьбы, в которой то один, то другая вот-вот готовы были задохнуться, в которой, то есть, удушье подстерегало их так близко, что его приходилось отталкивать всем телом, яростно извиваясь, раздирая одновременно усилием огромной, раскалённой воли ссохшиеся лёгкие, и эти первые слова поразили его, как первый крик царственного младенца, потому что за прошедший час он каким-то чудом, юдом, перегудом позабыл, что на этом свете существуют слова, ведь мир прошедшего часа был божественно, прекрасно не́м – не мир, а сплошная сфера торжествующей немоты со сложными, неукрощёнными разводами влажных всхлипов.
– Жду не дождусь, – так ответил он. Но он не просто ответил, он ещё и слукавил, потому что, когда люди произносят эту тоскующую фразу, похожую на глухаря, который раскачивается на ветке, – жду… не дождусь… – они обещают своему милому собеседнику неподвижность и безмолвие, ибо каждый разумеет, что ожиданием нужно окормляться трепетно, с надлежащим вниманием, перерастающим в сосредоточенность, а сосредоточенность, браты мои, болтливой и непоседливой не бывает – бывает она только тугой и убинтованной в скорбное спокойствие, что твоя мумия. И вот в своём яром лукавстве он приподнимает телефонную трубку и набирает номер Кирилла.
– Алло, – отвечает Кирилл, и тут же, с полукашля какого-то узнав Петра, отвечает снова, уже без дежурности, в чьей одежде стартовое алло выглядело пластмассовым парниковым овощем, но с благодушием ужасно зелёного хулигана-пеликана. – У, кого это занесло в наш мирный эфир. А чего это ты так бормочешь?
– Горло, сволочь, барахлит. Да про меня потом, в более урочный и менее тяжёлый для горла час. Слушай, Кирь, не в службу, а вот в это самое – не можешь на выходные поселить одну мою подруженьку милую? Нет, ты её не знаешь. Да клёвая такая чувиха, секретарша моя – ложки ей разные поручаю натирать, чай заваривать, пыль с подоконников стряхивать. Да нет, что ты – рабочий график с этим не клеится. Просто молодуха желает того и этого посмотреть в Питере. Она скотинка смирная, много времени и внимания не отнимет. Сэнк ю аз южуал. Я́ когда? Посмотрим, будет видно в самом скором режиме. Олеська-то как? Добра наживает? Ну понятно. Приветы ей по полной, как вернётся.
– Да ладно тебе через мою голову приветами сыпать. Вот она здесь рядом стоит – сам и передай.
– Пётр? – тихо сказала, и от этой тишины, или, точнее, от блёклости этой тишины, приблизительно сравнимой с блёклостью первых весенних цветов, его бросило (настаиваю на этом слове) в какую-то мёрзлую жуть, и потом, уже из этой жути, подбросило ещё раз, так, что он стукнулся о безумие затылком и сдуру ответил:
– А это ты?
Но ведь самым плохим в этой нелепой фразе было вовсе не суматошное удивление, поскольку чего-чего, а удивления-то, оказалось, в этом вопросе и не было: вот злость на виражи судьбы, резкие каждый раз, но из-за частоты этих резкостей мутирующие в направлении монотонности, – это определённо наличествовало; досада на самого себя, неспособного привыкнуть к вспышкам магния после стольких высокоскоростных разворотов, проделанных бессмыслицей, – с этим тоже было всё в полном порядке, но никаких следов изумления – вещества, вообще говоря, весьма заметного – при всей своей пристрастности он не обнаружил. Да и как их было обнаружить, если зачем-то ведь он поднял трубку этого долбаного телефона, если набрал этот проклятый-любимый номер, если ни с того ни с сего прильнул к трубушке-голубушке сердечным приветом. Для того чтобы ложь не была разрушительной, она должна быть бескрылой, а тут Пётр снабдил её столькими крыльями, что она почти стала существом, в которое просто невозможно не влюбиться.
– А кто же? – ответила она, усмехнувшись, и от этого Пётр вздрогнул, поскольку между его вопросом и её ответом пролегла столь могучая, столь обширная ложь, что соединить два её берега могла лишь напряжённая и вдохновенно-искусная инженерия воспоминаний.
– Я страшно тоскую по вам, – мужественно продолжал он, хотя самым честным было бы просто сказать ей: вы оба ужасаете меня, я боюсь вас по ледяной дрожи. – Надеюсь увидеться ежли не на этой, то на той недельке определённо.
– Да ты что? – крикнула она обрадовано. – Ты себе представить не можешь, как мы будем ждать тебя.
– Спасибо, друганы дорогие. Ну давай, до скорого, а то я как-то опасаюсь голос посадить.
Смешон голый человек, сидящий в задумчивости. Еще смешнее голый человек, сидящий в растерянности. Печален обнажённый, сидящий в смятении. А Пётр был разным, попеременным: он начал с задумчивости, а кончил смятением, потом вернулся к задумчивости, а по истечении оной не был уже никаким, поскольку одетый человек по сравнению с обнажённым, конечно же, никаков. Хотя, впрочем, и в этой замкнутости можно было кое-что различить. Сосредоточенность, например. Какую-то странную решительность. Суровость, я бы даже сказал. Или, возможно, настороженность по отношению к этому миру, которая на посторонний взгляд может представляться суровостью.
Так что она, конечно, удивилась, но ведь люди выдержанные и поднаторевшие в удачном освоении зигзагов судьбы становятся в чём-то сходны с медовым омутом: удивление, конечно, встряхивает ненадолго поверхность их лица, но крутая, почти ртутная плотность омута мигом сглаживает эти сейсмические волны, а ведь лицо – единственное, чем они ещё не разучились удивляться: остальное тело привыкло забывать любые изумления.
– Кататься, – только и произнёс он, и даже если бы она не поняла его с полуслова, ей бы пришлось в авральном порядке осваивать азы сверхзвукового понимания. Поэтому-то ей было лучше обрадоваться или, по крайней мере, сыграть в радость, что она и сделала: какими-то заполошными, как бы захлёбывающимися движениями стала натягивать наугад одежду, с той же размашистостью в жестикуляции побежала в ванную подкрашиваться – и наконец мелко, как песочек через ситечко, затрусила с ним рядом по лестнице, клюнула по пути расчёской во чело и темечко, преобразив текущую, рабочую растрёпанность в пасторальную пригожесть. И всё-таки он был быстрее, коброй нырнув за руль: машина уже завелась, когда она ещё забиралась в салон, сложно, как в конструкторе, сгибаясь в четвёртую погибель. Она не успела захлопнуть дверь, а двужильный мотор уже, сходу взяв высокую моторную ноту, с опасностью для собственного сердца рванул большое, железное, самокатное тело с угнездившимися в нём двумя живыми самоходными те́льцами в направлении больших дорог, и там – выбравшись, то есть, на широкий асфальт – уже дал себе полную волю: забрал квинтой ниже, дополнительно провентилировал лёгкие пенными струями бензина и наконец размахнулся по полной, придавив так резво, что проезжающие мимо авто как-то смазались и чуть ли не растаяли, как будто ими поиграл хороший импрессионизм. И кто же, скорость, тебя выдумал, где ж возрастала, где училась ты просторному ремеслу разгульности? Не даёт ответа, как любая грубая сила, которой начхать на учтивость любого формата. Молчит в тряпочку, поскольку такие умные сущности всегда организуют себе по принципу рекреативной сонной лощинки специальные тряпочки, в которые можно молчать с комфортом, без того чтобы считаться беспомощно растерянным перед лицом острого вопроса.





