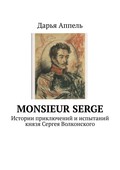Дарья Аппель
Дети Балтии
– Лондон разрушили? – подал голос Арсеньев.
– Тише, – проговорил тот, которого все здесь звали Костуем, – Кэтти пока девица. И не выходит замуж.
– Это ещё почему? – удивился Нарышкин. – Разрешение же дали.
– Если вкратце – я уговорил отца подождать с браком. – Майк, казалось, не желал много болтать на эту тему.
– А сестра как? – полюбопытствовал Алекс.
– Кэтти сама меня упросила. И, тем более, у неё опять кровь горлом идет – хороша невеста, – краем рта усмехнулся Воронцов.
– Боже мой… Так кузина помирает? – помрачнел Лев.
– Если бы помирала, меня бы здесь не было, – объявил граф. Потом он устремился в объятья друзей.
– Так ты спас её от постылого венца? – прошептал ему на ухо Бенкендорф.
Майк молча кивнул и отвечал:
– Только без подробностей, ладно? И, тем более, не спас. Просто задержал дела.
Сели опять пить и закусывать. «Асти» лилось рекой, еда была вкусной и сочной – пальчики оближешь, все гремели приборами и звенели стаканами, болтая одновременно и сразу. Марин рассказывал, как его всего распотрошили доктора, но второй пули, угодившей в грудь, не нашли, Алекс морщился и просил сменить тему, например, поговорить о поэзии, на что Марин жаловался, что «Дела его весьма плохи/Не сочиняются стихи», и, видно, угодившая в его «голову садовую» картечь отбила ту часть мозга, которая отвечала за написание лирики. Рибопьер, изящный юноша, служил музыкальным сопровождением по собственному почину, и Аркадий пересказывал по десятому кругу охотничьи байки, в пылу случайно погнув два ножа и вилку.
– У меня и так мало посуды, Бижу! – взмолился Серж, увидев, что осталось от приборов. – Скоро, как дикарь, руками буду есть!
– Так ближе к природе, – отозвался Арсеньев.
– Ближе ли, далече ли, но прямо мистика какая-то – недавно у меня были ложки, вилки и всё такое, а тут нечем есть, приносит мой слуга одну сиротливую ложку и говорит: «Всё, барин, кончилась у нас посуда, надо новую покупать».
– Да твой слуга на базар носит, Петрарк, а ты на мистику всё списываешь, – улыбнулся Воронцов. – Нет, поэтом ты был, поэтом и помрешь, и никакие раны тебя не исправят.
– Воруют, да, – констатировал Алекс. – Но что толку в этих вилках? Их кто-то покупает?
– Я бы выставил на продажу вилки, погнутые нашим Бижу! – воскликнул Лёвенштерн, поддавшись общему веселью. – Это реликвия.
– Сокровище, да, – откликнулся Воронцов, и все вновь расхохотались.
Потом слово взял Алекс. Он рассказал, как они с Воронцовым брали Гамельн, и Георг фон дер Бригген, вовремя вспомнивший легенду, помог разработать стратегический план.
– Штабная голова, – одобряюще произнес Суворов.
– Вон штабная голова, – Алекс, к удивлению Лёвенштерна, откуда-то уже знал о назначении его. Верно, сестра доложила.
– Почему штабная? – спросил Воронцов, разрезая жаркое.
– О! – Алекс поднял вверх указательный палец. – Он нынче вращается в высших сферах стратегии и тактики. Иными словами, ходит в адъютантах у моего зятя.
– Ммм? – удивленно пробормотал его друг с набитым ртом.
– Именно, – произнес Алекс и хотел добавить нечто язвительное. – Остзейцы же тянут остзейцев, все дела…
– А тебя что ж не вытянули? – слегка иронично спросил Арсеньев.
– Алекс у нас – гордая птица. Без пинка не летает, – парировал Жанно, обратившись к Мите.
Бенкендорф знал, что делать. Он встал и направился к своему кузену с намерением дать пощечину. Все замерли. Лев попытался скрутить Алексу руки. «Ты что?» – шептал он. – «Зачем всё это?»
– Хочешь помахаться саблями? – Лёвенштерн казался спокойным и даже беззаботным, судя по тону его голоса. – Хорошая идея. Давно я не упражнялся, аж с 20 ноября. А ты, наверное, и того дольше.
Лицо Алекса окрасилось в багровый цвет от гнева. Он только прорычал:
– Ах, ты…
– Ну что, пойдем выйдем, поговорим? – подмигнул ему Лёвенштерн.
Все присутствующие были при оружии. Правда, сабли и пистолеты остались в прихожей, и Алекс случайно захватил оружие Льва Нарышкина. Жанно нашёл собственный палаш.
– Ох-ть, – произнёс пораженный Суворов, оглядев всех. – Отберите это у них. Пусть лучше морды друг другу набьют, и дело с концом.
Майк сделал Алексу страшные глаза и говорил тихо:
– Ты что, он же твой брат! В детстве вы тоже друг друга хотели убить за каждое обзывательство?
– В детстве мы дрались до крови и не за такое, – холодно произнес Бенкендорф. Он взял саблю и уже переступал порог комнаты.
– Так, – Марин удалил кулаком о стол. – Здесь вообще-то мой дом. Если кто-то забыл. Мне трупы и кровища здесь не нужны. Мало её на войне проливали? Или миритесь, или вон отсюда.
– Петрарк, там явно было оскорбление первой степени, – возразил Дмитрий. – И, поскольку Жанно решил получить удовлетворение немедленно…
– Сочувствующие и набивающиеся в секунданты могут тоже идти отсюда к чёрту, – гневно проговорил Серж.
Нарышкин тоже сделал попытку к примирению:
– Господа, у нас тут, значит, приятный вечер, а вы тут – просто Каин с Авелем, живая картина. Положи мою саблю на место, Саша.
Лёвенштерн молча провел кончиками пальцев по холодной стали своего палаша и оглядел всех равнодушным, слегка надменным взглядом. Алекса взбесило его хладнокровие, и он проговорил:
– Ну что, защищайся, – и нанес упреждающий удар.
Лёвенштерн отбился изящно, стараясь не задевать палашом руки Алекса. Дрался он с тонкой и лукавой улыбкой на лице. Вокруг них столпилась вся честная компания. Воронцов дёрнул Аркадия за рукав:
– Бижу, смотри в оба, если будет кровь, прекрати.
– А лучше – оттащи их. Сейчас же, – Марин схватил Суворова за другую руку. И вслух громко проговорил:
– Стоп! Господа. Это против правил. У Лёвенштерна сильно пострадала левая рука. Я свидетель, знаю.
– Не мешай нам, Серж, – проговорил Жанно. – Всё в порядке, я сражаюсь правой.
Алекс остановил атаку. Посмотрел на лезвие. Потом взглянул пристально на рукав мундира своего кузена. Увидел, как наяву, торчащую кость, много крови. Покраснел. Ведь знал же, что Жанно был ранен и болен! И знал, что его родич, будучи от природы левшой, которого, путём битья линейкой по пальцам, научили с горем пополам писать правой рукой, часто невольно перекладывает оружие из правой руки в левую – ему так удобнее. Алекс много раз наблюдал это во время уроков фехтования, которые они брали мальчишками, и во время поединков. Сейчас бы Жанно волей-неволей поступил так же, и Бенкендорф нанес бы ему рану. Он покраснел и выдавил из себя:
– Да. Это против правил. Мир, – протянул он руку Лёвенштерну.
Тот так же беззаботно вложил палаш в ножны и пожал ему ладонь, проговорив тихо:
– Прости, брат. Я наговорил тебе гадостей.
– Я первый начал, – и Алекс обнял кузена.
– Ура! – воскликнул Суворов. Остальные вторили ему.
– Если вы ещё вздумаете поссориться, то драться будете лично со мной, – добавил Бижу. – Оба. И не на саблях или пистолетах, а вот на этом.
Он продемонстрировал всем свой могучий кулак.
– Оружие грозное, – отвечал Алекс. – Можно и зубов не досчитаться.
После ссоры все пошли опять пить и веселиться. Марин читал свои стихи, спел песню «Пришла осенняя пора…» Лёвенштерн просил его исполнить «своё любимое», и Серж прочел: «Как гром, стоящий пред сраженьем…» – стихотворение, в котором любовь описывалась в военных терминах.
– Не умею я красиво писать, – вздохнул Марин во хмелю. – Всё смех один получается.
– За это тебя и любим, Петрарк, – положил руку ему на плечо Воронцов.
– У Петрарка должна быть Лаура, – хитро улыбнувшись, проговорил Алекс.
– Ну, он тот, кому и без Лауры хорошо, – усмехнулся Бижу.
– Игнат, есть ещё вино? – позвал Марин своему слугу.
Белобрысый малый с хитрым лицом, весьма нетвёрдо стоящий на ногах, явился на его зов.
– Никак нет… ик, – проговорил он.
– Неси тогда водки, – махнул рукой его господин.
Тот принёс одну бутылку.
– А где остальное? – удивлённо спросил Марин.
– Дык… это, – проговорил Игнат. – Мы с парнями, значится…
– Иди проспись, – брезгливо бросил его хозяин. – И неси уж самогон. Или что там горит.
Тот принес какие-то склянки, банки и бутылки.
– Вот такого я и держу. После сражения утащил всё моё платье и пистолеты впридачу, – словно оправдываясь, сказал Серж.
– И это когда ты полумертвый лежал?! – возмутился Лёвенштерн. – Я б за такое эту сволочь… на конюшне!
– Слаб человек, – вздохнул Марин. – Нас тоже есть за что пороть.
– Ты про Лауру что-то начинал говорить, – напомнил Алекс.
– Тебе лишь бы бабы, – устало произнес Лев.
Серж налил стопку самогона, выпил, поморщившись от противного вкуса, и начал с грустью:
– Есть у меня Лаура. Когда я о любви пишу. Но вы её не знаете, так что не расспрашивайте.
– У всех своя… Заветная, – Алекс подошел к окну, сел на подоконник.
– Знаю, как определить её и утолить наше любопытство, – начал Арсеньев. – Есть гадание. Петрарк, у тебя есть три колоды карт?
– Да были где-то, – откликнулся его приятель.
Когда карты нашлись, Дмитрий выдернул из каждой колоды по четыре дамы, перетасовал двенадцать карт, положил на стол рубашкой вниз. Тянул первым.
– Дама червей, – объявил он. – Значит, светленькая.
Марину выпала дама треф, которую он долго разглядывал, а потом выбросил в окошко. Суворову тянуть карту не дали, сказав, что «все знают, тебе дам не полагается». Воронцов нашел даму бубен. Как и Лёвенштерн. «О, любимые блондинки», – откомментировал Алекс. Рибопьер отказался. А Алекс получил даму пик. Он рассмотрел её: в чёрном платье с фиолетовой отделкой – вдовий наряд. Единственная из всей колоды изображена в профиль. И бутон в руках… Похожа чем-то на княжну Войцеховскую. Он тайком спрятал карту в карман.
Остаток вечера запомнился присутствующим довольно смутно. Кажется, кто-то боролся на руках, и на них делали ставки; Дмитрий отодвинул Рибопьера от фортепиано и исполнил пару новейших романсов, в том числе, «Чёрную птицу», от которой Майк Воронцов просто зарыдал, повторяя: «Всё так, братцы», и Марин его кинулся утешать. Лев начал спаивать Рибопьера, находящегося не у дел, и сам не забывал угощаться. Потом все хором затянули «Чёрного ворона», начали вспоминать погибших знакомых, демонстрировать ранения – у кого они имелись. Бенкендорф притворно возмутился: «К чему такой натурализм?», и Воронцова вырвало на середине рассказа Петрарка о том как ему ломали ребра, вскрывая грудную клетку. Этот рассказ Жанно Лёвенштерн комментировал загадочными латинскими терминами. После этого Алекс взял Воронцова за руку и вывел его пройтись. «Только не упадите там, гололёд же», – посоветовал Аркадий.
На улице было свежо и тихо. Алекс поддерживал своего друга и потом спросил:
– Что там с Кэтти?
– Вот представь, – начал несколько издалека Майк, – Значит, её уже собрали к помолвке, приданое, то да сё. Жених – старая жаба – ждет всех в своём замке. А тут я – прямо с корабля – суровый брат из Terrible Russia. Кэтти бросается мне в ноги, говорит, что Пэмброка никогда не полюбит, что заболеет и умрет, если выйдет замуж. Ну я, естественно, говорю: «What’s the f*ck?» жениху, туда-сюда, добиваюсь отсрочки, убеждаю отца, что нечего торопиться. И вот я здесь…
– Браво, Майк, ты умница, – произнес вышедший покурить на свежий воздух Жанно. – А я свою сестру…
Он заплакал в голос.
– А кто хотел Эрику повыгоднее замуж продать? – проговорил Бенкендорф сквозь зубы.
– Альхен! Да, моя вина! Она любила Петрарка!
– Вот вам и «здрасьте», – пробормотал Воронцов. – Что так?
– А жених её стреляться хочет! – продолжал Жанно. – Что же мне делать?
– Только не самоубивайся, ты нам нужен, – проговорил Алекс.
Вскоре к ним присоединился Марин, который, зачерпув горсть ещё не растаявшего снега, потёр им лоб.
– Башка моя разбитая трещит, мочи нет, – пробормотал он. – А там вообще Содом и Гоморра. Дым коромыслом.
– Сколько времени? – Алекс повернулся к Петрарку.
– Да уж шестой час, – проговорил он. – Скинемся по пять копеек, и в наш дом придет завтрак.
– А где же у тебя еда, Серж? – спросил настороженным тоном Жанно.
– Игнатка, ирод окаянный, всё сожрал, – поморщился Марин.
– Ага, сейчас мы скинемся, и вместо завтрака будет твоему служителю опохмел, – усмехнулся Лёвенштерн.
– Игнатка вообще нынче валяется дохлым телом, – сомневающимся тоном отвечал Серж. – До завтрака не очнётся.
– Не понимаю, как ты его держишь? – возмутился Алекс. – Особенно после того как он тебя умирающего обобрал.
– Я добрый, – слабо проговорил Марин. – Зато он хорошо умеет просить прощение и давить на жалость. Эх, погубит меня сердце!
– И меня, – тихо проговорил Жанно.
Вскоре Алекс ушёл, и они остались вдвоем.
– Дела такие, – сказал Лёвенштерн. – Эрика любила тебя.
– Зачем же пошла за Ливена-третьего? – спросил Марин спокойно и как-то равнодушно. Впрочем, его равнодушный тон показался барону в чём-то наигранным.
– Повинюсь. Наверное, хотела порадовать меня, – Жанно снова зажег трубку. – Исполнить мою волю. Но от тебя я жестокости не ожидал.
– А я не ожидал такой жестокости от тебя сейчас, – ответил Петрарк.
После этой фразы Лёвенштерн понял – если он еще что-нибудь скажет, то рассорится с приятелем навеки, и его бестактность можно будет смыть только кровью. А этого ему не хотелось.
– Откуда ты это узнал? – спросил Марин.
– Мне достались письма. Я их сжёг, так что не беспокойся…
– Зря сжёг. У твоей сестры был талант.
– К чему? – удивленно спросил Жанно.
– К литературе, – Петрарк посмотрел на него как-то опечаленно, и Лёвенштерн в свете наступающего утра сумел разглядеть, что не так уж он и молод, этот его друг, который, казалось, вечно шёл по жизни смеясь, всегда держа наготове острое словцо и улыбку. Возможно, тяжкое ранение так на него подействовало, а может быть, просто тот факт, что ему летом исполнялось уже тридцать лет.
Он счёл нужным промолчать.
– Я, пожалуй, пойду, – произнес Жанно, чувствуя, что трусит перед чем-то важным.
Приятель его ничего не отвечал. Лицо его было несколько обречённым, словно он посмотрел в глаза собственной смерти – и увидел в них сочувствие к собственной участи, желание избавить его от мук.
– Удачи в твоей блестящей жизни, – сказал, наконец, Марин.
– Прощай, – почему-то произнес Лёвенштерн в ответ. Не «до встречи», как обычно.
***
На следующий день он явился к графу в канцелярию. Тот поручил составить ему доклад о ходе боевых действий с Персией. Жанно трудился над ним всё утро и половину дня, пока Кристоф отсутствовал, но результат оказался не очень удачным. Ливен, пролистав исписанные угловатым почерком листы, холодно проговорил:
– Пара замечаний. Во-первых, у вас получился не доклад, а какой-то роман в письмах.
– Почему же? – поинтересовался Лёвенштерн.
Речь в докладе шла о военных действиях в Закавказье, которые до сих пор велись.
– Селим-паша у вас – какой-то юный Вертер. «И сердце его затрепетало…» – с иронией зачитал граф. – Где цифры? Где структура? Вот, возьмите. Карандашом я пометил то, что мне особенно не понравилось. Переделывайте.
Жанно только вздохнул тяжко. Должность его явно не обещала быть синекурой. Кристоф снисходительностью не отличался.
– Да, и сделайте оглавление, чтобы удобнее было читать. Разбейте на части, что ли, – бросил граф, вставая из-за стола.
Уже стоя в верхней одежде, Кристоф, критично оглядев Лёвенштерна, вполголоса проговорил:
– Не сочтите это за оскорбление, но вам бы не мешало постричься. И побриться. А то вы напоминаете казака, – и, прежде чем Жанно мог что-либо ответить, граф быстрым шагом спустился по лестнице.
Так началась для Лёвенштерна служба при Штабе. Сначала сочинение разнообразных документов давалось ему непросто. Он проводил долгие часы в Канцелярии и у себя, в неуютной квартире на Шпалерной, переписывая статистику, систематизируя приказы. Он даже заметил, что почерк – его слабое место – у него стал лучше: Жанно был переученным левшой, и так толком не научился красиво писать правой рукой. Потом он приносил всё «на проверку» Кристофу, который всегда находил какие-то недочеты, неточности и отмечал их карандашом. Критику его начальник произносил без всякого ехидства и иронии, довольно любезным тоном, и всегда давал советы, каким образом можно поправить ошибки. Ливен не ругал его – но и не хвалил. Постепенно исправлений стало меньше, но и задачи, которые граф поручал Жанно, стали сложнее.
Лёвенштерну нравилось, что Кристоф не смешивал личные отношения с делами службы и никогда не говорил с ним на посторонние темы. Да и вообще много не говорил, ибо сам был поглощен делами, которых всегда скапливалось немало. Часто граф отпускал своего адъютанта пораньше, а сам засиживался допоздна.
Через месяц после своего назначения Жанно набрался храбрости и спросил у родственника, что он думает о его успехах, ибо барону всегда нужно было это знать. В пансионе его преподаватели-иезуиты всегда щедро раздавали и критику, и похвалы; в университете всё становилось ясно на экзаменах. А тут непонятно.
Кристоф, оторвавшись от карты, произнес загадочно:
– Так, как я ожидал.
– Но как – плохо, хорошо? – допытывался Лёвенштерн. – Я совсем дурак или есть надежда на исправление?
Ливен невольно рассмеялся.
– Вы не повторяете одних и тех же ошибок дважды, – ответил он. – Это вам в плюс. Но есть над чем работать.
Он вернулся к своему занятию.
Барон понял, что большего от него было не добиться. Он поблагодарил его и поехал к себе домой, так как служба на сегодня была закончена.
Пулавы, Подолия, апрель 1806 г.
Князь Адам Чарторыйский, прочитав ответное послание императора Александра, достал ящик с набором из десяти кинжалов и начал их кидать в дальнюю стену своего кабинета выверенными, точными, скупыми движениями. Стена была обита полосатыми сине-золотыми обоями, и он стремился, чтобы вонзающиеся в шёлк кинжалы образовывали горизонтальный ровный ряд: одна полоска – один кинжал. Сперва так и выходило. Потом он немного сбился, чертыхнулся, и продолжал далее.
Эту игру с самим собой Адам затевал всякий раз, когда нужно было хорошо, логически обдумать что-либо. На другой стене, у двери, остались следы – он проделал их этими же кинжалами, когда придумывал систему восстановления Речи Посполитой под эгидой русской короны. Ныне система оказалась абсолютно бесполезной. А царь ещё и спрашивает: «Любезный Адам, чего ты добиваешься?» Ну, он напишет ему, чего именно он добивается. Он хочет объединить исконно польские земли в сильное, мощное, большое государство. Которое могло бы стать хорошим союзником для России. Но ныне ему бы очень хотелось выкинуть из этой фразы словосочетание «для России». «Никогда», – подумал князь, и очередной кинжал со свистом вонзился в дорогой шёлк обоев, распоров его. Ему нужна только единая Польша. Единая католическая Польша. Без русских, но с Белоруссией, Малороссией, Лифляндией.
Он ещё раз сделал бросок – стремительный, быстрый, и кинжал попал в то же место, что и первый, торчавший из стены. Послышался резкий лязг металла. «С Лифляндией и Курляндией», – вслух произнес Чарторыйский и злорадно ухмыльнулся. Вот она – единая Польша, какой была в конце 16 века. А он её король. Трона Пястов ещё можно было достичь. С помощью верных людей. Адам был куратором Виленского учебного округа – эту должность он сам взял себе и собирался оставить после отставки с поста министра иностранных дел. Он прекрасно знал, что, пропагандируя польский язык, рассказывая студентам польскую историю, можно завербовать целую армию патриотично настроенной молодёжи. Но пока его держат при дворе, он связан по рукам и ногам. Нужно срочно уходить в отставку. Причина проста, и он сам упомянул её в письме – но Александр, очевидно, читал его послание каким-то другим местом, а не глазами: «Я не могу исполнять приказания, против которых протестует совесть». Отставку ему государь не давал. Хорошо, хоть пока не требует в Петербург. Но вскоре призовёт. И что тогда? Опять спросит: «Чего тебе нужно?» И князь ответит. Напомнит про приказ о наступлении на Варшаву, который государь отдал – и сразу же отменил. Странное, резкое поведение – словно бы Александр действовал не сам, а под чьим-то влиянием. И нетрудно догадаться, под чьим именно.
Адам плотоядно улыбнулся и бросил кинжал в центр стены – в то место, которое он на глаз определил, как центр, – вложив в бросок всю свою силу. Орудие вошло по рукоять, пробив дерево панели, которой для сохранности тепла была обита стена. Да. Вот ещё что он, князь Адам Чарторыйский, хочет – отставки тех, кто находится во главе военного министерства. Для Ливена, служаки и карьериста, такой поворот событий будет подобен смерти. Отправится он на свалку политики, как его соотечественник, граф Пален. Тот тоже очень многого хотел. И закончил тем, с чего начал. Но в военное время государь, если он, конечно, не полный идиот, не станет предпринимать серьёзных перестановок в таком ведомстве. Значит, нужен мир с Францией. Не перемирие, как сейчас, а долговечный, устойчивый мир. Так. Новая система сформирована.
Адам выдернул все кинжалы из стены, положил их обратно в ящик. Осмотрел повреждения, которые нанёс убранству. Если так дальше пойдёт, здесь вскоре придётся делать полный ремонт. Об этом он подумал с равнодушием. Усевшись за стол, он написал новое послание – немногословное, быстрое, как реляция или сводка с поля боя. Даже расписал свою новую систему по пунктам, чтобы этот коронованный недоумок понял всё и не задавал лишних вопросов:
«1) Вы миритесь с Бонапартом.
2) Вы объявляете меня королём Польши.
3) Вы меняете лиц, занимающих высшие должности в военном министерстве и в министерстве иностранных дел.»
Так и надо. Если и здесь возникнет заминка – ну, тогда восстание. И переход на сторону французов. Простой народ это поймёт – те хотя бы единоверцы, католики, в отличие от «москалей».
Написав и запечатав письмо, Адам вышел из кабинета и направился в столовую – подоспело время ужина. Напоследок он вспомнил, как мать ему давеча говорила: «Ты слишком многое на себя берёшь». Да, это истина. Но он берёт только то, что ему причитается. И поступает так, как должен. Не ему ли с детства твердили о долге перед Отчизной, о героизме и борьбе против захватчиков, предателей? Вот он и борется – как умеет и как того требуют обстоятельства.
***
В тот же вечер Анжелика открыла дверь князю в свою спальню. Он заставил её раздеться, разделся сам, зажёг свечи. Девушка лежала перед ним неподвижно – белая кожа, каштановые волосы, алые, полураскрытые губы, тонкая шея, с которой свешивалась цепочка, полные, упругие, как наливные яблоки, груди, увенчанные затвердевшими – то ли от холода, то ли от похоти – розовыми сосками, длинные ноги, округлые бедра, тонкие щиколотки, узкие ступни. Адам взял блокнот и карандаш, и, сидя на ковре по-турецки, стал рисовать её, стараясь подавить в себе желание. Попросил её перевернуться на живот, чтобы не видеть блеска серебряного креста между её грудей, но это не помогло. Сзади изгибы её тела прорисовывались ещё более соблазнительно. Игра света и тьмы делала образ Анж таинственным и притягательным до невозможности. Адам нашёл в себе силы закончить рисунок. И сжёг его в свечном пламени.
Потом он взял свою возлюбленную сзади, освобождаясь от напряжения, охватившего его.
Они провели вместе всю ночь, не в силах расстаться. Князь удивлялся сам себе – он никогда не считал себя столь выносливым в страсти. Но любовь превозмогает всё. На рассвете он прошептал немного насмешливо:
– Восемь раз… Девочка моя, что ты со мной творишь?
Анжелика сидела со скрещенными ногами, загадочно улыбаясь, как дама с портрета мастера Леонардо, и рассматривала его тело – стройное, даже суховатое, но очень красивое.
– Что это? – внезапно спросила она, увидев длинный белый шрам в правом подреберье.
– Меня пытались убить. Двенадцать лет тому назад, – он ощущал холод её пальцев, как когда-то ощущал сталь кинжала, ударившего его тогда.
– Было больно? – Анжелика приникла к его груди.
– Да… Кровищи, как из зарезанной свиньи, – Адам имел привычку говорить о своих ранах и боли с неким цинизмом. – Мать не дала мне помереть от потери крови сразу же и от антонова огня после.
Княжна ничего не ответила. Она лежала настолько тихо, что Чарторыйский подумал – девушка уснула на его груди. Но дыхание её не замедлилось, и глаза – ясные, слегка задумчивые – были широко открыты.
– Я знаю, – проговорила она тихо, но твердо. – Он умрёт так же.
– Кто он? – спросил Адам.
– Граф Кристоф фон Ливен, – имя первого военного советника Александра Первого княжна произнесла отчётливо и громко, но бесстрастно.
Чарторыйского отчего-то охватила дрожь. Кто она? Потом понял – она олицетворяет тьму его души. Она падший ангел, суккуб, вытягивающий из него силы и семя. Она возьмёт в руки карающий меч и отомстит ему за давнишнюю, полузабытую боль. За унижения при Дворе. За его дочь, отравленную кем-то из лживых и лицемерных людей, обитающих там. Анж сделает всё, на что он не способен.
– Я люблю тебя, – прошептал он. – Что мне для тебя сделать?
– Дай мне возможность действовать. И научи меня всему, что умеешь сам, – она повернулась и поцеловала его в грудь – в сердце. Князь обнял её, и так они заснули. Во сне им обоим снилось, как охотники травят невидимых бело-серых волков в сырой осенней дубраве.
ГЛАВА 3
Санкт-Петербург, начало мая 1806 г.
Граф Кристоф сидел у себя в кабинете и, закрыв глаза, думал – к чему он пришёл, чего добился и что будет делать дальше. В свой день рождения как-то принято подводить итоги. Он не знал, исполнилось ли ему уже 32 года или надо подождать до утра – граф не ведал точного часа своего рождения.
Итак, у него было всё. Положение его оказалось непоколебимым, Аустерлиц уже никто не вспоминал и не старался искать виноватых. Чарторыйский, сей аспид, затаился в своей норе – может быть, ждет своего часа, чтобы ударить, или он понял, что проиграл. Кристоф уже не чувствовал, что заболевает чахоткой – грудь его зажила. Не так давно Дотти объявила, что опять ждёт ребенка – но она не была этим особенно довольна, хотя переносила беременность довольно неплохо и даже похорошела, что не часто случается с женщинами в её положении.
И перед ним ныне лежало послание старшего брата. Он умолял его приехать в Ригу или хотя бы к нему в Зентен. «Время пришло», – писал Карл. – «Наше время». Масонская таинственность не оставила старшего брата. И Кристоф был бы рад проигнорировать этот призыв. Если бы не знал, что именно Карл имеет в виду.
В конверт с письмом Карла было вложено другое послание, написанное не знакомой Ливену рукой. И никак не подписанное. В письме Кристофа титуловали всеми его званиями сразу. И сообщали нечто о Крови Королей, о каком-то пророчестве: «Потомок князя-волка, названный именем Господа, придёт и будет править нами».
«Они там все с ума посходили», – усмехнулся граф. Явно опять какие-то масонские дела. Ныне состоять в ложе было крайне модно – гораздо моднее, чем десять лет тому назад, когда этим занимались лишь энтузиасты вроде Бурхарда-Кристиана фон Фитингофа. Новые ложи появлялись как грибы после дождя, и всем ним давались самые причудливые названия. Большинство из них действовало в качестве обычных клубов, вроде Английского – места, где люди ужинали, разговаривали о мистических и высокопарных материях, и иногда устраивали сложные, пышные церемонии. Довольно невинное и глуповатое развлечение. Не во вкусе Кристофа, он любил проводить своё время либо в тиши уединения, либо активно – в манеже, на охоте. Но, судя по всему, некоторые ложи, в том числе, рижская «Северная Звезда», хотят перекроить власть.
Отчего-то на ум вновь пришел недоброй памяти граф Пален. Обещал ему королевство, которого нет и не будет. Таким же таинственным и странным тоном он говорил тогда. Кстати, не его ли почерк? Кристоф не смог припомнить руку Schwarze Peter’а. Но тогда всё казалось частью лихорадочного бреда, как ныне, в этих письмах – бреда безумия. «Я подвожу его к мысли об автономии Ливонии… Решайся. Тебя коронуют в Домском соборе», – Кристоф словно наяву слышал голос Палена. А ведь тот тоже был из Братства. И все они из Братства, из проклятого Братства. Они выбрали графа своим орудием. И ныне напоминают – иди, служи нам дальше.
«Чарторыйский всё знает», – Ливен скомкал письмо в кулаке, чтобы не видеть его. – «Он же из них… Они все повязаны». Князю Адаму он успел уже так насолить, что тот наверняка желает уничтожить его на месте, если встретится на пути.
Благостное настроение сменилось в душе Кристофа тревогой. Он сжёг бумаги на свечке, повторяя про себя: «Если знают они, то знают и другие… А есть кому донести. Государь вдруг узнает, что я желаю отрезать кусок его Империи и сделаться там правителем».
Потом он вспомнил, что ему говорил Чарторыйский в Пулавах, когда они стояли напротив друг друга, и Кристоф гордо отказался от всяческой дружбы с князем. Он уже знал всё заранее, этот проклятый поляк. «За вашу и нашу свободу», как же. Адам уже просчитал всё на десять ходов вперед. Так, а это не его ли почерк? Граф пожалел, что письмо неизвестного уже обратилось в пепел. Так бы он мог сличить… Хотя что бы это дало? Письмо мог сочинить кто угодно по чьему угодно приказу, а изменить почерк – не проблема. Но причем тут его брат? Ведь первая бумага была явно написана его рукой. Карла что, втянули? Добровольно или принудительно? Но старший Ливен, при всех его недостатках, никогда бы не пошёл на союз с поляками. Даже с Братьями. В этом граф был уверен так же, как и в том, что его зовут Кристофом-Генрихом и на дворе стоит Восемьсот шестой год.
…Ливен всегда чувствовал, когда ему хотят поставить ловушку. Иногда, правда, его осторожность граничила с паранойей. Тогда, в ночь на двенадцатое марта, пять лет тому назад – о, эта дата изменила слишком многое! – он тоже не поверил в известие о смерти императора Павла, подумал, – проверка на верность такая, и если он поедет с фельдъегерем, его повезут не в Зимний, а в Петропавловку, бросят гнить в каземат или что ещё хуже. Оказалось, заговор удался. Кошмар развеялся по мановению руки Провидения. Здесь складывалась такая же ситуация. Если он выедет в Ригу, если он поддастся речам о том, что «королевство грядёт» – то, скорее всего, его обвинят в вероломстве и коварстве. И будут правы! Так что лучше забыть всё как страшный сон. Хотя он мог уже оказаться в капкане. Ведь та бумага с неизвестным почерком, в которой всё сказано прямо, – её же кто-то написал? И с какой целью? Карл, очевидно, хотел передать всё при личной встрече, ограничившись в своём письме самыми туманными намеками. «Письма иногда читают», – уныло подумал граф. – «Перехватывают. Делают копии. Наверняка все уже всё знают. И только ждут часа…» Другая мысль, более пугающая, пришла ему в голову: быть может, в Ригу его не просто так манили? А чтобы покончить с ним? Но это совсем абсурд. Да, с Карлом у них нет большой братской любви, но не смерти же его брат хочет, пусть хоть он трижды безумец?