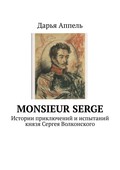Дарья Аппель
Дети Балтии
– Эрики… нет, – Алекс протянул другу письмо.
– Понятно. Фитингоф её в чахотку вогнал, – решительно произнес Георг.
– Причём тут Фитингоф? – странно посмотрел на него барон.
– Эх… ты же в Риге почти не бываешь. Ну всё, ему от шурина достанется. Интересно, граф Иоганн это уже знает?
Алекс только рукой махнул. И удалился переживать в одиночестве.
Через неделю Алекс уехал в Ригу вместе с фон дер Бриггеном. И там он встретился с воскресшим из мертвых Жанно Лёвенштерном, который похудел до неузнаваемости и, похоже, совсем разучился улыбаться. А с ним – к его полной неожиданности – был Константин фон Бенкендорф, который, как оказалось, случайно столкнулся с Лёвенштерном где-то в Преслау на постоялом дворе. После дружеско-родственных объятий Бенкендорф с братом поехали в Петербург, а Лёвенштерн еще некоторое время пробыл в Риге.
***
Жанно фон Лёвенштерн, выздоровев окончательно и прибыв на родину, получил кофр с вещами своей сестры. Почему-то в реальность смерти Эрики он не верил. Казалось ему – сестра где-то жива, а в фамильной усыпальнице закопали кого-то другого – не её. Но его всё время занимали разговорами о ней – так, Бурхард постоянно вздыхал и говорил: «Ангел… Чистый ангел… И теперь там, на своей ангельской родине», указывая взглядом на потолок в своём доме, расписанный облаками и небесной лазурью. Фитингофы собирались в Италию на год, предлагали даже Жанно поехать туда для «излечения», но барон отклонил приглашение, сказав, что уже довольно лечился. Несмотря на уговоры своего приёмного отца, он желал как можно быстрее уехать из Ливонии в Петербург, чтобы не пересекаться с Иоганном фон Ливеном, которому придётся как-то в глаза смотреть. Екатерина Фитингоф говорила, что брат её очень тоскует по невесте. «Можно себе представить», – усмехался горько барон, который сам не прочувствовал всей силы скорби. У своих родственников в Разиксе он тоже побывал. Там царил полный траур. Натали всё время пребывала у своей матери, помогая с маленькими племянницами и утешая невестку – хотя сама была, по словам Вилли, безутешна. Сам Вальдемар пребывал в некоей прострации – начинал что-то говорить и не заканчивал, сам ходил небрежно одетый и некрасиво заросший тёмной щетиной, начавшей уже превращаться в бороду. Он выглядел постаревшим лет на десять. Казалось, он и сам чем-то болен. В Разиксе не открывали шторы, пыль скапливалась комьями по полу, и обстановка в целом казалась очень тягостной. Поэтому Жанно уехал оттуда, как только счёл нужным.
По дороге он разобрал вещи Эрики. Они были скромными, ничего особенного. Наткнулся на тетрадку с дневниковыми записями, долго колебался, стоит ли читать или лучше сразу бросить в камин. В конце концов, не устоял перед искушением и вдался в записи. «Так вот, значит, кто…» – сказал Жанно, увидев записи о некоем S. Он примерно догадался – по некоторым деталям, которые сестра допустила, по стихам его, переписанным ею от руки – что это «Петрарк». Последняя запись, от 11 декабря, заканчивалась цитатой из того Петрарка, который жил давным-давно во Флоренции: «Свою любовь истолковать умеет лишь тот, кто слабо любит». Жанно вздохнул. Если он в Петербурге встретит Марина – то что сказать? И этому несчастному графу Иоганну что – «Ваша невеста не любила вас и согласилась стать вашей женой от отчаяния»? Он всё же решил сжечь дневник. После того, как ему приснилась сестра – как живая, только глаза у неё были без зрачков. За эти несколько месяцев, проведенных в болезни, Жанно в мистику пусть и не поверил, но научился ею не пренебрегать. Поэтому счёл явление Эрики в сновидении неким знаком – и больше дневник не читал, а по приезду в Петербург немедленно бросил тетрадь в камин.
На следующий день после его прибытия в столицу к нему явился князь Михаил Долгоруков.
– Жанно! Живой! – сказал он сразу же с порога.
– Все меня похоронили и оплакали, как погляжу, – произнес Лёвенштерн насмешливо, но без улыбки. – А ты как? Ты был тогда ранен, или мне показалось?
– Ах, это, – махнул рукой Мишель. – Просто пуля прошла навылет, ничего важного не задето. Я тебя пытался найти, меня же назначили всех раненных перевозить в Россию… Но ты как в воду канул. И в плену тебя не было.
– Я не помню, где я был и где не был, – вздохнул Жанно. – Главное, калекой не остался. Мне руку хотели отрезать.
– Слышал о твоей сестре… Соболезную. Мой брат аж рыдал от горя. Он же её любил. Кстати, про Пьера. Хотел тебя видеть.
– Зачем? – Жанно молча сидел и курил, глядя куда-то в сторону.
– Там очень много всего интересного открылось, – загадочно произнес Долгоруков.
– Я-то тут причём?
– А ты умный, – Мишель не сводил с него глаз. – Вообще, что ты хочешь делать дальше?
Лёвенштерн пожал плечами. Об этом он как-то не думал. Возможно, продолжит служить. Может быть, выйдет в отставку, уедет в Дерпт и займётся врачебной практикой, совмещая её с преподаванием в недавно открытом там университете. Или вообще в Риге поселится. Или в Ревеле. Мог бы, как принято у тех, кто разочаровался в жизни, поехать в вояж по Европе, но ныне не то время для поездок, и денег у него столько нет.
– Ты подумай. Только не спивайся, – проговорил строго князь.
– Я не из тех, кто спивается, – Жанно взглянул на собеседника сквозь дым трубки.
– Так все говорят, а потом валяются под столом круглыми днями. Может, женишься? Или заведёшь какую-нибудь Большую Любовь?
– Кто на мне женится, mon ami? – усмехнулся Лёвенштерн. – И зачем мне обзаводиться супругой? Чтобы мучить ни в чём не повинную девицу своими заморочками? Что касается любви…
Он периодически думал о Дотти. Но не хотел перешагивать порог её дома. Жанно полагал, что там, в той жизни, которую ведет эта надменная рыжая королева, он только лишний. Тем более, он слышал, что кузина не так давно потеряла маленькую дочь. Беспокоить её в горе он не желал – своего хватало.
– По крайней мере, это придаёт жизни цель и заставляет что-то делать, – говорил Мишель.
– По собственному опыту говоришь? – с неким подобием любопытства в глазах спросил барон.
Долгоруков кивнул.
– От тебя к ней поеду, – таинственно проговорил он.
– К ней? Так час ночи же на дворе. Или ты полезешь к ней в окно? – Жанно внезапно заинтересовался личной жизнью приятеля. – Как дерзко! Только в Петербурге такие дела не проходят. Кто-нибудь заметит, пойдут сплетни, и над тобой все будут смеяться…
– А она только ночью и принимает.
– Оригинально, – произнёс Лёвенштерн. – Весьма оригинально. Кто ж она такая? Заговорщица? Сумасшедшая? Ведьма?
– Лучшая женщина на этой Земле, – отвечал его друг немного печально.
– И что? Ты женишься?
– Если она получит развод, – произнёс Долгоруков.
– Так все серьёзно?
– С мужем она всё равно не живет, – проговорил князь. – Что касается всего остального, то тут дело решённое.
– Если она принимает только ночью, то вряд ли я её видел, потому что в такое время предпочитаю заниматься чем-то другим, кроме разъездов по салонам, – Лёвенштерн сумел несколько оживиться. – Но, кажется, догадываюсь, кто она… «Неспящая»? Княгиня Eudoxie Голицына?
– Чёрт возьми, ты угадал, – рассмеялся его друг. – Только зря ты называешь её Eudoxie. Она предпочитает зваться Авдотьей, как её крестили, и на французский вариант своего имени не отзывается.
– Как это мило, – улыбнулся Лёвенштерн. – Учту, если когда-нибудь буду ей представлен. Ну, удачи тебе в нелегком деле ухаживания. И, пожалуйста, не перепутай день с ночью.
– Куда я денусь? Мне всё равно надо бывать на службе часов в восемь утра.
– Ну, тогда не скончайся прежде времени от недосыпа, – посоветовал в шутку Жанно.
– Мы с тобой прошли через ад и как-то выжили, поэтому не беспокойся… И вот что – мне надо идти, поэтому напомню – завтра приходи ко мне, там будет мой брат и один из твоих высокопоставленных родственников, – князь Михаил поднялся из-за стола.
– Это кто же?
– Граф Христофор же! Совсем запамятовал, кто есть кто в нашем свете?
– И все же – зачем им я? – подумал вслух Жанно.
– Если не хочешь окончить свои дни в какой-нибудь дыре, а прославиться, как мы с тобой и говорили накануне побоища, то тебе открывается отличный шанс, – тихим и хитрым голосом произнес Мишель.
Лёвенштерн пристально посмотрел на него. «Да, жизнь продолжается», – подумал он, – «Я прошёл сквозь воду, огонь и медные трубы не для того, чтобы складывать руки и всю оставшуюся жизнь жалеть самого себя. Ныне я исправлю свои ошибки и стану решительнее и злее».
– Что ж, я приду, – сказал Жанно.
– Отлично. Тогда до завтра! – попрощался с ним Долгоруков.
После его ухода Лёвенштерн почувствовал, что прежнее желание получить от жизни всё и прославиться одолело его. Да, тогда он вёл нечестную игру – за то и был наказан смертью сестры. Но ныне отказываться от всего, искупая уединением свои ошибки и промахи? Разве Эрика бы не хотела его славы и возвышения? А Бог его сохранил после Аустерлица не для «тёплой лежанки», а, верно, для чего-то блестящего. Ему вспомнился князь Пётр Долгоруков накануне битвы – высокий, блестящий молодой человек, надменно оглядывающий собеседников, пренебрежительно, через губу, говорящий о «непобедимом» императоре французов, генерал-майор в свои двадцать восемь, и, верно, будет вторым, а то и третьим человеком в России – после, разумеется, государя императора… Вот таким он, Иоганн фон Лёвенштерн, мог стать запросто! У него в запасе четыре года – и за это время может случиться всякое. И с чего-то надо начать, чтобы достигнуть сей славной цели.
Санкт-Петербург, Зимний дворец, март 1806 г.
Император Александр с утра пораньше пил свой привычный кофе с хрустящим печеньем и читал почту, доставленную сегодня на его имя. День за окном занимался серенький и скучный, середина недели, и сегодня полно работы.
Итак, князь Чарторыйский просит отставки – это уже второе письмо от него с мольбой – нет, скорее с категорическим требованием «отпустить» его. Государь пока не предпринимал никаких действий, и не столько потому, что ему так не хотелось расставаться с одним из близких друзей, сколько потому, что он чувствовал – эта отставка является хорошо продуманным шагом со стороны Адама. Да к тому же в такой манере просьбы обычно не пишут. Князь, насколько его знал Александр, вообще не умел просить – он мог только требовать. Сначала это качество в друге восхищало юного наследника престола и вызывало в нём «белую» зависть, так как ему самому все вменяли в недостаток некую «мягкотелость», но потом, видя, что Адам намеренно, не считаясь со своим и его положением, отводит ему роль ведомого, не гнушаясь и прямым давлением, Александр начал разочаровываться в Чарторыйском. И переиначил его план по своему усмотрению. «Ливен очень вовремя подсуетился тогда с депешей…» – вспомнил государь. – «Но даже если бы она не пришла, я бы всё равно отменил приказ о взятии Варшавы. Только подождал бы ещё недельку». Разрушив так чётко и логично выстроенный план друга, он попытался дать понять князю – он, Александр, является здесь государем и только он может решать, как вести политику. Довольно он терпит от всех в первые годы своего царствования: то Бонапарт с его намеками на «цареубийство», то Пален, явно пытавшийся воспользоваться ситуацией и стать временщиком, то вот этот Адам, который пишет ныне буквально следующее: «Ваше Императорское Величество, кажется, приняли за правило руководствоваться первой попавшейся идеей, не принимая в соображение ни мнения, ни опытности других». Под «другими» Чарторыйский, конечно же, разумеет прежде всего себя.
Неделю назад Александр в ответ на первую просьбу князя об отставке пожаловался, что его увлекли ложные идеи, планы, подсказанные лицами, мало что смыслящими в военном деле и политике. Он не называл никаких имен, но, очевидно, гордый и обидчивый князь принял слова на свой счет. И ныне, в своём послании проводит в жизнь наступательную тактику. Вот строки: «Ваше Величество полагает, что система, которой вас увлёк кабинет, и есть источник всех перенесённых вами бедствий. Напротив, я не должен скрывать моей уверенности в том, что Ваше Величество недостаточно открыто и решительно следовали этой системе, отступив от намеченного плана и потеряв доверие к тем, с кем вы её разработали».
«Отлично!» – с иронией воскликнул про себя государь. И здесь «трусость», «нерешительность», «закрытость» – каждый человек, хоть немного ему близкий, старается намекнуть или прямо упрекнуть его в недостатке отваги. Пять лет назад фон дер Пален, – эта тёмная остзейская тень, которая по его воле исчезла на заре его правления, укрывшись в своей мрачной, болотистой Курляндии, – тоже повторял: «Полно ребячиться, государь. Ступайте царствовать!», а до этого: «Решайтесь!» Отец с его поддёвками – «мямля» и «девчонка» – туда же. Но пока следование советам стать «порешительнее» ни к чему хорошему его не привело. Отец убит, и известно, что нынешний император дал «добро» на его свержение. Аустерлиц, когда он вёл полки в сражение навстречу коварному неприятелю, проигран – позорно, ценой многих человеческих жизней и распада коалиции. И князь Адам говорит, что император сам во всём виноват! Что ему надо было ринуться спасать эту Польшу, уговаривать пруссаков отдать ему земли для объединения Речи Посполитой. Милое дело! Понятно, для чего князю всё это надо – Адам, собственно говоря, никогда не скрывал своих истинных целей. Ныне он словно сошёл с ума. Кусает руку, гладящую его.
Александр, конечно, мог бы подписать отставку Чарторыйского с поста министра иностранных дел хоть сейчас. Он бы нашёл, кем его заменить, хотя пришлось бы над этим хорошенько поломать голову. Всё же при власти должны быть люди единого с тобой склада ума и образа мыслей, способные понимать твои чувства и мотивы действий. Отцу нужны были тупые исполнители его воли. Александр всегда презирал такую политику, считая её первым признаком тирании. Государь всегда полагал, что надо дружить с подчиненными, а не повелевать ими, а также быть способным спокойно выслушивать критику из их уст. Но где же был Адам до того, как всё случилось? Почему он ругает его за ошибки прошлого? Это очень неприятно. Отпускать князя Александру очень не хотелось – нет уж, пусть доводит начатое до конца. Но с необычайным упорством Адам требует отставки – верно, для того, чтобы все дела запутались окончательно.
Государь отложил в сторону письмо своего министра и друга, решив ответить на него попозже. Он думал выбрать лаконичный и холодный тон, противопоставив его истовой горячности князя. Александр стал разбирать другую почту.
Через час камер-лакей постучался в его кабинет и сообщил о прибытии великой княжны Екатерины Павловны. С некоторых пор сестра получила привилегию приезжать к Александру в любое время, пока он находился в дворце, поэтому государь лишь кивнул в ответ, и вскоре к нему вошла Като. Государь заметил, что выглядит она ныне великолепно, а новое платье сложного розовато-пепельного оттенка необычайно идет к её свежему цвету лица.
– Как дела? – произнесла вместо приветствия великая княжна, после того, как венценосный брат поцеловал ей руку.
– День начался вот с этого, – Александр указал ей на письмо Чарторыйского. – И настроение моё теперь испорчено напрочь.
Като подцепила письмо двумя пальцами, словно это было гадкое насекомое, вроде паука или таракана.
– Что тебе пишет этот поляк? – спросила она небрежно.
Едва только Александр открыл рот, чтобы начать жаловаться на Чарторыйского, сестра, усевшись в кресле и сложив ноги крест-накрест – государь украдкой кинул взгляд на обрисовавшиеся под шелком её платья стройные колени и узковатые, ещё девичьи бёдра, – развернула бумагу и, нахмурившись, начала читать. Закончив, швырнула письмо на пол.
– Отправь его в Сибирь, Саша, – безаппеляционно проговорила Като.
– Не всё так просто, – медленно произнес император. – Ты, кстати, кофе будешь? Забыл предложить.
Она молча кивнула, всё еще кипя от гнева. Александр сам налил ей ароматный напиток из кофейника, и Като машинально сделала глоток из чашки.
– Он сам просит отставки. Потому что я не повёл войска на Варшаву. Князь даже писал, что с Бонапартом вообще не нужно было воевать, – пояснил император.
– Так отправь его туда, куда он просит. А потом – в славный городок Пермь. Или, скажем, в Якутск, тоже милое местечко. Пусть охладит там свой пыл, – Като взяла со стола печенье и откусила от него немного.
– Папина дочка, – усмехнулся её брат. – Адам мне вообще-то ещё друг. Мы тогда клялись…
– Зачем тебе враги, когда у тебя такие друзья? – великая княжна поставила чашку с недопитым кофе на стол. – В первую очередь, Чарторыйский – твой министр. Какой министр пишет так своему государю: «У вас нерешительный образ действий, который производит полумеры, поступки, обусловленные слабой волей»? Тебе не кажется, что он на себя слишком многое берёт?
Девушка дерзко посмотрела Александру прямо в глаза.
– С позиции друга он прав, – государю отчего-то стало стыдно. – И вообще, это, в некотором роде, личное письмо. А не официальный рескрипт.
– Я бы и дружбу такую не потерпела, – упрямо продолжала его младшая сестра. – У тебя всегда с ним были странные отношения. Адам решил быть ведущим, а ты ему подчиняешься. Но так же нельзя! Дружба предполагает равенство!
– Это недостижимо в жизни, – покачал головой Александр. – И Адам… Да, он и в самом деле сильнее меня. Старше. Много пережил. Он такие вещи о себе рассказывал, что я на его фоне смотрюсь незрелым мальчишкой. И он умён, этого не отнимешь. Я сам согласился быть вторым – вот и расхлёбываю. А вести себя как тиран по отношению к князю мне совесть не позволит.
– А ему позволила совесть при всех крутить роман с Lise? – прищурив зеленовато-серые глаза, проговорила Екатерина.
– Като, – утомленно начал её брат. – Мы с ней ещё до этого договорились, что, коль скоро мы друг друга не интересуем как мужчина и женщина, мы вольны выбирать себе любовников…
– Это я знаю, – перебила его великая княжна, скрестив руки на груди. – Но кто их просил делать ребёнка? Девочка была копией твоего лучшего друга, и обманывать свет долго бы не получилось.
– Она родилась по воле Провидения, – вздохнул Александр, помрачнев лицом. – Этого нельзя было избежать.
– Саша. У твоего Чарторыйского в постели перебывала масса женщин. Он должен был знать, каким именно способом можно предотвратить такие неприятности, – жёстко проговорила девушка.
– Като! – государь покраснел от стыда. – Ты же ещё девица! Откуда ты это знаешь?
– А я слушаю, что люди говорят, – беззаботно откликнулась великая княжна. – Но дело не в моей нравственности. Дело в том, зачем Адам так поступил.
– Кажется, я начинаю понимать… Он хотел повязать свою кровь с царской, – проговорил император.
– И иметь кандидатуру в наследственные польские короли. Он же не знал, что родится девочка, – Като встала и поправила платье.
– Ma soeur, – Александр привстал, наклонился к ней вперёд, через всю столешницу. – Получается, он хотел таким образом воплотить в жизнь идею династической унии Польши и России?
– Да, – глаза Екатерины сделались совсем зелёными, и что-то хищное появилось в её лице, сходство с кошкой только усилилось. – Ты сам говорил о том, что он умён. Когда этот план не получился, он стал играть в открытую. А ты его подвёл и на этот раз…
– А теперь он просится в отставку. Умывает руки, да? – мысли лихорадочно завертелись в голове у государя.
– Не совсем. Он хочет, чтобы ты развязал ему руки, – Като вновь угостилась печеньем. Её лицо выглядело абсолютно спокойным и в то же время решительным.
– Неужели он замышляет очередное восстание? – Александр побагровел.
– Как знать, – пожала плечами его сестра. – Но он явно не собирается делать ничего хорошего для России.
– Так. В отставку он у меня не пойдёт. Пусть делает с этим, что хочет, – и Александр сел писать очень краткое послание к Чарторыйскому, содержащее такие слова: «Адам, скажи мне прямо, что именно ты желаешь?»
Великая княжна гипнотизировала его взглядом и, подняв глаза на неё, Александр ощутил, как его охватывает некая дрожь. Сестра. Одна с ним кровь. Единственная, кому он может нынче довериться. Сильная и решительная девушка. Очень жаль, что Екатерина не родилась мужчиной. А то была бы его первым советником. Като права в главном – надо постепенно прекратить «дружить» с сановниками. Пора учиться повелевать. И приближать к себе надо не романтических личностей вроде Попо Строганова или того же Адама с их якобы «широким взглядом на мир», а людей, которые ему будут преданы до конца. С сим и порешил, и попрощался с Екатериной, поцеловав её в гладкую, ароматную щеку – а так хотелось в губы… И долго смотрел ей вслед, подумав, что сестра щедро наделена всем – статью, красотой – пусть и не совсем классической, умом, твёрдостью характера, а станет при этом правительницей какого-нибудь захудалого германского княжества, подобно всем прочим. Отменить, что ли, закон о престолонаследии и завещать трон ей? А что – будет Екатерина Третья. Вся в бабку, и править будет так же. Намного лучше его. Да, и распутством будет отличаться тоже воистину бабкиным… Если вытворяет с ним такие вещи, оставаясь физически девственницей, и уже прекрасно знает, как предохраняться от появления потомства при внебрачных связях…
Но и Адам поразил государя. И даже восхитил своим холодным расчетом. Александр-то думал, что князь по-настоящему влюбился в Елизавету. Он «обоим подарил свободу, ведь это называется «любовь». Ребенка, не похожего на Александра ни капли, признал, дал своё отчество. Примеры из рыцарских романов словно подсказывали – да, государь всё правильно делает, благородный и могущественный король Артур тоже сдался перед всепоглощающей любовью, вспыхнувшей между его супругой Гвиневерой и Ланцелотом. Оказалось же, что друг использовал государыню для удовлетворения своих амбиций. Ради своей Отчизны. И ныне явно пытается взять силой то, что не получилось взять своим дипломатическим проектом. Ну нет. Просто так Адам не уйдёт.
Попрощавшись с сестрой и обдумав всё это, государь занялся другими делами и начал принимать министров с докладами.
Санкт-Петербург, дом князя Михаила Долгорукова, март 1806 года.
Жанно Лёвенштерн чувствовал себя как на экзамене, сидя напротив генералов, составляющих то, что он окрестил «триумвиратом». Его друг Мишель под каким-то предлогом удалился, а потом, как понял барон, и вовсе уехал из дома – верно, к своей «Ночной княгине». Долгоруков смотрел на него несколько снисходительно – мол, «я помню, что ты мне в своё время подложил свинью, но ныне великодушно прощаю». Он мало изменился за эти месяцы. Князь Пётр Волконский выглядел мрачно и сосредоточено. Граф Кристоф фон Ливен сидел в тени и молча глядел на Лёвенштерна, слушая, что он скажет.
– Итак, господа, я, право, не ожидал, что всё будет так… – начал он.
– Вы вернулись из мёртвых, – перебил его князь Пьер Долгоруков. – Удивительно. И, как видно, вы не особо пострадали.
– Вылечился.
– У меня были все списки пленных и раненных. Ни в одном из них вы не значились, – глухо проговорил Волконский. – Это очень необычно.
– Итак, вас, случаем, не завербовали ли французы? – со свойственной ему прямотой заключил Долгоруков.
Ливен при этом болезненно поморщился.
– Время такое, никому нельзя доверять, – быстро проговорил Пьер. – Впрочем, мы вам доверяем. Поэтому вы здесь. И всё так. А я не могу забыть вашей сестры…
Он посмотрел на Жанно печально. Лёвенштерн подумал: «Ещё скажет что-нибудь об Эрике – я встану и уйду. Что за комедия, право слово!»
– Вы знаете, поручик, что вас предоставили к двум наградам и к золотой шпаге «за храбрость»? – спросил Волконский, почувствовавший неловкость от слов его тёзки.
Жанно ошеломлённо покачал головой.
– У нас есть одно к вам предложение, поручик, – взял слово граф.
– От которого я не смогу отказаться? – пошутил Лёвенштерн, всё ещё немало удивлённый от того, что его действия под Аустерлицем, оказывается, сочли проявлением «храбрости».
– Отказаться вы всегда сможете, – добавил Долгоруков. – Это, можно сказать, продолжение нашего с вами давнего разговора.
– Но в чём теперь смысл? Её нет, – помрачнел Лёвенштерн. – И то, что случилось после тогдашней нашей беседы…
– Поражение состоялось из-за того, что кто-то заранее передал в штаб французов сведения о диспозиции, выбранной нами при Аустерлице, – произнёс Волконский.
– И у нас есть все основания подозревать, что это был Чарторыйский, – тонко улыбнулся Долгоруков.
Кристоф помалкивал и только испытующе смотрел на Лёвенштерна. «Я бы мог выбрать Альхена… Но для таких целей я его поберегу», – думал он.
– Господа, вы хотите, чтобы я его убил? – утомленно спросил барон.
– Мы хотим, чтобы вы не помешали нам его убить, – тихо, но твёрдо произнес граф Ливен.
«Неужели теперь и он заодно?» – Жанно вгляделся в прохладные глаза своего родственника, обведённые синеватыми кругами – от недосыпа ли, от болезни ли, неясно.
– Делайте, что хотите, – проговорил Лёвенштерн. – Не мне препятствовать вам в этом. Я не придворный, не флигель-адъютант и не знаю даже, останусь ли на службе…
– Останетесь. При Штабе, – сказал Волконский как нечто само собой разумеющееся.
– При Генеральном Штабе? – переспросил молодой человек. Итак, Мишель не соврал. Ему действительно открывается блестящее будущее.
– Более того. Я подписал назначение вас своим личным адъютантом, – взял слово Кристоф.
– Право слово, мы с Христофором долго не могли вас поделить, чуть не подрались, – со смешком проговорил Долгоруков. – Но я уступил графу. У меня и так уже девять человек адъютантов, целая свита. Кроме того, я очень много езжу, а вы, как полагаю, уже напутешествовались вдоволь и желаете вести более оседлый образ жизни…
– Впрочем, вам меня тоже придется сопровождать, если я куда поеду, а это случается довольно часто, – сказал Кристоф.
Лёвенштерн промолчал. Всё как-то происходило быстро и без его участия, он даже сообразить не мог, как правильно на это реагировать.
– Но почему?… – он решил вытянуть из этих господ всё, что касалось этого необычного – однако ж, вполне ожидаемого – назначения.
– Потому что я так решил, – продолжал граф, который, как успел заметить Жанно, стал негласным главой этого «триумвирата». – Мне нужен помощник, которому я мог бы доверять. Вам – доверяю. Остальным – не очень. И вы же сами хотели этого, не так ли?
Он одарил своего нового подчиненного холодной улыбкой.
– Почему же не Альхен? – наивно спросил он. – Не ваш зять?
– С моими поручениями он не справится. Это раз, – начал загибать свои тонкие, узловатые пальцы Кристоф. – Потом, он родной брат моей жены, и не в моих правилах продвигать столь близких родственников. Это два. И вы мне лично кажетесь очень толковым и умным человеком. Это три. Алекс, к тому же, уже в адъютантах у графа Толстого, а тот им очень доволен и просто так не отпустит. Это четыре.
– Подобное назначение – большая честь для меня, – осторожно произнес Жанно.
– Христофор, ты забыл представить ещё одно преимущество Ивана Карловича перед остальными, – внезапно произнес помалкивающий до сих пор князь Волконский. – Университетское образование.
– Причем тут это? – вырвалось у Левенштерна.
– Вы умеете мыслить в системе, – пояснил Кристоф. – Вас научили. Мне же, например, пришлось долго учиться этому самостоятельно, ибо воспитание моё было хоть хорошим, но домашним.
– А вас не интересует то, каков он, как начальник? – хитро подмигнув ему, спросил Долгоруков. – Вдруг он деспот, как этот… как его… Аракчеев?
– Верю, что довольно хороший, – улыбнулся Жанно.
– Мой девиз «Arbeit und Disziplin» («Труд и дисциплина»), – Ливен говорил так, словно читал с листа. – Я не терплю халатности, неточности, опозданий и отгулов по неуважительной причине. Что касается моего распорядка дня. Я встаю в шесть и к семи уже на Захарьевской – если у меня нет доклада во дворце. Обычно к государю я езжу в десять утра. Это значит, что в этот промежуток времени вы должны предоставить мне готовый доклад или документы на подпись. С десяти и до обеда я у государя. Потом возвращаюсь в Канцелярию. В зависимости от количества дел мой день кончается либо в восемь, либо позже или чуть раньше. Вас могу держать при себе не до конца.
– Меня всё устраивает, если на меня не будут кричать и махать кулаками, – улыбнулся Лёвенштерн.
Все рассмеялись.
– Ну, это явно не про Христофора, – сказал Долгоруков.
– Очень часто я езжу с государем в разные места, – продолжил Ливен. – На маневры или вот, как недавно, – в боевой поход. Иногда во время этих поездок вы будете сопровождать меня. Иногда – нет. Я могу вас откомандировать куда-нибудь отдельно.
– У него система. Всё налажено, – ответил князь.
– Я уже десять лет этим занимаюсь, – вздохнул Кристоф. – Чаще – сам. Мне назначали в адъютанты всяких болванов, которые не умеют понять смысл простейшего указа по армии…
– Я постараюсь не быть болваном, – усмехнулся барон, а потом добавил, вмиг осмелев:
– А какова же моя будущность?
– Вы служите, а потом всё узнаете, – отвечал за графа Волконский.
– Скажу одно: если вам так захочется придворной жизни, то флигель-адъютантство можно очень легко достать, – произнёс Долгоруков.
– Господа, что мне для вас сделать? – оживлённо спросил Жанно.
– Будьте нам верным, этого с вас достаточно, – заключил Кристоф.
– Jawohl, – ответил Лёвенштерн с лёгкой улыбкой.
Потом он поехал к Марину, но застал его не одного. У того собрались практически все. Хозяин выглядел всё ещё довольно немощным от ран, но продемонстрировал золотую шпагу, данную ему за храбрость, и сказал:
– Ну, за это орудие мне пришлось месяц проваляться в госпитале… И зачем же гордиться храбростью, когда случился такой позор?
Потом прибыл Аркадий Суворов – «Бижу», которого собравшиеся начали упрекать в том, что он опять позабыл о жене, а та ему, быть может, изменяет с неким ami.
– Да знаю я, – прогремел граф на всю гостиную. – Рога у меня, как у того сохатого, которого мы тут давеча завалили…
– Что же хорошего, стыдиться надобно, – откликнулся Алекс.
– Видно, что ты не охотник. У сохатого большие рога – первый признак мужественности.
– И неизбежная деталь экстерьера любого супруга, – добавил Марин.
– Да? А я-то думал, что символ мужества выглядит иначе, – проговорил Алекс.
Все расхохотались, ибо были уже навеселе.
– Так, значит, все в сборе. И я от эскулапов убежал! – сказал Марин. – И Аркаша от жены, хотя и зря. И Лев. И Митя. И Рибопьер. Вот Костуя, жалко, нет…
После этих слов в дверь вошел Воронцов. Все аж ахнули.
– Ты же за морем был?! – воскликнул Алекс, глядя на румяное лицо друга и немного потерянный взгляд. – И сестру замуж выдаёшь?