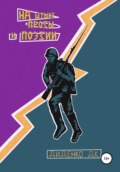Даниил Константинович Диденко
Русский вопрос. Альманах публицистики
Важной видится его мысль о том, что «всякое творческое созидание по природе своей человечно и в этом смысле, конечно, гуманистично и иным быть не может: человеконенавистничество никогда не было и не способно быть основанием созидания, но всегда лишь разрушения» [2, с. 23]. Например, не так давно на полках книжных магазинов прочно обосновались книги нашей бывшей соотечественницы, американской писательницы Айн Рэнд, философию которой можно предельно сжать до одной единственной фразы из уст героя романа «Атлант расправил плечи»: «Клянусь своей жизнью и любовью к ней, что никогда не буду жить ради другого человека и никогда не попрошу и не заставлю другого человека жить ради меня». То есть это практически жизнь животных, где каждый сам за себя, где правит естественный отбор. В таком мире человек одинок и всеми брошен, выживает только сильнейший. А ведь в числе поклонников Айн Рэнд есть люди, которые долгое время находились и находятся у власти… Совершенно иные ориентиры отстаивал Ю. И. Селезнев. В своих работах он выделяет такое свойство русской литературы, как человечность: «…подлинная человечность нашей литературы – качество столь очевидное и столь признанное, что не подлежит никакому сомнению» [2, с. 14]. Подчёркивая, что русская литература человечна, Ю.И. Селезнев пишет: «Ведь подвижничество требует не только любви к человеку, но и высокой требовательности к нему, именно беспощадности к его недостаткам» [2, с. 15], что справедливо по отношению не только к литературе, но и к литературной критике.
Национальное своеобразие литературы он находил в том, что «все ее великие представители и творцы видели свою высшую заслугу и миссию не в том, чтобы выразить своё личное “я” и не в том, чтобы выдать своё слово за народный взгляд, но в том, чтобы действительно воплотить в своем слове общенародные чаяния, идеалы, устремления». Почему же так важна для Селезнева народность художественных произведений? Потому что нации нужна память для сохранения возможности творить: «Взорвать, отравить, засыпать истоки – значит решительно изменить русло полноводной реки, её жизнеспособность. Подрубить корни – значит лишить могучее древо жизни народа живительных соков земли, иссушить плодоносящие ветви» [3, с. 79]. А лишить свободы и возможности творчества – все равно что отобрать силы для принесения пользы в общемировом диалоге культур. Именно этим занимались в советский период и особенно занимаются сегодня многие писатели, критики, журналисты, политики для смены менталитета через принятие чужеродных тезисов и так далее. Но для того, чтобы не допустить губительного, по мнению Селезнева, отрыва от корней национальной истории и искусства, критик и создавал свои работы. Селезнев упоминает, что народность имела большое значение в творчестве писателей-классиков, например, в творчестве И. А. Гончарова. «По его определению [И.А. Гончарова] русская литература – это «выражение духа, ума, фантазии, знаний целой страны… язык, выражающий все, что страна думает, что желает, что знает и что хочет знать и должна знать», это всемирно-историческое явление пребывает в мире вот уже тысячу лет» [2, с. 12]. Помимо творчества И.А. Гончарова для обоснования собственной точки зрения о концепции народности, Ю.И. Селезнев на протяжении всей книги «Глазами народа» обращается к истории русской и зарубежной литератур и культур, произведениям А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, М. Горького, философским работам А.Ф. Лосева, Д.С. Лихачева и говорит о «принципах народности литературы и искусства, о том, что они утверждены в нашем сознании как категории, находящиеся в диалектической взаимосвязи» [2, с. 316].
Ю. И. Селезнев перечисляет имеющиеся взгляды на проблему народности: «Народность виделась и в обращении литературы и культуры к народным традициям, к воспроизведению форм и средств народного творчества, к использованию песен, сказок, легенд и т.д. Толковалась категория народности и в смысле необходимости создавать произведения применительно к уровню народного разумения, специально «для народа». Критик отмечал: «Очевидно, такого рода формы народности в целом или в каких-то сочетаниях характерны как для русской литературы, так и для любой другой. Но столь же очевидно, что ни одна их этих форм сама по себе, ни их совокупность не способны определить особенность того мироотношения, которое воплощено в русской литературе» [2, с. 68].
Другая проблема, поставленная Ю.И. Селезневым, такова: «Именно в непримиримости русской литературы к любым проявлениям эгоцентризма, в последовательном отрицании ею самоценности личности, противопоставляющей свои интересы интересам народа, нации, самоутверждающейся за их счёт- одна из важнейших причин того, что в отношении русской литературы часто употребляются понятия «жесткость» и «свирепость» [2, с. 71]. Юрий Селезнев, живя в советское время, в атеистической стране, формулирует типично христианско-православное понимание личности. Он принципиально разграничивает личность и индивидуальность: «личность начинается не с самоутверждения, а с самоотдачи, с самоотречения, с самопожертвования ради другого…через такого рода отречения, через отказ от индивидуалистического, эгоцентрического «Я» человек из индивидуума превращается в личность». [2, с.73]. Так определяли личность и многие другие авторы, прежде всего Федор Достоевский. Это народный идеал, в котором не только выгода, но даже собственная жизнь, личное счастье занимают далеко не первое место в шкале ценностей. Не экономические и индивидуалистические интересы являются главенствующими в сознании народа, но идеалы Правды, Добра и Красоты. Когда-то они были сосредоточены в вере в Бога, которую агрессивно или «прогрессивно» отвергает современность. Например, непонимание этого одного из центральных законов русской культуры, русского мировоззрения, системы ценностей демонстрирует Сергей Кургинян. В одном из номеров Литературной газеты он говорит о том, что для русского сознания, русской традиции не характерен диалогизм. Опираясь на статью Ю. М. Павлова «Кризис и другие» Сергея Кургиняна не могу не согласиться с тем, что «Кургинян не в состоянии объективно, непредвзято, адекватно оценить исторические события ХХ века и роль отдельной личности. К тому же автор страдает русофобией. Он не может предложить реальную альтернативу тому губительному курсу, по которому идёт наша страна. Такие "аналитики", как Кургинян, выгодны, необходимы нынешней власти, ибо своими статьями, книгами, выступлениями на телевидении они уводят читателей, зрителей от истинных ценностей, от подлинного понимания далёкой и близкой истории, дня сегодняшнего» [5]. И далее: «Русская литература, будучи действенной силой формирования нашего национального самосознания, утвердила в качестве «другого лица», интересам которого могут и должны быть подчинены индивидуальные интересы, – народ и тем самым утвердила народ как лицо и выработала же и новый тип индивидуальной человеческой личности, способной и готовой на самопожертвование во имя народа» [2. с, 73]. Критик утверждает, что в данном случае личность не умаляется, а возвышается.
Юрий Иванович по-своему объясняет идею всемирности русской литературы. «И, наконец, народность её, отнюдь не утверждает идею центральности в системе общемировых ценностей именно как русского или какого бы то ни было другого народа. Скорее уж идею народности можно выразить как утверждение необходимости для каждой национальной культуры видеть мир глазами своего народа…Но именно народа, а не той или иной личности или группы, выдающих свой взгляд за общенародный» [2. с, 74]. К сожалению, на фоне сегодняшних межнациональных и межконфессиональных конфликтов, стремления США к мировому господству, доктрины «золотого миллиарда» эта мысль Селезнева выглядит, с одной стороны, утопической, но с другой – воплощает идеал межнациональных отношений в планетарном масштабе.
Итак, в понимании Ю. И. Селезнева народность литературы включает в себя человечность, созидательность, воплощение общенародных идеалов, историческое мышление, воспитание духовности и нравственности людей. Только в случае использования этих принципов литература будет государственной, народной, идеологической, политической, духовной, нравственной и эстетической силой общества. Подчеркну, что в определение «идеологическая» по отношению к литературе Ю. И. Селезнев вкладывал совершенно иное содержание, подразумевая её патриотизм, укрепление государственности и национальных начал русской жизни.
Таким образом, концепция народности, предложенная этим выдающимся русским критиком, остается открытой для дальнейшего исследования- теперь уже на материале литературы начала 21 века.
Библиографический список:
1. Ларина К. Патриотизм [электронный ресурс] // Эхо Москвы.
2. Селезнев Ю. И. Глазами народа: Размышления о народности русской литературы/ – Современник, 1986.
3. Селезнев Ю. И. – «Златая цепь или опыт путешествия к первоистокам народной памяти» /Память созидающая. – Краснодарское книжное издательство, 1987.
4. Скатов Н.Н. «О книге “В мире Достоевского”» /Созидающая память.-Краснодарское книжное издательство, 1987.Ларина К. Патриотизм [электронный ресурс] // Эхо Москвы.
5. Юрий Павлов «Кризис и другие» Сергея Кургиняна. Электронное издание. URL: https://public.wikireading.ru/163194