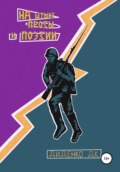Даниил Константинович Диденко
Русский вопрос. Альманах публицистики
В Нагорной проповеди Иисус Христос сказал: «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки».
Эту мысль позже сформулировал Иммануил Кант в своем категорическом императиве – высшем принципе нравственного подхода и уважения к другим.
Прошу заметить, что ещё ни разу в цепочке «человек-уважение-человек» не были упомянуты деньги, как средство к приобретению репутации.
Хотя, пожалуй, исключением из правил можно назвать покупку индульгенций в католической вере, когда каждый, имевший достаточно материальных богатств, мог очистить своё имя перед церковью.
Однако и здесь стоит понимать, что человек, покаявшийся таким образом перед Богом, не становился уважаемым перед людьми, которым был нанесён ущерб – материальный или духовный. Наоборот, это только усугубляло ситуацию в обществе, вызывая глубокие противоречия и коллизию.
Подбираясь всё ближе к современности, нельзя не упомянуть социальное и политическое явление, пришедшее во многом на смену религии в начале XX века по всему миру. Речь идёт об идеологии.
Самым близким для нас примером будет являться Советский Союз и его ленинско-марксистская идеология, которая диктовала гражданам особое понимание мира, ценностей. Не обходила партия стороной и такое понимание как уважение. Стоит вспомнить то несметное множество диафильмов, а также агитплакатов с названиями «уважай старших», «человек человеку друг и товарищ», «не обижай малыша». Казалось бы, идеи, высказанные в них не новы, однако они так далеки от той действительности, царившей в нашей стране буквально 30 лет назад. И опять же, ни слова про конвертацию каких-либо ресурсов в уважение. А для идей социализма деньги – вообще предмет чуждый. Репутацию можно лишь заработать.
С приходом рыночной экономики и нового устройства страны, в котором ни вера, ни идеология не играют никакой роли, на первый план встали деньги.
Люди идут на работу не по душе, а по тому, где больше платят. А когда все хотят денег, то и уважение можно купить. Это лишь очередная выгодная сделка, только люди в таком случае торгуют совестью.
Можно ли купить уважение? Здесь, как в ответах к типичным тестам по психологии, вывод будет таким: скорее да, чем нет. И никакие заповеди не встанут между продавцом и клиентом. В прочем, далеко за этим ходить не надо, нужно лишь взглянуть на действительность, а затем сложить два плюс два…
Русская конечная
Вечер. Кряхтя старым мотором, усталая маршрутка привозит своего последнего на сегодня пассажира в конечную точку маршрута. В таких местах, казалось бы, нет ничего необычного: обветшалые остановки, треснувшие со всех сторон скамьи и бесконечное множество объявлений. Они наклеенных буквально на каждую поверхность, которую только могли найти глаза смекалистого промоутера, зашедшего в здешние края. Листовки на столбах, листовки на крошащихся балясинах старого райцентра, сталинских времен. Одним словом, они повсюду. Предприниматели нашего времени не обошли стороной даже бедные деревья.
Внезапно взор случайного зрителя устремляется в небо. Вот по грозовой дымке пролетает самолёт, направившийся к ближайшему войсковому аэропорту, всколыхнув верхушки покосившихся берёз. Начинает накрапывать дождь, постепенно переходящий в мелкую морось, затягивая осеннее зарево клубами темных туч. Становится настолько холодно и зябко, что единственным выходом остается лишь спрятаться под крышей старой остановки и дожидаться попутки до города. Здесь же любой желающий может ознакомиться с маршрутом общественного транспорта, посмотреть на одиноко стоящие панельные дома и подробнее изучить те самые пёстрые объявления, чтобы скоротать вяло текущее время.
«Продам квартиру», «Кредит», «Помощь наркозависимым», «Быстрые микрозаймы» – вот что гласят кислотных цветов листовки, потрёпанные временем. Пока читаешь их, глубоко в душе становится так одиноко, что уже трудно понять, стал ли виновником меланхоличного настроения внезапный раскат грома, или же причиной является печального вида окружение.
Тьма понемногу сгущается, и единственным источником света, озаряющим остановочный пункт, оказывается тусклый мигающий фонарь. Лужи уже перехлёстывают через бордюр, расплёскиваясь от каждой капли, которая то и дело норовит упасть с дерева и козырька.
В подобного рода места лучше всего попадать именно вечером поздней осени, когда остановка становится конечной как для случайного пассажира, так и для гордо уходящей поры, а, может быть, и даже для человека здешнего, провинциального, если судить по кричащим от боли объявлениям…

Вандышева Алина Вячеславовна
Самобичевание по-русски
Современные реалии таковы: русский человек остался без денег. Средний класс сводит концы с концами, а пенсионеры вместо того, чтобы наслаждаться счастливой и спокойной старостью, вынуждены просить помощи у такого же малообеспеченного населения. Было бы разумно обвинить в этом работу политической элиты, но корень проблемы намного глубже, чем нам кажется на самом деле.
Начну я, пожалуй, со слов Великого классика, идеала русской души, Федора Михайловича Достоевского: «Мешок у страшного большинства несомненно считается теперь за всё лучшее. Против этого опасения, конечно, заспорят. Но ведь фактическое теперешнее преклонение пред мешком у нас не только уже, бесспорно, но, по внезапным размерам своим, и беспримерно. Повторю ещё: силу мешка понимали все у нас и прежде, но никогда еще доселе в России не считали мешок за высшее, что есть на земле». Фёдор Михайлович данным выражением рисует картину взаимосвязи русского человека с «золотым мешком», то есть деньгами.
Столь выраженная акцентуация на новом восприятии денег в народе вполне обоснована, так как вторая половина 19 века ознаменована отменой крепостного права и бурным подъемом экономической деятельности. Русский народ, когда-то закованный в цепи рабства и не имеющий другого источника информации о мире, кроме как религии и народных сказок, не мог являться субъектом экономической деятельности, а значит и вопрос отношения к деньгам не мог стоять в принципе. В качестве доказательства приведу некоторые яркие фрагменты из жизни крестьян до отмены крепостного права, дабы смерить объективность высказывания Достоевского. Читаем у Ключевского: «…Крепостное право задержало рост русского города, успехи городских ремесел и промышленности. Городское население очень туго развивалось после Петра; мы видели, что, по I ревизии, оно составляло менее 3% всего податного населения государства; в начале царствования Екатерины, по III ревизии, – всего 3%, следовательно, его рост в течение почти полустолетия едва заметен. Екатерина много хлопотала о развитии того, что тогда называлось «средним родом людей» – городского, ремесленно-торгового класса. По ее экономическим учебникам это среднее сословие являлось главным проводником народного благосостояния и просвещения. Не замечая готовых элементов этого класса, существовавшего в стране, Екатерина придумывала всевозможные новые элементы, из которых можно было бы построить это сословие; в том числе в состав его предполагалось ввести и все население воспитательных домов. Стремления Екатерины высказываются в переписке ее с парижской знакомой m-me Жоффрен. М-mе Жоффрен очень настаивала, чтобы Екатерина создала третье сословие в России; Екатерина обещала это: «Еще раз, madame, обещаю вам (писала она в 1766 г.) третье сословие ввести; но как же трудно его будет создать!» Но ее усилия были малоуспешны; городское население туго развивалось и в царствование Екатерины.
В начале царствования Николая 1, под влиянием движения 14 декабря 1825 гола, в крестьянском населении распространились слухи о скором освобождении. Чтобы прекратить их, новый император издал манифест, в котором прямо заявил, что в положении крепостных крестьян не будет сделано никакой перемены.
Такое положение народа заканчивается отменой Крепостного права, которое было отмечено Ключевским достаточно емко: «Благодаря реформе общество уравнялось перед законом. Теперь все оно состоит из одинаково свободных граждан, на которых падают одинаковые общественные и государственные повинности.»
Действительно, Достоевский, как квинтэссенция души русского народа, его наиболее выпуклая, яркая часть, выразил крик сожаление об утрачиваемых идеалах русского общества, которыми он сам болел. Впрочем, данный процесс наблюдал, разумеется, не только он. Так, князь Владимир Мещерский писал о буме в железнодорожном строительстве: «Эта железнодорожная вакханалия была курьезом… потому что главными воротилами являлись люди, про которых всякий спрашивал: что общего между ними и железными дорогами? И действительно, никто не мог понять, почему такие люди, как фон Мек, Дервиз, Губонин, Башмаков и проч., и проч., которые не имели… никаких инженерных знаний, брались за концессии, как ни в чем не бывало и в два-три года делались миллионерами… Я помню младшего брата Дервиза, моего товарища, Ивана бедным чинушкою в Сенате, а затем проходит несколько лет, и этот бедный чинушка меня принимает во всем блеске своего железнодорожного величия в роли кесаря Рязанской железной дороги… Ответ, как оказался, весьма простой: концессионеры прибегали к крупным взяткам… и эти-то взятки и были главною причиною крупных и баснословны.»
И писатель Некрасов писал: «Грош у новейших господ выше стыда и закона, ныне тоскует лишь тот, кто не украл миллиона…».
Бердяев же заключает: «В России интересы распределения и уравнения всегда превалировали над интересами производства и творчества».
Достоевский писал свое замечание в 1876 году, отмена же Крепостного права произошла в 1861 году. Действительно, за прошедшие 15 лет, русское общество наводнилось новыми элементами общественных отношений, главными из которых можно считать зарождающееся социалистическое движение – народовольцами, платформой для которых служило учение К. Маркса, и которых Достоевский пророчески дезавуировал в «Бесах», и зерном капиталистических отношений, которые упали на неподготовленную почву, состоявшую из православия и только что отменившегося рабства. Это и привело к социальному взрыву, родившему первое в мире социалистическое государство.
Вывод, который, на мой взгляд, напрашивается сам собой, пусть и с высоты 21 века после опыта, который взяла на себя Россия по строительству социалистического государства, близкого Достоевскому по своим нравственным императивам, но отнюдь не по методам достижения, в одном: любой человек личные интересы будет ставить выше общественных, и не одна идеология не способна замотивировать человека на деятельность также, как желание, естественное желание человека видеть конечную разницу в реализуемой им деятельности между им и своим собратом. В противном случае, страна, в недавнем прошлом выигравшая самую страшную войну в истории, под пятой которой находилось фактически полмира, не стала бы закупать зерно от ненавистного ей капиталистического запада, – что она начала делать с начало 1960-х годов, при условии, что в начале века была наиболее крупным его экспортером, но при другом социальном устройстве. И как сказал У. Черчилль: «Демократия – это плохо, но нет ничего лучшего демократии».