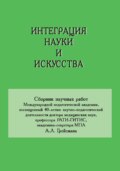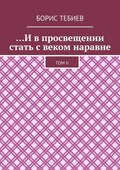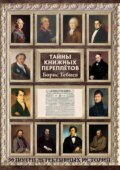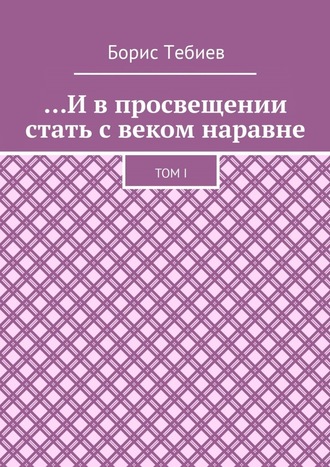
Борис Константинович Тебиев
…И в просвещении стать с веком наравне. Том I
Активный проповедник идей гуманизма, Новиков тонко и деликатно объяснял юным читателям существовавшие в стране порядки, учил их уважать простой народ и ценить труд, неназойливо воспитывал потребности разума и совести. В этом отношении примечателен рассказ «Крестьянское состояние». Его герой – мальчик Феденька не сразу допустил к отцу пришедшего по делам крестьянина Памфила. «Для чего ж ты тотчас не впустил его ко мне? – спросил отец. – И, батюшка! – отвечал Феденька, – он простой мужик». После ухода Памфила, «когда сели обедать, то отец приказал подать себе хлеб и разделил его так, что Феденьке ничего не досталось». На вопрос удивленного мальчика отец отвечал, что старый Памфил не привез муки, и поэтому для него, Феденьки, не хватило хлеба. Этот ответ послужил поводом для нравоучительного вывода: «Добрые люди крестьяне живут в бедности и отправляют тяжкую работу, для того чтобы мы спокойно питались их трудами… Кто презирает крестьянина, тот не достоин питаться хлебом». Придя после обеда на поле, Феденька попросил у Памфила извинения за свой дурной поступок. В заключение рассказа говорилось о том, что отец часто показывал Феденьке крестьянские труды, и мальчик узнал, «сколь полезны сии люди, и научился уважать их состояние».
Один из лучших материалов «Детского чтения» – «Переписка отца с сыном о деревенской жизни», названная В. Г. Белинским «замечательной». Суть ее такова: испорченный домашним городским воспитанием дворянский мальчик попадает по желанию благоразумного, но постоянно занятого делами отца в деревню к дяде-помещику, который воспитывает своих детей по принципам передовой гуманистической педагогики. Двоюродные братья городского барчука рано встают, без посторонней помощи одеваются, едят простую пищу, с увлечением работают в огороде. Городской мальчик сначала иронизирует в письмах к отцу над своими деревенскими родственниками, просится назад в город, однако постепенно он входит во вкус здоровой деревенской жизни, начинает уважительно относиться к труду, чувствовать красоту родной природы.
Журнальные публикации были написаны простым, доступным юному возрасту языком, в котором отсутствовали сложные для детского понимания славянизмы и грамматические конструкции. В этом отношении «Детское чтение» оказало огромное влияние на всю последующую отечественную детскую литературу и журналистику.
Существует предположение, что именно чтение новиковского детского журнала побудило Пушкина к созданию знаменитого стихотворения «Анчар». В одном из номеров «Детского чтения» за 1786 г. в разделе научно-познавательных материалов была опубликована статья «О некотором ядовитом дереве, находящемся на острове Яве в Ост-Индии». Пытливый Пушкин наверняка был знаком с новиковскими детскими изданиями, на которых были воспитаны несколько поколений юных россиян. А вот что писал о влиянии «Детского чтения» Сергей Тимофеевич Аксаков: «В детском уме моем произошел совершенный переворот, и для меня открылся новый мир… Я узнал в рассуждении о громе, что такое молния, воздух, облака; узнал образование дождя и происхождение снега. Многие явления в природе, на которые я смотрел бессмысленно, хотя и с любопытством, получили для меня смысл, значение и стали еще любопытнее. Муравьи, пчелы и особенно бабочки со своими превращениями из яичек в червячка, из червячка в хризалиду и, наконец, из хризалиды в красивую бабочку – овладели моим вниманием и сочувствием; я получил непреодолимое желание все это наблюдать своими глазами».
Пройдет целых шесть десятилетий после выхода в свет первых книжек «Детского чтения», и Виссарион Белинский, делая критический разбор современных ему детских книг и журналов, в сердцах воскликнет: «Бедные дети! Мы были счастливее вас: мы имели „Детское чтение“ Новикова».
В начале ХIХ в. детские журналы в России стали явлением обыденным, но далеко не всегда осененным талантом. Лучшими были журнал дворянского пансиона «Распускающийся цветок», журнал В. Измайлова «Патриот» (1804), журнал М. Невзорова «Друг юношества и всяких лет» (1807—1815), журнал И. Ильина «Друг детей» (1809), «Детский музеум» Г. Ушакова (1815—1829), «Новое детское чтение» С. Глинки (1821—1824). Заметно рос и поток книг, адресованных юным читателям. Круг детского чтения был достаточно широк. На книжных полках сверстников юного Пушкина можно было встретить не только книги Даниэля Дефо, Мигеля Сервантеса, Джонатана Свифта, обладавшие особой привлекательностью и практически с момента своего появления ставшие «книгами на все времена», но и произведения английских сентиментальных поэтов Грэя (1700—1748) и Томсона (1716—1771), поэмы Оссиана и Парни, лирику Ж.-Б. Руссо (1670—1741), фантастические восточные сказки Гамильтона (1646—1720), нравоучительные истории французской детской писательницы Жанлис (1746—1830). Среди наиболее читаемым отечественных авторов был Н. М. Карамзин, родоначальник отечественной художественной литературы для детей и юношества.
ХVIII в. стал, как известно, временем рождения российского общедоступного театра. Однако, вспоминая об этом, мы нередко забываем, что в России тех лет с незначительным временным разрывом родились сразу два театра: взрослый и детский. Последним мы обязаны замечательному русскому просветителю, талантливому мемуаристу и первому в нашем Отечестве ученому-агроному Андрею Тимофеевичу Болотову. В то время он жил в небольшом городке Тульской губернии – Богородицке, где служил управляющим Богородицкой дворцовой волости. Всерьез увлекшись европейской педагогикой, просветительными идеями Н. И. Новикова, Болотов создал здесь пансион для благородных детей и волостное училище. Подраставших сыновей и воспитанников пансиона он неоднократно привозил в Тулу, где в 1777 г. был открыт губернский театр. После посещения театральных спектаклей Болотов, по его словам, стал замечать, что дети «при частых между собой свиданиях декламировали нередко друг перед другом кое-какие затверженные ими из трагедий и других театральных сочинений монологи и речи и друг друга тем утешали». Интерес детей к театру он решил использовать в воспитательных целях, для формирования более ярких и глубоких детских характеров.
Так родилась идея детского театра, премьера которого состоялась 24 ноября 1779 г. Первой пробой стала комедия М. М. Хераскова «Безбожник». Одну из ролей в спектакле играл сам Болотов, остальные-дети разных возрастов. В большой комнате болотовского дома была устроена сцена с кулисами, занавесом, декорациями. Для зрителей – соседних помещиков и их детей – установили скамьи. Музыкальное сопровождение поручили французу-гувернеру. Как и в настоящем театре, премьере спектакля предшествовала серия репетиций, в ходе которых, как вспоминал Болотов, юные актеры «делались час от часу к декламациям и представлению способнейшими».
Отсутствие соответствующего репертуара вынудило Болотова самому взяться за перо. В результате им были написаны и поставлены на театральной сцене первые в России пьесы для детей – «Честохвал» (1779), «Награжденная добродетель» (1781), «Несчастные сироты» (1781). Последняя была издана в типографии Н. И. Новикова. Текст остальных, к сожалению, не сохранился. В 1780—1781 годах спектакли первого российского детского театра ставились в специально оборудованном для этих целей павильоне, вмещавшем до 200 зрителей. Они красочно оформлялись при участии самого Болотова, бывшего к тому же весьма незаурядным художником. В репертуаре театра в годы его расцвета насчитывалось до 20 различных спектаклей. Среди них были драмы и комедии русских и зарубежных авторов: «Необитаемый остров», «Приданое обманом», «Отгадай – не скажу» и другие. Для работы с юными исполнителями был приглашен способный театрал и педагог Кошелев. Детский театр Болотова существенно отличался своей светскостью, возрастом исполнителей, и репертуаром от так называемого «школьного театра», зародившегося в Европе еще в средневековую эпоху и проникшего в Россию в ХVII в.
В последней четверти ХVIII в. детские домашние спектакли стали в дворянских многодетных семьях явлением вполне обычным. Известно о том огромном влиянии, которое имел подобный театр на развитие художественного таланта знаменитого русского поэта Василия Андреевича Жуковского, так же, как и Болотов, уроженца тульских мест. В 1790 г. семилетним ребенком будущий поэтический учитель Пушкина был привезен из белевского имения его отца А. П. Бунина в Тулу, где воспитывался в доме своей сводной старшей сестры и крестной матери Варвары Афанасьевны Юшковой. Этот дом по праву считался одним из культурных центров тогдашней Тулы. Под его гостеприимным кровом на литературно-музыкальные вечера собирался весь цвет местного образованного общества. Здесь читались новинки писателей школы Н. М. Карамзина и И. И. Дмитриева, звучали романсы на стихи модного салонного поэта Ю. А. Нелединского, обсуждались последние театральные постановки. Дети были активными участниками этих вечеров. Они не только прислушивались к интересным разговорам старших, но и сами проявляли немало творческой фантазии. Руководил детскими играми и развлечениями в доме Вася Жуковский.
Под влиянием творческой атмосферы дома в двенадцатилетнем возрасте он пишет свое первое драматическое произведение – трагедию из античной жизни «Камилл, или Освобожденный Рим» и осуществляет ее домашнюю постановку. За первым домашним детским спектаклем следует новый, поставленный по мотивам модного французского идиллического романа Ж.Б. де Сен-Пьера «Поль и Вергиния». Примечательно, что не только Жуковский, но и многие юные обитатели, а точнее – обитательницы, этого провинциального дома (будущий поэт рос преимущественно в женском окружении) стали впоследствии известными всей просвещенной России. Одна из дочерей хозяйки дома Авдотья Елагина (в первом браке Киреевская) не только родила и воспитала для России прекрасных патриотов, признанных идеологов славянофильства братьев Ивана и Петра Киреевских, но и сама являлась создательницей и душой московского литературного салона, который, бывая в Москве, постоянно посещал Пушкин. Ее сестра Анна (в замужестве Зонтаг) посвятила свой талант детской литературе. Ее простые и задушевные повести и сказки, как и переложенная для детей Священная история, пользовались неизменной популярностью у нескольких поколений юных россиян.
Горячим и искренним поклонником театрального действа был и совсем юный Пушкин. Племянник поэта Л. Н. Павлищев приводит со слов своей матери Ольги Сергеевны следующие воспоминания: «Пушкин, забираясь в библиотеку отца, перечитывал французские комедии Мольера и под впечатлением такого чтения сам стал упражняться в писании подобных же комедий, по-французски же. Брат и сестра для представления этих комедий соорудили в детской сцену, причем он был и автором пьес, и актером, а публику изображала она. В числе этих комедий была носившая название «Escamoteur» («Похититель»), сильно не понравившаяся Ольге Сергеевне; она, в качестве публики, освистала этого «Похитителя»…». Это маленькое происшествие дало повод их дяде Василию Львовичу Пушкину написать французское четверостишие, которое по-русски звучало примерно так: «Скажи мне, почему «Похититель» освистан партнером? Увы! Потому, что бедный автор похитил его у Мольера».
Известно, что в доме Пушкиных постоянно шли «благородные» спектакли. И отец, и дядя поэта были страстными театралами-любителями. Пушкин с юных лет, несомненно, имел представление о крепостных театрах (полудомашних и полупубличных) при столичных барских особняках, был знаком с репертуаром московской казенной сценой, ее именами и сюжетами, к которым в зрелые годы обращался в своем драматургическом творчестве. Театральные интересы поэта еще более расширились в лицейский период его жизни. Вместе с друзьями-лицеистами Пушкин был завсегдатаем крепостного театра Варфоломея Толстого в Царском Селе. Увлеченный одной из крепостных актрис, юный поэт посвятил «миловидной жрице Тальи» свои поэтические опыты: «Послание к Наталье» (1814) и «Послание молодой актрисе» (1815).
Магия театра манила и завораживала юные сердца, заставляла их сильнее биться, глубже переживать, острее чувствовать чужую радость и чужую боль. Театр расширял юношеский кругозор, обогащал знанием человеческих характеров и жизненных ситуаций, учил уважительному отношению к старшим, хорошим манерам и правилам приличия. Он учил любить родную землю и ненавидеть тиранию. Он бичевал пороки и восхвалял добродетели. Наиболее отзывчивые и чуткие педагоги пушкинской поры хорошо сознавали воспитательное и образовательное значение театральных спектаклей для детей и юношества, организовывали ученические театральные кружки, проводили обсуждение новых постановок.
На рубеже XVIII—XIX вв. Петербург стал поистине городом науки и просвещения. Средоточием учебных заведений Северной столицы являлся Васильевский остров. Здесь располагались академический университет и гимназия, Сухопутный шляхетский кадетский корпус, Академия художеств, Горное училище. Недалеко отсюда размещались Артиллерийский и инженерный кадетский корпус, а также учебное заведение с несколько странным для современного слуха названием – Корпус чужестранных единоверцев. И о каждом из них можно написать увлекательную книгу!
Но мы остановимся лишь на некоторых учебных заведениях, прежде всего на Сухопутном шляхетском корпусе, который современники часто называли «рыцарской академией». Это учебное заведение, рассчитанное на подготовку 200 дворян к военной службе, было открыто в 1731 г. В корпус принимались дети от 5 до 9 лет. Здесь они должны были провести 12 лет. В течение этого времени они обучались Закону Божию, русской грамоте, началам латыни, французскому и немецкому языкам, истории, географии и математике, в той ее части, которая имела связь с военным делом. Значительное внимание уделялось танцам, фехтованию и верховой езде.
Во многих отношениях уникальным учебным заведением был Корпус чужестранных единоверцев. Он предназначался для обучения и воспитания детей иностранных подданных, исповедовавших православие. Первыми воспитанниками корпуса (первоначально он назывался гимназией) стали около ста мальчиков, набранных по приказу Екатерины II в Греции с согласия родителей незадолго до завершения русско-турецкой войны 1768—1774 гг. В дальнейшем здесь учились воспитанники из Тавриды, с Кавказа, с островов Архипелага, из Турции, Болгарии, Сербии и других мест.
В законодательном акте, датированном 17 апреля 1775 г., подробно излагались цели и задачи корпуса как закрытого специального военно-учебного заведения по подготовке кадров для армии, флота и штатской службы. Здесь же давалось пояснение к названию учебного заведения и к составу воспитанников: «чтоб не только те, которые по случаю бывшей Турецкой войны нам доброхотствовали, но и все одноверцы наши, к воспитанию детей способов лишенные, могли получать всегда надежное от России покровительство». В корпус принимались подростки 12—16 лет. Они изучали арифметику, теоретическую геометрию, алгебру до уравнений четвертой степени, историю и географию, навигацию и астрономию, регулярную и полевую фортификацию, некоторые другие общеобразовательные и специальные дисциплины, а также русский, французский, немецкий и греческий языки. Преподавательскую работу в Корпусе чужестранных единоверцев вели академик Степан Яковлевич Рузумовский (1734—1812) – человек энциклопедических познаний и передовых педагогических принципов, астроном, математик, физик, географ, историк и филолог; философ-просветитель, писатель и переводчик Яков Павлович Козельский (1726—1794) и другие известные деятели русской культуры конца ХVIII – начала ХIХ в. С 1790 по 1796 г. директором корпуса состоял известный археолог и историк граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин (1741—1817), впоследствии президент Академии художеств и обер-прокурор Сената.
Корпус имел прекрасно составленную фундаментальную и учебную библиотеку, свою типографию, выпустившую немало интересных и полезных научных книг и учебных пособий. Среди них «Новая Российская Азбука» (1791), составленная преподавателем корпуса Ефимом Худяковым. Послужной список автора свидетельствовал, что он был выходцем «из солдатских детей», окончил гимназию при Императорской академии наук. В Корпус чужестранных единоверцев был направлен сержантом, в 1795 году получил чин штык-юнкера, преподавал немецкий язык и чистописание. «Азбука» Худякова являлась необычным вариантом подобных изданий, выходивших в России тех лет. Она отличалась широким и разнообразным содержанием. На ее страницах были показаны «вензловые» и «прописные» буквы, объяснялось происхождение и правописание строчных букв, происхождение арабских и римских чисел, склады (слоги), давались английский, немецкий и французский алфавиты. Подобранные в «Азбуке» тексты насыщены нравоучительными высказываниями, имевшими несомненное воздействие на учащихся. «Азбука» отличалась высоким полиграфическим исполнением. Каждый ее лист был гравирован изящными росчерками, не повторявшими друг друга.
В первопрестольной столице – Москве наряду с императорским университетом одним из самых ярких учебных заведений был, безусловно, университетский Благородный пансион, основанный в 1779 г. куратором университета М. М. Херасковым. Пансион пользовался известной автономией. Главной его задачей являлась подготовка дворянских детей к гражданской службе по юридической части или к дальнейшему обучению в университете. В соответствии с этим и строился учебный план пансиона, который был весьма насыщенным разнообразными учебными предметами. В пансионе изучались Закон Божий и Священная история, логика и нравственная философия, русский язык и словесность, математика, опытная физика, механика, естественная история, география (математическая, политическая, всеобщая и российская), российская и всемирная история древности, мифология. В учебном плане предусматривалось также изучение артиллерийских наук, фортификации, архитектуры, государственного хозяйства, естественного и римского права, российского законоведения. Большое внимание уделялось занятиям музыкой, рисованием, живописью, танцами, а также урокам фехтования и верховой езды, военной подготовке. С 1783 г. пансион располагался в специально купленном для него здании на углу Тверской и Газетного переулка, на месте которого впоследствии был построен московский Центральный телеграф. Здание пансиона имело форму большого каре с внутренним двором и садом.
В пансион принимались дети 9—14 лет. Срок обучения продолжался шесть лет. Для многих воспитанников пансиона это была поистине незабываемая пора. Вся атмосфера учебного заведения была пронизана духом творчества, свободомыслия. Здесь никто не чувствовал себя одиноким, обойденным вниманием старших и товарищей по учебе, каждый мог проявить и развить природный талант. Многие занятия проходили в форме деловых игр. Так, например, российское практическое законоискусство изучалось пансионерами как бы в процессе прохождения ими действительной службы в каком-либо государственном департаменте. Пансионерам доводилось побывать во всех возможных чинах и званиях – от простого писаря до председателя. Из архивов присутственных мест в учебные аудитории доставлялись гражданские и уголовные дела. Между учениками распределялись роли. Одни из них выступали в качестве истцов, ответчиков, свидетелей, другие играли роли протоколистов, секретарей и членов суда, третьи были стряпчими и прокурорами. Урок, организованный подобным образом, был не только интересным и полезным, но и запоминающимся, эмоциональным, максимально приближенным к реальной жизни. Впоследствии этот опыт получил прописку в Царскосельском лицее и других учебных заведениях, готовивших молодежь к государственной службе.
Своего расцвета университетский Благородный пансион достиг во времена, когда во главе его стоял блистательный педагог и организатор профессор Московского университета Антон Антонович Прокопович-Антонский. Назначенный руководителем пансиона в 1791 г., он посвятил ему более тридцати лет своей жизни. Воспитанниками пансиона в эти годы были И. П. Пнин, А. С. Грибоедов, В. А. Жуковский, многие будущие герои войны 1812 г., декабристы. Позднее здесь учились М. Ю. Лермонтов, В. Ф. Одоевский и другие творцы отечественной культуры, деятели науки и просвещения.
Воспитанник университетского Благородного пансиона кануна Отечественной войны 1812 г. поэт М. А. Дмитриев в полной скорбной печали элегии «Проданный дом» (1843), посвященной реальному факту продажи здания пансиона, вспоминая годы учебы в нем, писал:
В те дни, когда добро и знанья
Ценились выше серебра,
Здесь было место воспитанья,
Был дом науки и добра!
И все мы, сверстники младые,
Мы спели к будущему там,
И эти стены, нам святые,
Второй отчизной были нам.
Отсюда вышли поколенья,
Отцы и дети! – Все мы в нем
Млеком питались просвещенья
И твердым истины плодом…
Педагогическое кредо Прокопович-Антонского – воспитание души, способной к доброму и прекрасному. Его отличало редкостное умение соединять «строгость власти с добродушием и правдой». Ненавязчиво, но твердо он добивался от воспитанников Благородного пансиона, среди которых встречалось и немало избалованных семейным воспитанием детей и подростков, «спокойного выполнения долга». «Малейшее доброе слово Антонского, малейший знак его благоволения, – вспоминал много лет спустя один из воспитанников пансиона М. А. Дмитриев, – были для нас великою наградою и знаком хорошего признания в его мнении». В своих педагогических трактатах «О начале и успехах наук и в особенности естественной истории» (1791), «О воспитании» (1798) и других Прокопович-Антонский рассматривал воспитание как важнейшее средство совершенствования человека, его умственного и физического развития. Назначение воспитания он видел в подготовке для общества полезных членов. Большое значение педагог придавал развитию творческой индивидуальности своих воспитанников, помогая каждому из них раскрыть и осознать суть своей натуры, обрести силу Личности.
Возглавляя одновременно с работой в Благородном пансионе кафедру натуральной истории Московского университета, Прокопович-Антонский стремился активно приобщать воспитанников пансиона к современным научным знаниям, превратить все учебные предметы, в том числе математику и естествознание, которые преподавал сам, в средство формирования просвещенных и нравственных людей. Он учил пансионеров самостоятельно мыслить, наблюдать, сравнивать, отстаивать собственную точку зрения; весь учебный материал, как правило, весьма тщательно отбирался, задания выдавались в соответствии с уровнем развития учащихся.
С неменьшим энтузиазмом призывал Прокопович-Антонский своих воспитанников к изучению отечественного языка. «Ошибаются те, – говорил он воспитанникам, – кои думают, что изучение природного своего языка не великого труда стоит. Знать его основательно, знать со всеми тонкостями, чувствовать всю силу его, красоту, важность уметь говорить и писать на нем красиво, сильно и выразительно, по приличию материи, времени и места – все это составляет труд, едва преодолимый. На приобретение такого знания должно употреблять все силы, должно пожертвовать немалой частью жизни».
Педагогические приемы Прокоповича-Антонского отличались благородной утонченностью, благодаря чему в пансионе царили культ вдохновения и религия добра. Предметом особой гордости педагогов и воспитанников были литературные кружки и общества, в которых прививалось изящное эстетическое чутье и одновременно шел активный процесс формирования людей чести и сильной действующей воли, способных преодолевать трудные обстоятельства жизни. В жарких юношеских спорах о литературе, философии, истории пансионеры приобщались к сокровищницам мировой и национальной культуры, вырабатывали безукоризненный литературный вкус, оттачивали умение полемизировать, защищать собственную точку зрения, широко и многопланово смотреть на окружающий мир. Наибольшую известность получило «Собрание воспитанников университетского Благородного пансиона», учрежденное в 1799 г. под председательством Василия Жуковского.
Воспитанник университетского Благородного пансиона, а впоследствии профессор Московского университета по кафедре красноречия и поэзии А. Ф. Мерзляков, вспоминая о «невозвратимых временах» своей пансионерской и студенческой жизни, писал: «Пламенная любовь к литературе, простые, искренние расположения друг к другу, свобода, сладостная беспечность, любезная мечтательность, взаимное доверие, любовь к человечеству, ко всему изящному, стремительность к добру, невинная, охотная, бескорыстная, даже исступительная: вот что было жизнею наших собраний, наших разговоров, наших действий!.. Мы строго критиковали друг друга письменно и словесно, разбирали знаменитейших писателей, которых почитали образцами своими, рассуждали почти о всех важнейших для человечества предметах, спорили много и шумно за столом ученым, и расходились добрыми друзьями по домам» [14].
Постижение высоких нравственных истин воспитанниками университетского Благородного пансиона осуществлялось на примерах биографий выдающихся деятелей прошлого – писателей, ученых, полководцев. Один из воспитанников пансиона С. М. Соковнин, описывая в ученическом сочинении жизненный путь Александра Македонского, выделял, например, такие штрихи биографии великого полководца: добродетель и мужество делали Александра героем, счастье – уничижало его, гордость делала его жестоким, гнев – убийцей друга, развращение – невольником и вскоре жертвою своих страстей. Исследование добродетелей и пороков позволяло воспитанникам пансиона правильно выбирать собственную жизненную линию, руководствоваться высокими моральными принципами.
Весь внутренний строй пансионской жизни, как и педагогика тех лет, был пронизан духом патриотизма. Патриотизм был ведущей темой, которая звучала в сочинениях учеников, их стихотворных произведениях, в речах на торжественных пансионских актах. На торжественном акте в год рождения А. С. Пушкина, например, один из воспитанников прочитал собравшимся «Речь о любви к Отечеству». «Итак, что есть любовь к Отечеству? – спрашивал юный автор и, отвечая на свой вопрос, убежденно говорил: – Она есть любовь к порядку, к устройству, к законам, к добродетели, к общему и собственному благу. Когда человек-гражданин, достигнув зрелости нравственного и телесного своего возраста, начинает чувствовать себя во всей полноте, тогда Отечество приемлет его и, вознеся глас свой, вещает: «Сын мой!.. Чем ты будешь мне полезен?». Призванный в храм Фемидин, да судить про людей, вняв гласу Отечества, говорит: «Зерцало истины будет озарять все мысли и дела мои. Злодейство не восторжествует; невинность не постраждет». Без трепета садится он на место свое, и судилище его есть храм, где не приемлется другого всесожжения, кроме приносимого невинностью, и где внятен глас только правоты. Так исполняет обязанности свои сын Отечества, коему вверяет оно весы правды! Так свидетельствует он любовь свою к нему, приверженность законам и общему благу!.. Вступивший на поприще наук, ответствует Отечеству: «Я посвящу жизнь свою исследованию истины; я дерзну тебе говорить ее…» [15].
Добрая слава о Благородном университетском пансионе (позднее он стал называться Московским дворянским институтом) сохранялась на протяжении многих последующих десятилетий. Учившийся здесь в 1836—1838 гг. М. Е. Салтыков-Щедрин, вспоминая то время, писал: «Публичное воспитание я начал в Москве, в специально-дворянском заведении, задача которого состояла преимущественно в подготовке „питомцев славы“. Заведение, впрочем, имело хорошие традиции и пользовалось отличной репутацией. Во главе его почти всегда стояли… люди, обладавшие здравым смыслом и человечностью».
Нельзя не сказать добрых слов и о разночинной гимназии, действовавшей при Московском университете с момента его создания. В 1787 г. здесь обучались 1010 гимназистов (студентов в университете было всего 80), а в 1800—1803 гг. – 3300 человек. После открытия в 1779 г. университетского Благородного пансиона состав гимназии стал довольно демократичным. Здесь учились дети различных сословий, кроме крепостных. По своей структуре гимназия делилась на три последовательные «школы» – русскую, латинскую и новых европейских языков. Этот замысел принадлежал еще М. В. Ломоносову, создателю Московского университета.
В русской школе учащиеся изучали чтение и письмо на русском языке и латыни, элементарные основы грамматики. В нижнем классе латинской школы продолжалось изучение русского и латинского языков. Серьезное внимание здесь уделялось переводам с латинского языка на русский и с русского на латинский. Кроме того, в программу обучения входили чистописание и четыре действия арифметики. В среднем классе латинской школы изучались русский язык и латинский синтаксис, продолжались занятия переводами, начиналось изучение греческого языка и российского стихосложения, проходились дроби, геометрия и алгебра. В высшем классе наряду с изучением латинского и греческого языков изучались российское стихосложение и риторика, арифметика, геометрия и алгебра. Здесь начиналось изучение античной литературы, географии, всеобщей истории и философии, одной из составных частей которой являлась физика. Факультативно гимназисты посещали занятия по музыке и пению.
Во главе университетской гимназии стояли ректор и инспектор, назначавшиеся из числа университетских профессоров. В разное время гимназию возглавляли такие известные ученые и педагоги, как А. А. Барсов, Х. А. Чеботарев, П. И. Страхов. Примечателен и состав преподавателей, среди которых было немало университетских профессоров. Из числа лучших учеников учителя гимназии подбирали себе помощников – аудиторов, которые проверяли выполнение домашних заданий, следили за тем, кто из учащихся отстает и нуждается в помощи, занимались с отстающими товарищами. С 1768 г. была введена урочная форма проведения занятий. При гимназии действовала библиотека, книжный фонд которой постоянно пополнялся педагогической и методической литературой, лучшими произведениями отечественных и зарубежных авторов. Одним из первых учебников для всех классов являлась книга Яна Амоса Коменского «Мир чувственных вещей в картинках». Книга была специально отпечатана для гимназии в университетской типографии тиражом 400 экземпляров. Затем последовало ее новое издание.
Серьезное внимание в гимназии уделялось воспитательной работе с учащимися, которая осуществлялась на основе «Регламента университетской гимназии», составленного М. В. Ломоносовым. Согласно «Регламенту» учителя были обязаны воспитывать своих питомцев на положительных примерах, относиться к ним гуманно и доброжелательно. Распространенные в педагогической практике многих европейских стран розги и карцер разрешалось применять лишь в исключительных случаях, во всех же остальных следовало ограничиваться «словесным увещанием».