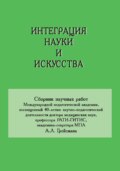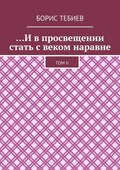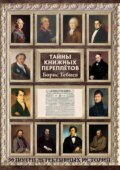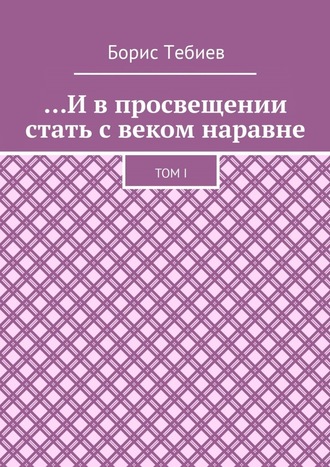
Борис Константинович Тебиев
…И в просвещении стать с веком наравне. Том I
Дореволюционным исследователям принадлежит заслуга в определении решающей роли общественности, демократических институтов в подъеме культурного уровня народа. Высоко оценивалась земская деятельность в области образования, частная благотворительность, усилия рабочих просветительных организаций.
С победой Октябрьской революции и утверждением в стране вульгарно-социалистической идеологии плюрализм в оценке историко-педагогического процесса уступает место одностороннему классовому подходу. В работах Г. Е. Жураковского, Е. Н. Медынского, И. Ф. Свадковского, Г. Г. Шахвердова [6]) проявляется негативное отношение не только к школьной политике правительства, но и к бывшим союзникам пролетарской демократии по общественно-педагогическому движению. В 1920-1930-е гг. активно распространяется мысль о том, что революционный пролетариат и большевистская партия выступали единственными защитниками права трудящихся на образование, что вся просветительная деятельность либералов, а также не примыкавших к пролетарскому лагерю демократов была враждебна интересам народа, направлена на затушевывание социальных противоречий и на пособничество самодержавным порядкам. За партией и ее вождями признавалась исключительная роль в развитии социалистической педагогики – «высшего достижения мировой педагогической мысли». Отмежевание от позитивных оценок общедемократических (и тем более либеральных) движений становится непременным атрибутом историко-педагогических работ, критерием лояльности исследователей новому режиму.
В обстановке массового политического террора 1930—40-х гг., особенно с появлением сталинского «Краткого курса истории ВКП (б)» серьезное изучение истории отечественной школы и педагогики конца XIX – начала XX в. становится практически невозможным. Наблюдается резкий отход серьезных авторов от интересующей нас проблематики, обращение историков преимущественно к историческим сюжетам, которые в меньшей мере подвергались профилактической обработке идеологов-сталинистов. Проведенный Э. Д. Днепровым анализ публикаций по истории русской школы показывает, что если в 1918—1929 гг. было опубликовано 38 таких работ, то в 1930— 1939 гг. – только 12, в 1940—1949 гг. – 23 [7].
Прекратив на многие годы поиск генерирующих факторов развития школы и педагогики, исследователи сосредоточили внимание на частных проблемах, региональной тематике, на изучении биографий и творческого наследия видных педагогов. Были достигнуты известные успехи. Обращают на себя внимание работы А. Г. Вигдорова, Ш. И. Ганелина, Н. А. Константинова, В. Я. Струминского, Ф. Ф. Королева, К. И. Львова, А. Ф. Эфирова [8]. Построенные на обширном фактическом материале, они не только дополняли друг друга, но и в известной мере компенсировали отсутствие обобщающих историко-педагогичес-ких трудов вопреки спускавшимся установкам о том, что все дореволюционное является плохим и чуждым, раскрывали богатство и своеобразие прошлого педагогического опыта.
К сожалению, ни смерть И. В. Сталина, ни разоблачение на XX съезде КПСС идеологии и практики культа личности не привели к десталинизации историко-педагогических исследований. Ущербная идеология оказалась настолько живучей, что потребовалось более трех десятилетий для того, чтобы начался процесс общественного самоочищения. Подавляющее большинство историко-педагогических работ, опубликованных с середины 1950-х гг. и до конца 1980-х гг. и посвященных периоду капиталистического развития России, сохраняло на себе отпечаток сложившихся в сталинскую эпоху стереотипов. Преобладали работы, освещавшие просветительскую деятельность большевиков, участие учителей, учащихся и студенческой молодежи в революционном движении (свыше 20% общего количества публикаций). Многие работы указанного периода дублировали друг друга, носили поверхностный характер. «Классовый подход» к оценке историко-педагогических явлений, оставаясь преобладающим, уводил исследователей от изучения глубинных процессов, происходивших в сфере отечественного образования интересующего нас исторического периода.
Работ, приближавших читателя к научному пониманию закономерностей развития отечественной системы образования, выходивших за узкие рамки классового анализа историко-социальных реальностей было мало. К числу таких исследований можно отнести коллективные монографии «Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Вторая половина XIX в.», «Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Конец XIX – начало ХХ в.» [9] и «Очерки истории профессионально-технического образования в СССР» (дореволюционный раздел) [10], работы С. Ф. Егорова [11], А. Е. Иванова [12], М. В. Михайловой [13], А. В. Ососкова [14] и некоторых других авторов. Становление современного этапа в развитии исследований по истории российской школы и педагогики конца XIX – начала XX в. предполагает не только критическое переосмысление отечественной историографии вопроса, но и обращение к трудам зарубежных исследователей, интерес которых к педагогическому опыту России никогда не ослабевал. Из многообразия зарубежных исследований выделим работы Й. Пшенака (Чехословакия), Т. Д. Регера (Канада), Д. Л. Рэнсела, Б. Эклофа (США), Т. Цукамото (Япония). Характерной чертой указанных исследований является высокая оценка общественно-просветительской деятельности российской интеллигенции, ее подвижничества, приверженности демократическим идеалам, критический анализ школьной политики правительства, стремившегося воспитывать в массах почитание власти, должности, иерархии и социальную инертность [15].
Несмотря на наличие определенного количества работ отечественных и зарубежных авторов, затрагивающих отдельные вопросы правительственной политики в области образования и содержащих оценки общественно-педагогической деятельности, данная научная проблема остается недостаточно разработанной. За пределами внимания исследователей остались такие важные для выявления особенностей развития народного образования в досоветской России, вопросы как характер и социальная направленность школьной политики самодержавного государства, механизм формирования этой политики, ее связь с экономическими и социальными проблемами общественного развития, конкретные результаты. Не в полной мере раскрыт феномен общественно-педагогического движения, его состав, движущие силы, не до конца выяснены последствия общественной деятельности в сфере образования. Отсутствие целостной научной трактовки государственной и альтернативной (общественной) школьной политики затрудняет объективный анализ имевших место противоречий в развитии системы образования, путей и способов их разрешения.
Наряду с перечисленными факторами, представляющими научный интерес, для современной системы образования актуальны знание конкретного исторического опыта взаимовлияния школы и общества, представление о генезисе прогрессивных педагогических идей, механизмах социального управления в сфере образования. Большой научный и практический интерес приобретают ныне вопросы региональной школьной политики, эффективно решавшиеся в дореволюционные годы, частное предпринимательство и благотворительность, конфликтологические аспекты школьной жизни.
Настоящее исследование базируется на разнообразных источниках. Среди них законодательные акты и правительственные постановления, материалы Государственной думы и Государственного совета, школьная статистика, документы политических партий и общественных организаций, стенографические отчеты всероссийских и региональных педагогических съездов и съездов по народному образованию, мемуарная и эпистолярная литература. Обширный банк документальных данных получен на основе контент-анализа центральной и периферийной периодической печати, в ходе которого выявлено и систематизировано свыше тысячи документов, характеризовавших отношение различных социальных сил к проблемам народного образования. Важными источниками исследования являются труды видных отечественных и зарубежных педагогов и психологов, педагогическая публицистика.
В монографии использованы документы Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Российского государственного исторического архива в Санкт-Петербурге (РГИА), Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории (РЦХИДНИ), Научного архива Российской академии образования (НА РАО), Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА) и других архивных хранилищ.
Многие из выявленных документов впервые вводятся в научный оборот. В первую очередь это касается таких нетрадиционных для историков педагогики информационных носителей, как документы охранительных органов самодержавия. В фондах Особого отдела Департамента полиции Министерства внутренних дел, местных жандармских управлений отложились материалы, дающие конкретное представление о составе участников и характере общественно-педагогического движения, уточняющие даты возникновения и закрытия, обстоятельства деятельности просветительных и учительских обществ и организаций, отражающие нюансы межпартийной борьбы вокруг проблем народного образования. Обращение к этим источникам позволяет более тщательно исследовать социальную природу педагогических явлений, рычаги и каналы общественного воздействия на школьную правительственную политику, способствует рассмотрению образования как общественного феномена, тесно связанного с интересами, потребностями и представлениями различных социальных слоев.
Важным подспорьем в данном исследовании послужили работы российских историков (А. Я. Аврех, М. Я. Гефтер, В. С. Дякин, П. А. Зайончковский, О. Н. Знаменский, П. Н. Зырянов, А. Е. Иванов, А. П. Корелин, М. К. Касвинов, В. Р. Лейкина-Свирская, М. Н. Никольский, Н. М. Пирумова, Ю. Б. Соловьев, А. Д. Степанский, А. В. Ушаков, К. Ф. Шацилло, Л. Е. Шепелев, Г. И. Щетинина), коллективные монографии по истории непролетарских партий в России и межпартийной борьбы, материалы дискуссий, посвященных перестройке в отечественной исторической науке.
Глава 1
От просвещенной монархии к монархическому просвещению
Спрос на образование и его состояние на рубеже XIX – XX вв. Социальные корни школьной политики самодержавия. К. П. Победоносцев и школа. Школьный альянс самодержавия и православия. Школа как орудие русификации. Кризис элитарного образования и попытки его правительственной реформации. Учебное ведомство и Министерство внутренних дел. Государственная политика в области внешкольного образования
К концу XIX века развитие капитализма в России достигло значительных успехов. Благодаря в основном завершившемуся к 1890-м гг. промышленному перевороту экономическая жизнь страны обрела устойчивую динамику. Наряду с развитием старых, традиционных отраслей промышленности возникли новые – угольная, нефтедобывающая, химическая, машиностроительная. Широкий размах получило железнодорожное строительство. Заметными были успехи и в сельском хозяйстве. За первые тридцать пореформенных лет среднегодовой сбор хлеба в стране увеличился с 2 до 3,3 млрд пудов, что значительно опережало темпы роста потребления, способствовало превращению России в крупнейшего экспортера товарного зерна.
В страну активно хлынул зарубежный капитал. На рубеже веков она обрела новую отраслевую структуру, схожую с той, которую имели ведущие страны мира в первые десятилетия своего активного индустриального развития. Периодически обновлялась материально-техническая база промышленности, создавались новые банки и акционерные общества, менялось экономическое поведение предпринимателей, совершенствовались производственные технологии и методы хозяйственного управления.
Модернизация страны требовала грамотного населения, пристального внимания государства и общества к проблемам народного образования, нуждам школы. Благодаря героизму общественности, неутомимой деятельности земств и городского самоуправления в 60-80-е гг. образование в стране было сдвинуто с мертвой точки. Постоянно конфликтуя с правительством как по мелочам, так и по вопросам сугубо принципиальным, общественные силы России заложили основы общедоступной народной школы. Немало усилий было положено для популяризации в народе роли и значения научного знания, для развития частной и общественной инициативы в школьном строительстве.
Однако проделанной работы было явно недостаточно. Развитие отечественной промышленности во все более широких масштабах требовало более динамичного расширения системы образования для подготовки квалифицированных рабочих, которые могли бы успешно выполнять новые, более сложные виды деятельности. В неменьшей степени России были нужны грамотные инженеры и техники, врачи и учителя, адвокаты и коммерсанты, агрономы и сельские хозяева.
В 1896 г., по сведениям Министерства народного просвещения, в Европейской России насчитывалось 78,6 тыс. школ, в которых обучалось 3,8 млн учащихся, в том числе 2,9 млн мальчиков и 831 тыс. девочек [1]. При этом из мальчиков школьного возраста в начальную школу попадал только каждый пятый, из девочек – лишь каждая пятнадцатая.
Неприглядную картину выявила проходившая 28 января 1897 г. первая всеобщая перепись населения России, результаты которой царское правительство пыталось умалчивать в течение восьми лет. Из 125 640 тыс. жителей страны, охваченных переписью, грамотных оказалось лишь 21,1%, в том числе среди мужчин 29,3%, среди женщин – 13,1%. Если в городской местности уровень грамотности был равен 45,3%, то в селах и деревнях он составлял всего 17,4% [2]. Почти сплошь неграмотным было население южных окраин государства. В Средней Азии, например, грамотность среди коренного населения составляла всего 2,6% [3]. По данным переписи, с образованием выше начального в стране насчитывалось всего 1,3 млн человек, или 1,1% населения [4].
Неграмотность как массовый феномен стояла на пути экономического и социального прогресса. «Как дойдет до нашего земледельца и сельского промышленника идея о каком-либо улучшении, когда ему недоступно основное орудие распространения идей – грамота? – писал известный экономист А. И. Чупров. – Погрязший в вековую рутину земледелец рабски подчиняется условиям окружающей обстановки и равнодушно смотрит, как из года в год ухудшается жатва на его земле, уходят из рук привычные заработки, понижаются цены производимых им изделий. Ему даже в голову не приходит, что иногда в нескольких шагах от него находится новое выгодное применение труда, что незначительное улучшение в устройстве плуга или в обработке парового поля может наполовину увеличить урожай и т.д.» [5].
Россия значительно отставала от капиталистических стран Западной Европы и США по числу кадров научных работников, дипломированных инженеров, техников, врачей, учителей, агрономов. Так, из 16469 управляющих и мастеров, работавших в 1894 г. на промышленных предприятиях Европейской части России, лица со специальным техническим образованием составляли всего 4,9% [6].
Удельный вес расходов на народное образование как в валовом национальном продукте, так и в государственном бюджете страны был значительно ниже, чем в подавляющем большинстве капиталистических государств. Доля расходов на народное образование в России в конце 1890-х гг. составляла 2,03% государственного бюджета, в том числе на начальное образование – 0,7% [7]. В среднем на одного жителя России расходы на народное образование не превышали 18—19 коп., в то время как в Соединенных Штатах Америки они составляли 4 руб. 85 коп., в Англии – 3 руб., во Франции – около 2 руб. Красноречив и такой показатель, как расходы государства и общества на одного ученика. В школах Англии и США они составляли около 20 руб. в год, Франции – около 10 руб., России – 5 руб. 80 коп. [8].
Ни в одной из европейских стран второй половины XIX в. не было столь резкого разрыва в культурном облике элиты и масс, ни в одной из них общественная просветительская инициатива не наталкивалась на столь упорное сопротивление высших эшелонов власти.
В чем же причины этого явления? Неужели люди, стоявшие у руля одного из крупнейших государств мира, страны с традиционно высокой духовностью и культурой, были столь недальновидными и наивными, чтобы не осознать складывавшейся критической ситуации? Для правильного ответа на поставленный вопрос необходимо более четко представить себе сложившуюся в России ситуацию, учесть интересы различных социальных групп, которые не только не совпадали, но и носили подчас диаметрально противоположный, в известной мере, антагонистический характер.
Прежде всего, следует иметь в виду, что с момента либерализации внутреннего строя, ставшей возможной благодаря реформам 1860—1870-х гг., между государством и общественными силами начинается непрерывное соревнование за приоритет в отстаивании общенациональных интересов. Взаимные упреки в некомпетентности, устная и печатная полемика между правящими кругами и конструктивной оппозицией – явление нормальное и прогрессивное для любого развивающегося государственного организма – в России отягощались особенностями монархического характера власти. Самодержавие по инерции не желало утрачивать позиции в ведущих областях жизни. Общество, получив известную свободу в выражении собственного взгляда на вещи, не желало слепо следовать во всем самодержавной власти, в том числе и ее установкам в области образования.
Кроме того, в последней трети XIX в., в условиях бурного развития капитализма, когда из-под ног самодержавия стала стремительно уходить привычная для него почва, вдруг со всей очевидностью обнаружилось, что именно система образования может стать тем спасительным якорем, который способен если не полностью, то, по крайней мере, в весьма существенных масштабах сохранить его позиции в стремительном водовороте новых социально-экономических реальностей.
Была у России и еще одна существенная особенность: масло в огонь политических страстей здесь постоянно подливали революционные элементы, и в первую очередь те, кто исповедовал доктрину индивидуального террора, кто прямо или косвенно призывал Русь к топору. В силу своей специфической ментальности российское общество сочувствовало революционерам, как сочувствовало оно пьяницам, юродивым, бродягам и прочим, рожденным, как говорили в народе, «не от мира сего». Правительство же боялось революционного террора и ничтоже сумняшеся перекладывало вину за него на общество и его образовательно-воспитательные институты. Любой террористический акт, направленный против верховной власти и ее представителей, вызывал незамедлительную и порой весьма суровую реакцию со стороны правительственных кругов, служил неизменным поводом к ограничению влияния передовой общественности на жизнь страны.
Царь-реформатор Александр II был последним российским императором, которого можно было бы назвать просвещенным монархом. Его убийство революционерами 1 марта 1881 г. не только отодвинуло на долгие годы и без того недостаточно уверенный (в силу сопротивления консервативной части дворянства) процесс либерализации общественных отношений, возможность осуществления уже подготовленного в общих чертах проекта российской Конституции, но и послужило сигналом к контрнаступлению правительственной реакции по всему фронту.
Сфера народного образования стала при этом одним из первых объектов правительственной экзекуции. Наиболее существенный удар был направлен против земской народной школы, и без того не дававшей покоя консерваторам и ретроградам все пореформенные годы.
Уже весной в печати появились сообщения о том, что в правительственных кругах разрабатывается «важная мера в отношении народного образования». Раскрывая содержание этой меры, газета «Новости» (1881 г., №93) сообщала о поручении Совета министров обер-прокурору Святейшего синода совместно с другими заинтересованными ведомствами «представить, в установленном порядке, ближайшие соображения о расширении круга деятельности духовенства на поприще народного образования, с целью лучшей организации надзора за начальными училищами различных ведомств, а также, косвенно, в видах улучшения крайне бедственного в материальном отношении положения духовенства, особенно сельского».
Мотивируя указанное поручение, газета писала: «При существующем ныне порядке вещей наше духовенство стоит в стороне от начальных народных училищ, подчиненных надзору училищных советов и окружных инспекторов. Что же касается до состоящих в распоряжении духовенства церковноприходских школ, то они находятся в упадке. До 1874 г. число их доходило до 18 000; они содержались на церковные средства и заключали в себе существенные условия прочного успеха. С изданием же положения 1874 г. о начальных народных училищах большая часть церковноприходских школ перешла в ведение и на содержание земства и Министерства народного просвещения, так что ныне остается лишь около 4000 школ, содержимых на церковные средства. Между тем из сопоставления результатов деятельности церковноприходских школ и народных училищ видно, что первые представляют собой в некоторых отношениях более гарантий для правильного образования, чем последние».
Путаный и противоречивый характер сообщения «Новостей» не вызывал сомнений относительно скоропалительности и непродуманности правительственного поручения, продиктованного явно не нуждами школы и даже не «бедственным» положением сельского духовенства, а соображениями исключительно политического характера. Подтверждением этого служило и то обстоятельство, что более года печать не давала по данному вопросу никаких дополнительных разъяснений. Окончательную ясность внесли «Московские ведомости», редактировавшиеся известным публицистом и идеологом монархизма М. Н. Катковым. В 238-ом номере газеты за 1882 г. была опубликована редакционная статья, подробно излагавшая правительственную программу вытеснения общественных земских школ прогосударственными церковноприходскими.
«Предоставление сельских школ духовенству, – писала газета, – есть самое простое, естественное и правильное разрешение великой задачи начального народного образования. В России числится свыше 40000 церквей и монастырей и при них состоит священнослужителей (иереев и дьяконов), окончивших курс в духовных семинариях, до 70000 лиц. Таким образом правительство может сразу открыть десятки тысяч народных школ и поставить над ними десятки тысяч вполне готовых учителей, которые, конечно, будут в состоянии обучить деревенских детей Закону Божию, грамоте, письму и счету, и которые не отучат, но приучат их к церкви».
Противопоставляя церковноприходскую школу земской, газета характеризовала последнюю в самых уничижительных выражениях. «Вот уже восемнадцать лет, – отмечали «Московские ведомости», – как вольно практикующие деятели хозяйничают в народных «земских» школах, объясняя ребятишкам по книжкам барона Корфа «душевные качества свиньи, лягушки и пиявки», преподавая им всякий вздор под громким названием мироведения и надмевая их омерзительного свойства плебейским аристократизмом. В этих школах задают тон полуграмотные верхогляды, просидевшие после сохи три года в так называемых учительских семинариях и трактующие свысока священника, приходящего в школу для преподавания Закона Божия, упрекая его в незнании «новейших методов». «А знаете ли вы, – продолжала далее газета, – сколько в школах барона Корфа отведено времени для преподавания Закона Божия? Из 720 годовых учебных часов, посвященных по большей части приобретению сведений, якобы полезных, в первом году обучения отведено на Закон Божий около 8 часов (в год!), во втором – около 15, в третьем – около 30!». В одном из последующих номеров газеты («Московские ведомости». 1882. №255) давалось краткое резюме приведенной выше публикации: «Устройство церковноприходских школ положило бы конец системе народного развращения».
Характер и тон весьма близкого правительству печатного органа недвусмысленно свидетельствовал о том, что в школьном строительстве в России наступает новая и, увы, далеко не светлая полоса. Нетрудно было догадаться и о том, кто стоит за публикациями в «Московских ведомостях». За каждой саркастической фразой, за каждым язвительным оборотом отчетливо проглядывались ослиные уши главного идеолога правительственной реакции 1880-х гг., обер-прокурора Святейшего синода Константина Петровича Победоносцева (1827—1907). Это о нем, злом гении России, писал впоследствии, вспоминая «дальние, глухие» 80-е годы, поэт А. А. Блок. Это по его поводу писались ходившие по рукам эпиграммы, знакомые всей просвещенной России как «Отче наш», в том числе и такая:
Победоносцев для Синода,
Обедоносцев при дворе,
Он Бедоносцев для народа,
Доносцев – просто при царе.
Многие современники не верили, что этот одержимый властолюбием тщедушный человек в круглых очках с холодным пронизывающим взглядом когда-то, в конце 1850-х, был не только отменным либералом, но и корреспондентом опального А. И. Герцена. Впоследствии, сделав неплохую научную (профессор римского права) и блестящую придворную (обер-прокурор Синода, «серый кардинал» при Александре III и Николае II) карьеру, Победоносцев не только изменил идеалам молодости, но и пытался изменить идеалы демократической России, законсервировать под благовидным предлогом «национальной самобытности» поступательное развитие российского общества.
Едкую характеристику Победоносцеву дал его младший современник, историк М. Н. Покровский, который, комментируя письма обер-прокурора к Александру III, писал: «Победоносцев был представителем того политического православия, которое в XVII веке сожгло в срубе Аввакума, в XVIII гноило в тюрьмах архиереев, имевших наивность думать, что церковь имеет какое-то самостоятельное существование, а в конце XIX мелкой травлей травило Владимира Соловьева – единственного „православного“, которого молодежь не считает жуликом» [9]. В качестве умного и тонкого льстеца, умевшего использовать, не прибегая к внешнему холопству и низкопоклонничеству, человеческие слабости вступившего на российский престол после мартовских событий 1881 г. императора Александра III, Победоносцев, по словам Покровского, «был законченный и, вероятно, самый сильный в России того времени придворный дипломат» [10].
Есть все основания полагать, что именно Победоносцеву принадлежала идея реанимировать атавизм феодальной эпохи церковную школу и превратить ее как в средство укрепления одряхлевшего принципа «самодержавие, православие, народность», так и в орудие борьбы с общественной инициативой в области школьного строительства. Как высшее должностное лицо в государстве, призванное осуществлять на практике задачу единения «алтаря и трона», Победоносцев активно способствовал пересмотру учебных программ практически всех действовавших в стране типов учебных заведений, насыщению их богословскими предметами. В период его обер-прокурорства в городских и земских четырехклассных училищах было введено преподавание катехизиса, в старших классах гимназий – догматическое и нравственное богословие. Закон Божий по значению был приравнен на экзаменах к математике и древним языкам. В высших учебных заведениях в целях борьбы с атеистическим мировоззрением среди студентов вводился курс основного богословия, обязательный для всех лиц православного исповедания [11].
Свои изыски в области просвещения Победоносцев тесно увязывал с политическим укладом самодержавного государства. В многочисленных публикациях, часть которых вошла впоследствии в «Московский Сборник» (М., 1896), обер-прокурор Синода выступал решительно против восприятия Россией форм западноевропейского политического устройства, клеймя при этом парламентаризм как «торжество эгоизма», а всеобщее избирательное право как «роковое заблуждение». Плодотворными факторами истории провозглашались исключительно государство и церковь, неразделимые «как тело и дух». Отделение церкви от государства неминуемо привело бы последнее к гибели. В государстве должна быть единоначальная верховная власть, уверенная в своем призвании, пользующаяся всей полнотой своих прав. Потребность в такой власти, по понятиям Победоносцева, «глубоко таится в душе человека». Для общего блага, утверждал он, необходима сила инерции, устойчивости, которую только близорукие люди могут назвать предрассудком и провозглашать борьбу с ней путем школы.
В представлении Победоносцева, «стремление ко всеобщему просвещению» отделяет школу от жизни. Нужны не знания, а умения, нужна школа, которая «люба народу», а не та, куда пихают детей насильно доктринеры обязательного обучения, нарушая «свободу человека». Противопоставляя умственное развитие учащихся ремесленнической подготовке, необходимой «для жизни», Победоносцев отмечал, что плоха та школа, которая отрывает человека от его среды, лишает семью рабочей силы, развращает детей «мечтами суеты и тщеславия». Идеалом народной школы Победоносцев провозглашал такую, в которой учащиеся приобретают минимум элементарных знаний, учатся любить и бояться бога, любить отечество и почитать родителей. Развивая далее концепцию «народной» школы, Победоносцев отмечал, что ее главное предназначение – воспитывать учащихся, а воспитание не зависит от умственного образования, вопреки известному «предвзятому и нелепому положению». «Улучшение общественной нравственности можно достигнуть не заботой о распространении умственного образования, а ежедневными упражнениями высших ощущений духа, борьбой с низшими ощущениями», – писал Победоносцев. Для этого он предлагал содержать людей в строгом подчинении порядку общественной жизни, чтобы его нарушение неизбежно сопровождалось для человека злом, а выполнение – добром. «В этом, и только в этом одном, – указывал Победоносцев, – состоит национальное воспитание» [12].
Таким образом, именно церковноприходская школа рисовалась Победоносцеву в качестве идеальной, однако лукавый царедворец беззастенчиво лгал. Ему не в меньшей степени, чем писателю Н. С. Лескову, были известны жизнь и нравы провинциального российского духовенства, прозябавшего в праздном безделии, пьянстве и иных пороках. Чему оно могло научить юношество? Какое образование дать тем, кто действительно к нему стремился? «Верно, что отдать школу духовенству и консисториям – бедовое дело, – признавался Победоносцев в частном письме известному педагогу С. А. Рачинскому. – Но меньше ли беды отдать их земству с его самодурами, фантазерами?..» [13].
В сентябре 1882 г. решением Победоносцева при Святейшем синоде была создана специальная комиссия «для разработки вопроса об обеспечении за духовенством главенствующей роли в деле народного просвещения». В мае 1884 г. прошло слушание доклада этой комиссии и рассмотрение проекта правил о церковноприходских школах. 13 июня того же года эти правила были высочайше утверждены Александром III. В качестве первоначального взноса из государственной казны Святейшему синоду «для вспомоществования в деле развития церковной школы» было выделено 55 тыс. рублей. С этой небольшой суммы началась систематическая «перекачка» средств учебного ведомства в ведомство церковное на цели, от подлинного просвещения весьма далекие.