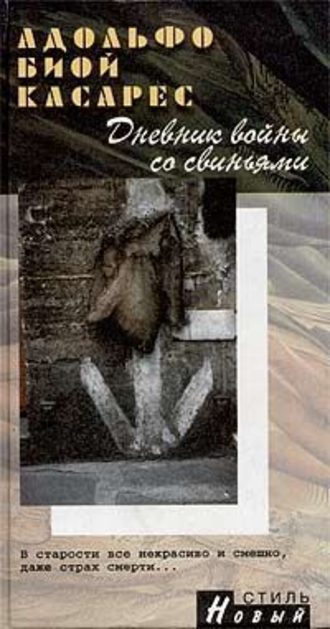
Адольфо Биой Касарес
Дневник войны со свиньями
19
После стольких лет дружбы он впервые вошел в комнату Нестора. Рассеянно глядя на портреты незнакомых людей, подумал: «Хотя мы о нашей личной жизни не говорили, это не мешало нам быть друзьями». Эта мысль побудила его сформулировать сентенцию: «Нынче все тебе приятели, а друзей нет».
– Боже, как его изуродовали, бедняжку! – ахнула одна из женщин.
Весть о гибели Нестора меньше взволновала Видаля, чем это уменьшительное «бедняжка». «Я плачу, как ребенок, – подумал он. – Или как лицемер. Какой позор».
Он закрыл глаза. Он не хотел, чтобы последним воспоминанием о друге было лицо мертвеца. Собрался было поздороваться с доньей Рехиной, но она оказалась такой отупевшей от горя и дряхлой, что его протянутая рука опустилась. Он вернулся в столовую.
– Могу тебе сообщить, – сказал Аревало, – что этот тощий был на трибуне.
Видаль подошел к прыщавому парню:
– Вы видели, как его убили?
– Видеть, собственно, не видел. Но у меня есть своя версия, подтвержденная очевидцем.
– И это правда, что его затоптали? – спросил Видаль, посмотрев на него с отвращением.
– С чего бы это стали его топтать? Он же сидел на самом верху трибуны… Знаете, как было дело? Игра долго не начиналась, народ заскучал, а тут кто-то предложил: «Скинем какого-нибудь старика на поле». Вторым стариком, которого скинули, и был сеньор Нестор.
– А сын защищал его?
– Если я правильно понял, – сказал большерукий, – кое-кто утверждает, что не защищал. Верно я говорю?
– Точно, – подтвердил юнец и холодно прибавил: – У кого в семье нет стариков? Это никак не компрометирует. Но ведь есть такие, что своих стариков защищают.
Видаль почувствовал, что Джими тронул его локоть. Остролицый спросил:
– Вы уверены, что его не затоптали?
– Зачем было его топтать, – сказал парень, – если он шлепнулся, как дохлая жаба?
– Пойдем, Джими, – предложил Видаль. – Пойдем поговорим с Реем. Ну, что ты скажешь об этой молодежи?
– Мне от нее тошно.
Видаль приблизил ладони к печурке.
– Зачем приходит на бдение человек с таким настроением? – спросил он.
– Ты говоришь об этом юнце? – спросил Рей. – Он и его товарищ, похожий на лупоглазого морского окуня, ошиваются здесь, потому что они – пятая колонна.
Данте, словно только что проснувшись, услышал их разговор и напророчил:
– Боюсь, что мою теорию вскоре подкрепят факты. Поймите, мы в мышеловке. По первому сигналу этих типов их сообщники, притаившиеся снаружи, ворвутся в дом.
– Еще чашечку? – предложила соседка.
– Где же он сейчас, этот сынок Нестора? – спросил Видаль.
Женщина ответила:
– Предатели всегда прячутся. Джими заметил с ехидцей:
– Тебе не удастся с ним поздороваться.
– Говорят, что теперь, – заявил Рей, – человеку безопасней находиться вне дома.
– Ну ясно, ведь дома ты все равно как в мышеловке, – повторил свою теорию Данте.
Рей пояснил:
– Чтобы соблюсти приличия, правительство больше не разрешает никаких бесчинств в общественных местах.
– Вряд ли бедняга Нестор согласен с твоими словами, – пробурчал Джими.
– Это отдельный случай, – не сдавался Рей. Данте еще раз сравнил дом с мышеловкой. К ним
подошли господин с огромными руками, остролицый и Аревало. Видаль заметил, что двое парней опять остались одни.
– Наконец-то правительство вмешалось в это дело. Чувствуется, что позиция властей стала тверже. Я доволен заявлениями министра. В них, знаете, есть какая-то возвышенность, достоинство.
– Да, достоинства много, – согласился Аревало, – однако они помирают от страха.
– По правде говоря, я правительству не завидую, – сказал большерукий. – Сами понимаете, ситуация весьма затруднительная. Если не привлекать молодых офицеров и призывников, мы скатимся к анархии. Отдельные случаи, происходящие время от времени, – это цена, которую приходится платить.
– Что с ними, с этими господами? – спросил Аревало. – Все толкуют об отдельных случаях.
Джими объяснил:
– Вчера вечером они слушали сообщение министерства. В нем говорилось, что ситуация полностью контролируется, если не считать отдельных случаев.
– Чего вам еще? Я замечаю теперь, что тон у них более достойный, и это ободряет, – настаивал большерукий.
Из цветочного магазина принесли венок.
– Что написано на ленте? – спросил Данте.
– «От мальчиков», – ответил Рей. – По-моему, этими двумя словами все сказано.
– А не подумают ли, что это венок от молодых людей? – спросил Джими.
– Было бы недурно, – отозвался Рей. – А что, по-твоему, мы не мальчики?
– Некоторые старики, – стал объяснять остролицый, – ни капельки не остерегаются. Прямо-таки провоцируют.
– Те, кто провоцирует, – это агенты-провокаторы, нанятые за плату «Молодыми турками», – уверенно сказал Данте.
– Вы так полагаете? – спросил остролицый. – Неужто заплатили старику, который приставал к школьницам в Кабальито?
Большерукий его поддержал:
– Надо признать, что в последнее время ширится волна старческой преступности. Мы ежедневно читаем об этом.
– Лживая выдумка, чтобы будоражить народ, – возмутился Данте.
– Надо быть в разговоре поосторожней, – прошептал Видалю Джими. – Ты знаешь этого большерукого? Я не знаю ни его, ни того, другого. Скорее всего это два продавшихся старика, и они в сговоре с юнцами. Лучше держаться подальше.
– Как подумаю, что я мог пойти с Нестором на стадион… – вздохнул Видаль.
– Ты спасся от гибели, – сказал Джими.
– Возможно, вдвоем мы бы отбились и в этот час Нестор был бы жив.
– А возможно, нам пришлось бы совершать бдение у двух покойников.
– Я и не знал, что тебя так интересует футбол, – сказал Аревало.
– Не то чтобы интересует, – объяснил Видаль, ощущая свою значительность, – но так как сын Нестора поручил ему меня пригласить…
– Поручил тебя пригласить? – переспросил Аревало.
– Ого! – воскликнул Джими.
– А в чем дело? – спросил Видаль.
– Да ни в чем, – заверил Джими.
– Не думаете же вы, что на меня донесли как на старика?
– Какой вздор! – возмутился Аревало.
– Я тоже думаю, что нет, – сказал Видаль, – но с нынешней молодежью ни в чем нельзя быть уверенным. Если человека шестидесяти лет называют старцем…
– Еще хуже те девчонки, – подхватил Джими, эта тема его развеселила, – которые толкуют тебе о своем дружке и говорят: он уже старый, ему целых тридцать лет.
– Нет, я не шучу. Ответьте мне: по-вашему, я у них на примете?
– Что это тебе пришло в голову? – удивился Аревало.
– Знаешь, будь я на твоем месте, я бы ох как остерегался, – посоветовал Джими.
– Само собой, – согласился Аревало. – Из осторожности.
Видаль недоверчиво посмотрел на него.
– Все же лучше, чтобы тебя не схватили неожиданно, – пояснил свою мысль Джими.
– Фу ты, Господи! – пробормотал Видаль. – Голова болит. Есть у кого-нибудь аспирин?
– Наверно, в комнате Нестора найдется, – сказал Рей, поднимаясь.
– Нет, нет, – остановил его Джими. – Его таблетки могут принести несчастье. Вы обратили внимание на юнцов? Они то и дело выглядывают наружу.
– Как будто нервничают, – сказал Данте.
– Да нет, просто им скучно, – возразил Аревало.
«Это я нервничаю», – подумал Видаль. У него болела голова, от запаха керосина с эвкалиптом становилось нехорошо. «Ноги просто ледяные», – сказал он себе. Чтобы уберечь его от несчастья, Джими лишает его аспирина, принадлежавшего покойному. Ну понятно, у Джими голова не болит. Видалю ужасно захотелось уйти отсюда, побыть одному, подышать ночным воздухом, пройти пешком несколько кварталов. «Только чтобы меня не спрашивали, куда я иду. Только чтобы никто меня не сопровождал». Большерукий господин и другой, остролицый (Видалю сказали, что у обоих фамилия Куэнка), опять подошли к их группе. Видаль встал… Друзья посмотрели ему вслед, но ничего не спросили – наверняка сочли достаточным поводом присутствие незнакомых людей.
На улице стало темно. «Темнее, чем было совсем недавно, – сказал себе Видаль. – Кто-то ради забавы разбил фонари. Или готовят засаду». Глядя с опаской на ряды деревьев, он рассудил, что за ближайшими стволами как будто никто не прячется, а уж за третьим и четвертым мрак совершенно непроницаемый. Если он пойдет дальше, то рискует подвергнуться нападению, которое, хотя и предвиденное, произойдет неожиданно. Он уже хотел вернуться, но отчаяние и какое-то безволие охватили его. Вспомнив Нестора, он простонал: «Пока человек живет, он беспечен, он ни о чем не думает». Но если на все реагировать, если пробудиться от этой беспечности, он станет думать о Несторе, о смерти, об исчезнувших людях и вещах, о себе самом, о старости. «Да, свобода – источник великой печали», – подумал он. Тем временем он шагал по середине мостовой – во всяком случае, так его не застанут врасплох. Вдруг ему показалось, что впереди, совсем близко, чернеет что-то, выделяющееся в ночном мраке как еще более темное пятно. «Танк, – подумал он. – Нет, скорее грузовик». Внезапно очень близко вспыхнули фары. Видаль не отвернулся, даже, кажется, не закрыл глаза – бесстрашно вскинув лицо, он смотрел на свет. Ослепленный этим снопом ярко-белого света, он ощутил странное ликование, словно бы возможность столь светозарной гибели воодушевила его, как победа. Так постоял он несколько секунд, завороженный снопом белого света, не в силах ни думать о чем-то другом, ни вспоминать. Но вот огни отодвинулись куда-то, и в очерченных ими кругах обозначились стволы деревьев и фасады домов. Он видел, как удаляется грузовик, заполненный молчаливыми людьми, сгрудившимися у красных бортов с белыми узорами. Видаль не без гордости отметил: «Наверно, если бы я пустился наутек как заяц, они бы на меня напали. Наверно, они не ожидали, что я буду смело стоять». Ночной прохладный воздух да еще внутреннее удовлетворение так приободрили его, что он даже забыл о головной боли. В мозгу мелькнула как бы военная сводка: «Когда противник был отброшен, я завладел полем боя». Слегка устыдившись, он попытался сформулировать эту мысль более скромно: «Я не струсил. Они убрались. Я остался один». Если он теперь и вернется в дом Нестора, его появление не покажется (никому, даже ему самому) бегством в поисках защиты. И, как бы вдохновленный собственным бесстрашием, он зашагал вперед по темной улице, решив не возвращаться, пока не пройдет три квартала. Но также подумал, что эта демонстрация бессмысленна – ведь в тот момент, когда он вернется, он неизбежно почувствует, что прячется от опасности.
20
Заметив, что Джими нет в столовой, Видаль предположил, что он удалился в задние комнаты, и сказал себе, что, как только Джими вернется, последует его примеру. Что и говорить, малость понервничал, да и озяб на улице. Народ в столовой был по-прежнему разделен на две группы: пожилые сгрудились слева у печурки, а молодые держались справа. Видаль подошел к молодежи. Небольшая прогулка бесспорно подняла его дух, и он сразу же заговорил решительно, как бы требуя объяснений.
– Что меня возмущает в этой войне со свиньями, – и сам же рассердился на себя, что так назвал преследования стариков, – так это обожествление молодости. Они будто рехнулись от счастья, что молоды. Вот глупцы.
Приземистый паренек с выпученными глазами согласился:
– Такое положение долго не просуществует. Возможно, от неожиданности, что с ним так быстро
согласились, у Видаля вырвалась неосторожная фраза.
– Конечно, против стариков, – сказал он, – есть веские аргументы.
Опасаясь, что его спросят о них – а Видаль не был уверен, что вспомнит эти аргументы, и не хотел давать оружие в руки врагу, – он попытался вести речь дальше. Но приземистый парень его перебил.
– Знаю, знаю, – сказал он.
– Вы-то знаете, но эти буйные юнцы, настоящие преступники, что они знают? Сам Артуро Фаррелл…
– Демагог, согласен с вами, болтун.
– Печально то, что в основе этого движения нет ничего. Абсолютно ничего. Отчаяние.
– О нет, извините. В этом пункте вы ошибаетесь, – сказал парень.
– Вы так думаете? – спросил Видаль и, возможно ища поддержки, посмотрел в сторону Аревало.
– Я точно знаю. Там есть ученые. Среди основателей этого движения много врачей, социологов, плановиков. И по строжайшему секрету скажу вам: там есть также люди из церкви.
«У тебя лицо рыбы», – подумал Видаль, а вслух сказал:
– И все эти светила не нашли лучших аргументов?
– Это вы зря. Аргументация слабовата, но прекрасно рассчитана на то, чтобы воспламенять массы. Им нужно действие быстрое и сокрушительное. Но поверьте: истины, движущие центральным комитетом, другие. Уверяю вас, совершенно другие.
– Не может быть! – усомнился Видаль и снова бросил взгляд в сторону Аревало.
Тут прыщавый парень прибавил:
– Ну как же! Потому-то и ликвидировали, как вы помните, губернатора, который не отдал приказ стереть с герба провинции слова «Править – значит заселять». Есть еще какая-то другая похожая фразочка, не менее безответственная, которую я сейчас что-то не припомню.
– На мой взгляд, – сказал пучеглазый, – прямая вина лежит на врачах. Это они расплодили столько стариков, а продолжительность жизни не увеличивается ни на один день.
– Я тебя не понимаю, – проговорил прыщавый.
– Много ты знаешь людей в возрасте ста двадцати лет? Я – ни единого.
– Это правда. Они ограничились тем, что наводнили мир стариками, практически ни на что не годными.
Видалю вспомнилась мать Антонии.
– Старик – это первая жертва роста населения, – заявил приземистый. – Вторая жертва, и, на мой взгляд, более значительная, – это индивидуальность. Сами посудите. Индивидуальность, пожалуй, становится запретной роскошью и для богатых, и для бедных.
– Да, но, возможно, все это несколько преждевременно? – предположил Видаль. – Нас как бы хотят лечить при полном здравии.
– Это вы верно сказали, – обрадовался прыщавый. – Профилактическая медицина.
– Мы тут с вами обсуждаем теории, – сказал Видаль, – а тем временем совершаются убийства. Чтобы далеко не ходить, бедняга Нестор…
– Это ужасно, но такое было всегда. Кабы послушали в этом деле меня, я бы наделенных сознанием стариков оставил в покое и организовал бы второе избиение младенцев.
– Ох и наслушались бы мы тогда нареканий! Ты представляешь, какой вой подняли бы матери?
– А я о них не беспокоюсь. Они бы тогда знали, что не должны привлекать внимания.
Второй раз за этот вечер Видаль подумал, что человек живет, ничего не замечая. Пока он был занят Бог знает какими личными мелочами (прежде всего пунктуальным соблюдением своих привычек: мате в должные часы, сиеста, непременное сидение на площади Лас-Эрас, чтобы не упустить послеполуденное солнце, партия в труко в кафе), в стране произошли огромные перемены. Молодые люди – прыщеватый и приземистый, с виду более интеллигентный, – говорят об этих переменах как о чем-то общеизвестном и привычном. А он, возможно потому, что не следил за процессом, теперь их не понимает. «Я остался где-то на обочине, – сказал он себе. – Я уже стар или близок к тому».
21
Приземистый парень не лишенным учтивости тоном спросил:
– О чем вы думаете, сеньор?
– О том, что я стар, – ответил Видаль. И мгновенно спросил себя, не слишком ли он неосторожен. Кончится тем, что он навлечет на себя неприятности.
– Простите, – возразил приземистый, – но, по-моему, то, что вы говорите, нелепость. Вы старик? Нет. Я вас поместил бы в зону, которую этот болтун Фаррелл называет ничейной землей. Молодым вас нельзя назвать, но и старым – решительно нельзя.
– Штука в том, – заметил Видаль, – чтобы кто-нибудь из этих одержимых, которых так распустили, не ошибся.
– Я бы сказал, что ошибки маловероятны, хотя – я этого не отрицаю – возможны, – согласился приземистый и тут же пояснил: – По причине разгула страстей.
Видаль снова пал духом и затосковал о прежнем своем неведении того, что творится. Его беседа с парнями показалась ему жалкой попыткой снискать их милость.
– Извините, – пробормотал он и, чтобы вздохнуть свободней, перешел к своим друзьям.
– Вот мы посмотрим на правительство в момент истины, – с пафосом ораторствовал Рей. – Когда оно заплатит свои долги.
– Учти, что этого момента придется подождать, – предупредил Аревало. – Даже если восстановят порядок, нам не заплатят.
– Где Джими? – спросил Видаль.
– Не перебивай, – сказал Данте, конечно ничего не расслышав. – Мы обсуждаем денежные дела. Вопрос о пенсиях.
– Правительство еще подумает, платить ли их, – настаивал Аревало.
– Признаем, сеньоры, – вставил большерукий господин, – чтобы дать распоряжение о выплате пенсий, требуется большое мужество. Мера непопулярная, и логично, что ей будут сопротивляться.
– А исполнение обязательств разве пустяк? – спросил Рей.
– На днях, – вмешался остролицый, – я слышал разговор о плане компенсации: пожилым людям предложат землю на Юге.
– Скажите лучше попросту и честно, что всех стариков сошлют, – сказал Данте.
– Как пушечное мясо, – уточнил Рей.
– Чтобы воспрепятствовать возможной инфильтрации наших братьев чилийцев, – прибавил Аревало.
– Где Джими? – спросил Видаль.
– Как это – где? – спросил Аревало. – Он же вышел из дому, чтобы тебя позвать. Разве вы не встретились?
– Может, он пошел в уборную? – спросил Видаль.
– Я видел, как он вышел из дому, – подтвердил Рей. – Через эту дверь. Он сказал, что идет за тобой.
– Джими – настоящий лис, – пояснил Данте. – Ему невтерпеж долго сидеть на таких сборищах, и при первой возможности он убегает домой, в свое логово.
– Он сказал, что идет за тобой, – повторил Рей. – Я его не видел, – сказал Видаль.
– Настоящий лис, – повторил Данте. – Убежал домой, в свое логово. Мы же его знаем не со вчерашнего дня.
– Беднягу Нестора мы тоже знали всю жизнь, – возразил Аревало. – Пойду проверю, дома ли Джими.
– Я с тобой, – сказал Рей.
– Соболезнования как будто уже принесены, – улыбаясь, проговорил остролицый. – Я бы не стал беспокоиться, он скоро вернется.
– Нет, пойду я. Он вышел позвать меня, так что пойду я, – сказал Видаль.
– Ладно, – сказал Аревало. – Пойдем вдвоем. Аревало надел плащ, а Видаль накинул свое пончо.
На пороге они на минуту остановились, вглядываясь в темноту, потом вышли.
– Не то что я боюсь, – объяснил Видаль, – но неприятно, когда на тебя нападут врасплох.
– Еще хуже – ждать нападения. Кроме того, я не хочу предоставлять этим кретинам инициативу в вопросе моей смерти. Признаюсь, что смерть от болезни меня тоже мало прельщает. Пустить себе пулю в лоб или выброситься из окна – пренеприятная, должно быть, штука. Или, к примеру, уснешь с таблетками и вдруг захочешь проснуться – что на это скажешь?
– Не продолжай, не то еще выберешь кретинов – правда, эти двое мне сказали, что нас не зачислили в старики.
– Значит, не такие уж они кретины. Они поняли, что никакой старик не считает себя стариком. И ты им поверил? Они хотят внушить нам доверие, чтобы, мы им не доставили хлопот.
– Как по-твоему, я поступлю очень плохо, если рискну?
– Ты это о чем? – спросил Аревало.
– Деревья в темноте так заметны. Уж наверно, у меня будет жалкий вид, если сейчас на меня нападут.
Видаль помочился у дерева. Аревало, последовав его примеру, заметил:
– Это от холода. Холод и годы. Одно из самых частых занятий в нашей жизни.
Дальше пошли в более бодром настроении.
– Один из парней мне объяснял… – начал Видаль.
– Прыщеватый?
– Нет, тот, что пониже, с лицом как у окуня.
– Ну, это все равно.
– …объяснял мне, что в основе этой войны со свиньями лежат разумные причины.
– И ты ему поверил? – спросил Аревало. – По разумным причинам не убивают людей.
– Они говорили о росте населения и о том, что количество никчемных стариков все увеличивается.
– Люди убивают от глупости или от страха.
– И все же проблема никчемных стариков не фантазия. Вспомни мать Антонии, женщину, которую прозвали Солдафоном.
Аревало, не слушая его, твердил свое:
– В этой войне мальчишки убивают из ненависти к старикам, какими они сами станут. Ненависть от страха…
Холод заставил их ускорить шаг. Чтобы не проходить возле костров, они – будто в молчаливом сговоре – сделали крюк в несколько сот метров и подошли к участку, где фонари не были разбиты.
– При свете, – заявил Видаль, – эта война со свиньями кажется немыслимой.
Они подошли к дому Джими.
– Здесь все спят, – сказал Аревало.
Напрасно искали они в окнах хоть одну светящуюся щель.
– Позвоним? – спросил Видаль.
– Позвоним, – ответил Аревало.
Видаль нажал на кнопку звонка. Где-то в глубине темного дома послышался звон колокольчика. Они подождали. Через несколько секунд Видаль спросил:
– Что будем делать?
– Звони еще раз.
Видаль опять нажал на кнопку, и опять они услышали дребезжащий звук колокольчика.
– А что, если Данте прав и он попросту спит? – спросил Видаль.
– Дурацкое положение. Получается, мы с тобой два паникера.
– Ну ясно, если с ним что-то случилось…
– Ничего с ним не случилось. Он спит. Старый лис.
– Ты так думаешь?
– Да. Уйдем, чтобы не выглядеть паникерами.
Вдалеке горел костер. Видалю вспомнилась картина, которую он видел в детстве, – Орфей или какой-то дьявол, объятый адским пламенем, играет на скрипке.
– Какая глупость, – сказал он.
– Что?
– Ничего. Костры. Все.



