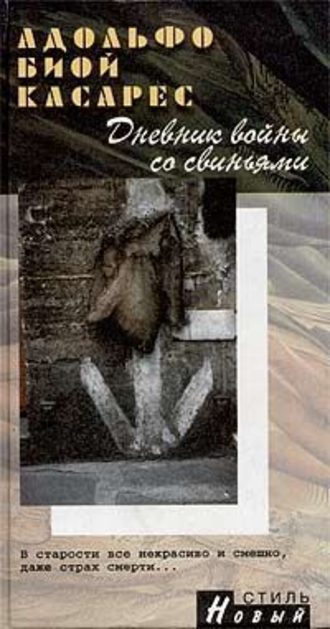
Адольфо Биой Касарес
Дневник войны со свиньями
Перевод с испанского Евгении Лысенко
В оформлении обложки использована работа Джеймса П. Блэйра
1
Понедельник, 23 – среда, 25 июня
Исидоро Видаль, которого соседи называли дон Исидро, с прошлого понедельника почти не выходил из своей квартиры и избегал показываться на глаза. Ну конечно, некоторые жильцы, а тем паче девушки из швейной мастерской в большом зале напротив, иногда видели его мельком. В их густонаселенном доме приходилось преодолевать немалые расстояния, чтобы добраться до санузла, надо было пройти
через два внутренних дворика. Но как бы там ни было, дон Исидро в своей квартирке, состоявшей из его комнаты и смежной комнатки его сына Исидорито, был в эти дни отрезан от внешнего мира. Сын, работавший классным надзирателем в вечерней школе на улице Лас-Эрас, вставал поздно и обычно уносил газету, которую отец ждал с нетерпением, и вдобавок Исидорито упорно забывал о своем намерении отнести в починку радиоприемник. Лишенный своего ветхого аппарата, Видаль не мог слушать ежедневные «Домашние беседы» некоего Фаррелла, которого люди считали тайным вождем «Молодых турок», движения, вспыхнувшего, подобно новой звезде, среди нашей нескончаемой политической ночи. Перед своими друзьями, ненавидевшими Фаррелла, Видаль его защищал, даже горячо защищал; он, правда, отвергал аргументы юного каудильо, продиктованные скорее озлоблением, чем разумом, и осуждал его клеветнические и лживые выпады, но не скрывал восхищения его ораторскими способностями, страстным, истинно аргентинским тембром голоса и, претендуя на объективность, считал заслугой то, что «молодые турки» внушают миллионам парий чувство собственного достоинства.
Причиной нынешнего затворничества Видаля – слишком долгого и уже становившегося опасным – было то, что недавно у него появилась ноющая зубная боль, из-за которой он все время прикрывал рот рукой. Но вот однажды, возвращаясь днем из санузла, он услышал неожиданный вопрос:
– Что с вами?
Видаль отнял руку ото рта и смущенно взглянул на своего соседа Больоло. Да, это сосед поздоровался с ним
– Ничего особенного, – с готовностью ответил Видаль.
– Как это – ничего? – возмутился Больоло, у которого, коль приглядеться, было какое-то странноватое выражение лица. – А почему это вы рот рукой прикрываете?
– Да зуб у меня. Болит. Пустяки, – улыбаясь, ответил Видаль.
Был он невысокого роста, худощавый, волосы на голове начали редеть, взгляд грустный, а когда улыбался, даже нежный. Настырный Больоло достал из кармана записную книжку, написал фамилию и адрес, вырвал листок и сунул его Видалю.
– Это дантист. Сходите непременно сегодня. Он приведет вас в порядок.
В тот же день Видаль отправился по указанному адресу. Потирая руки, дантист ему объяснил, что в известном возрасте десны размягчаются, словно они глиняные, но, к счастью, наука теперь располагает отличным методом: производится удаление всех зубов и замена их искусственными. Назвав общую сумму, этот тип приступил к методичной пытке и наконец, надев на распухшие десны вставные челюсти, скомандовал:
– Можете закрыть рот!
Куда там! Боль, чужеродные предметы во рту, да еще ощущение неловкости при взгляде в зеркало противились этому. На другой день Видаль проснулся с чувством недомогания и жаром. Сын посоветовал опять сходить к дантисту, но дон Исидро и слышать не хотел об этом типе. Больной, удрученный, лежал в постели и первые двадцать часов даже не решился выпить мате. От слабости недомогание лишь усугублялось, а температура была удобным предлогом, чтобы не выходить из дому.
В среду, 25 июня, Видаль решил покончить с этим безобразием. Да, он пойдет в кафе и сыграет, как обычно, партию в труко. Он сказал себе, что встретиться с друзьями лучше всего вечером.
Когда он вошел в кафе, Джими (Джеймс Ньюмен, ирландец, ни слова не знавший по-английски, рослый, светловолосый, румяный мужчина шестидесяти трех лет) приветствовал его:
– Завидую тебе, вот жевать-то будешь!
Видаль чуточку поболтал по-братски с беднягой Нестором Лабарте, который, как теперь выяснилось, прошел через такое же испытание. Снимая и надевая сероватую челюсть, Нестор произнес загадочную фразу:
– Предупреждаю, лучше не разговаривай, не то худо будет.
Как обычно, мальчики засели за партию в труко в кафе «Каннинг», напротив площади Лас-Эрас. Словечко «мальчики», ими употреблявшееся, отнюдь не указывало на смутное, подсознательное желание слыть молодыми, как уверял Исидорито, сын Видаля, – это просто следствие того, что когда-то все они были молоды и вполне оправданно называли себя так. Исидорито, который слова не скажет, не посоветовавшись с некоей докторшей, качает головой и предпочитает не спорить, как бы предоставляя отцу самому разбираться в собственных ложных аргументах. Его нежелание спорить Видаль оправдывает. Разговаривая, друг друга не поймешь. Мы понимаем друг друга и приходим к согласию «за» или «против» чего-либо, как стая собак, которая нападает или отгоняет случайного врага. Например, все они – Видаль, если не забывался, избегал говорить «мальчики» – за игрой в труко убивали время и развлекались не потому, что специально сговорились или настроились, но в силу привычки и благодаря ей. Они привыкли к этому часу, месту, к фернету, к этим картам, к этим лицам, к материалу и цвету костюмов, так что Для их компании исключалась всякая неожиданность. Доказательство? Ну, например, если Нестор – друзья в шутку произносили «Нестор» на французский лад, грассируя, – начинал говорить, что он что-то забыл, Джими, которого за живость и находчивость называли Конферансье, заканчивал за него фразу словами:
– Ну да, забыл начистоту.
А Данте Ревора еще раз припечатывал:
– Стало быть, ты забыл начистоту. Напрасно Нестор, с его по-юношески румяным лицом, круглыми, как у петуха, глазами и манерой всегда говорить очень серьезно, уверял, что эта-де оговорка у него со времен его невообразимо далекого детства, да так и осталась… Его не слушали. И тем более не слушали, когда он приводил в пример Данте, упорно произносившего «мермелад» вместо «мармелад», причем никто не отказывал ему в уважении как человеку образованному.
Поскольку вечер 25 июня приобретает в дальнейших воспоминаниях черты некоего сна, даже кошмара, здесь необходимо отметить все конкретные подробности. Первое, что мне приходит на ум, это то, что Видаль проиграл все партии. Ничего удивительного в этом не было, так как в другой команде играли Джими, человек без совести и хитрец первостатейный (Видаль иногда его спрашивал, не продал ли он свою душу, как Фауст), и Лусио Аревало, победитель многих чемпионатов по труко в кафе «Ла Палома» на улице Санта-Фе, да еще Леандро Рей по кличке Толстяк. Рей, булочник, выделялся среди мальчиков тем, что еще не был пенсионером и был испанцем. Хотя три его дочки, снедаемые властолюбием, допекали его, чтобы он отошел от дел и лучше посиживал с друзьями на солнышке на площади Лас-Эрас, старик упорно не оставлял своего места у кассы. Черствый эгоист, трясущийся над своими деньгами, опасный в делах и в картах, Рей вызывал раздражение у друзей лишь одним небольшим недостатком: когда он ел, будь то сыр или арахис, поданные с фернетом, он не скрывал своей обжорливости. Видаль говорил: «Меня мутит от отвращения, я желаю ему смерти». Аревало, бывший журналист, когда-то поставлявший театральную хронику в агентство, связанное с провинциальными газетами, был среди них самым образованным. Хотя он не отличался красноречием или блестящим остроумием, ему случалось скромно и к месту ввернуть словечко с истинно креольской иронией, которая заставляла забыть о его безобразии. Безобразие это усугубляла возраставшая с годами неопрятность. Плохо выбритое лицо, нечистые стекла очков, прилипший к нижней губе окурок, окрашенная никотином слюна в уголках рта, перхоть на пончо довершали облик этого болезненного, астматического объекта. На стороне Видаля играли Нестор, чьи уловки были по-детски неуклюжи, и Данте, никогда не отличавшийся живостью ума, а теперь из-за глухоты и близорукости и вовсе замкнувшийся в своей скорлупе.
Чтобы отчетливо восстановить в памяти этот вечер, напомню еще одну его особенность: холод. Было так холодно, что все сидевшие в кафе, будто сговорясь, дружно согревали дыханием себе руки. Видалю все казалось, что где-то что-то неплотно закрыто, и он то и дело озирался вокруг. Данте, который, проигрывая, всегда сердился (удивительно, что его преданность футбольной команде «Экскурсион» не научила его философски относиться к неудачам), стал его упрекать, что он невнимательно играет. Тыча в сторону Видаля пальцем, Джимп воскликнул:
– Старик работает на нас!
Видаль смотрел на остренькое лицо, на усы, которые, возможно из-за леденящего холода, казались ему припорошенными снегом, и не мог надивиться нахальству своего друга.
– А мне холод на пользу, – заявил Нестор. – Так что готовьтесь, сеньоры, к разгрому.
Он победоносно выложил карту на стол. Аревало произнес стишок:
Я не грущу, вы это бросьте,
Коль деньги все профукал,
Сегодня проиграю в труко,
А завтра выиграю в кости.
– Прошу, – сказал Нестор.
– Кто просит, тому дают, – сказал Аревало и покрыл старшей картой.
Вошел в зал продавец газет дон Мануэль и, выпив у стойки стакан красного вина, вышел, оставив, как всегда, дверь полуоткрытой. Опасаясь сквозняков, Видаль проворно вскочил и закрыл дверь. Возвращаясь на свое место, он на середине зала едва не столкнулся со старой, худющей, неопрятной женщиной, живым примером слов Джими: «Какого только безобразия не навыдумывает старость!»
– -Проклятая старуха! – отвернувшись, пробурчал Видаль.
В первый момент, чтобы оправдать это свое ех abrupto [1], Видаль, обдумывая фактическую сторону, обвинил старуху в сквозняке, который, чего доброго, может повредить его бронхам, и мысленно отметил, что женщины никогда не соизволят закрыть за собою дверь, потому как все они воображают себя королевами. Но тут же спохватился, что не прав: в незакрытой двери был виноват бедняга газетчик. Старуху можно было попрекнуть разве что старостью. Оставалась, однако, другая возможность – бросить ей с едва скрываемым гневом вопрос: чего понадобилось ей в этот час в кафе? Ответ он получил бы весьма скоро: старуха исчезла за дверью с табличкой: «Для дам», а как она оттуда вышла, никто не видел.
Друзья играли еще минут двадцать. Чтобы задобрить судьбу, Видаль прибегал к самым верным способам: смиренно выжидал, покорно все принимал. Тут не годилось проявлять упрямство. Разумный игрок знает, что судьба предпочитает тех, кто следует за ней, и неблагосклонна к тем, кто ей противится. Коли карта не идет, да еще с такими партнерами, разве выиграешь? После пятого проигрыша Видаль заявил: – Сеньоры, пришло время сниматься с лагеря. Они подвели итог и разделили деньги, Данте уплатил свою долю проигрыша и счета, но друзья вернули ему деньги, несмотря на его протест. И как только Данте сунул денежки в карман, поднялся обычный веселый галдеж.
– Я всем скажу, что с ним незнаком, – объявил Аревало.
Его тут же шутя упрекнули в скупости.
Оживленно переговариваясь, они вышли из кафе. От внезапно охватившего их холода все на миг притихли. Влажный туман, превращаясь в изморось, окутывал фонари белым ореолом.
– Ух и сырость, до костей пронимает! – вымолвил кто-то.
– Я сразу почувствовал – в горле першит, – веско высказался Рей.
И впрямь, кто-то из них закашлялся. Пошли по улице Кабельо, по направлению к улицам Паунеро и Бульнес.
– Ну и вечер, – заметил Нестор.
– Чего доброго, еще и дождь пойдет, – слегка ироничным своим тоном предположил Аревало.
Всех рассмешил Данте.
– Вы у меня попляшете, как потом еще больше похолодает! – сказал он.
– Брррр! – подытожил Конферансье.
Общение с ближними – лучший посох, помогающий двигаться по пути старости и болезней. Подтвержу это фразой, которую они сказали: «Несмотря на ненастную погоду, мы были в приподнятом настроении». С шутками и прибаутками они вели веселый диалог глухих. Выигравшие вспоминали перипетии игры, проигравшие отделывались беглыми замечаниями о погоде. Аревало, обладавший способностью видеть со стороны любую ситуацию, даже ту, в которой сам участвует, заметил как бы про себя:
– Дурачимся как мальчишки. Да мы никогда не перестанем ими быть. Почему же нынешняя молодежь этого не понимает?
Они были так поглощены своими разговорами, что не сразу услыхали шум, доносившийся из пассажа «Эль Ласо». И вдруг крики заставили их вздрогнуть, теперь они заметили, что кучка людей смотрит с ожиданием в сторону пассажа.
– Собаку убивают, – предположил Данте.
– Осторожней, – посоветовал Видаль. – А вдруг она бешеная.
– Наверно, там крысы, – высказался Рей.
В этом месте всегда бродили полчища собак, крыс и кошек, так как торговцы небольшого рынка на углу оставляли кучи отбросов. Любопытство сильней страха, и друзья подошли ближе на несколько метров. Сперва они услышали смутный шум, потом различили брань, удары, стоны, лязг железа и жести, тяжелое дыхание. Белесый свет фонарей выхватывал из полутьмы силуэты подпрыгивающих и орущих парней, вооруженных палками и железными прутьями, ожесточенно избивающих какую-то фигуру, темневшую среди мусорных контейнеров и куч отбросов. Видаль увидел искаженные яростью лица – все молодые и будто опьяненные хмелем своего превосходства.
– Этот человек – газетчик дон Мануэль, – тихо сказал Аревало.
Видаль разглядел, что несчастный старик стоит на коленях, низко наклонясь всем туловищем и прикрывая окровавленными руками израненную голову, которую он пытался спрятать в урне.
– Надо что-то делать! – беззвучно воскликнул Видаль. – Они же его убьют!
– Замолчи! – приказал Джими. – Не привлекай их внимания.
Расхрабрившись, и оттого, что друзья его удерживали, Видаль стоял на своем:
– Надо вмешаться. Они его убьют.
– Он уже мертв, – флегматично заметил Аревало.
– За что? – недоуменно спросил Видаль.
– Тихо! – прошептал ему на ухо Джими.
Потом Джими, видимо, куда-то отошел. Пытаясь его найти, Видаль наткнулся на парочку, которая смотрела на избиение осуждающе. Парень в очках, с книгами под мышкой, девушка на вид вполне порядочная. Надеясь на моральную поддержку, которую часто встречал у незнакомых людей на улице, Видаль заметил:
– Какая жестокость!
Девушка открыла сумочку, достала очки с круглыми стеклами и неторопливо надела их. Оба повернули к Видалю свои лица, защищенные очками, и невозмутимо на него уставились.
– Я противница всякого насилия, – заявила девушка, чересчур четко выговаривая слова.
Пропустив мимо ушей эти дышащие холодом слова, Видаль попытался найти сочувствие в сердцах молодых людей:
– Мы тут ничего не можем сделать, но полиция, зачем она-то существует?
– Знаете, дедушка, теперь не время ходить проветриваться, – посоветовал ему юноша почти участливым тоном. – Почему бы вам не пойти домой, пока вас не тронули?
Такое ничем не заслуженное обращение – у Исидорито не было детей, а сам Видаль полагал, что, несмотря на намечавшуюся плешь, выглядит моложе своих сверстников, – огорошило его, он понял эти слова как желание от него отделаться и принялся искать своих друзей, но никого не обнаружил. В некотором смятении он наконец покинул это место – и с мальчиками не поговоришь, не поделишься тяжким впечатлением.
Дом Видаля находился на улице Паунеро напротив мастерской по обивке автомобильных сидений. Собственная комната показалась Видалю неуютной. В последнее время он чувствовал неодолимую тоску, которая словно бы изменяла облик самых привычных предметов. Ночью вещи, стоявшие в комнате, казались ему холодно-враждебными соглядатаями. Он старался не шуметь: в смежной комнате спал сын, который ложился поздно, так как работал в вечерней школе. Накрывшись одеялом, Видаль с тревогой сказал себе, что, пожалуй, всю ночь не уснет. Как ни устраивайся – неудобно. Думаешь и ворочаешься. Вот и говори после этого, что мысль не влияет на материю. Картина увиденного стояла перед глазами с нестерпимой яркостью, он ворочался в надежде, что видения и воспоминания рассеются. И вдруг он решил, быть может желая сменить течение мыслей, что неплохо бы сходить в уборную – облегчишься и уснешь спокойно. Конечно, прогулка через два двора зимней ночью отпугивала, но он не мог себе позволить, усомнившись в пользе такого похода, обречь себя на бессонницу.
Когда он среди ночи оказывался в неприветливом помещении санузла – холодном, темном, дурно пахнущем, – это всегда действовало на него угнетающе. Причин для мрачных мыслей всегда хватает, но почему они осаждают его именно в эту пору и в этом месте? Чтобы забыть о газетчике и его убийцах, Видаль стал вспоминать время, теперь неправдоподобное, когда тут даже приятные приключения бывали… Кульминация одного из них произошла как-то под вечер, когда он, сам не зная как, очутился в объятиях дочки кухарки, сеньоры Кармен, которая обслуживала одну семью в Северном районе. Нелида с матерью жили в большой комнате напротив его квартиры, там, где теперь была швейная мастерская. Чисто случайное воспоминание о конце этой интрижки совпало с другим воспоминанием, для Видаля мучительным и (почему, он сам не понимал) мерзким, о разгоряченном, пьяном старике, гонявшемся с ножом за сеньорой Кармен. От Нелиды у него остались в сундучке, где он хранил на память старые вещи родителей, фотография их обоих, сделанная в Роседале, и шелковая выцветшая лента. Да, теперь все по-другому. Если раньше он случайно встречался в санузле с женщиной, оба смеялись; теперь же он, извинившись, старался побыстрее удалиться – как бы не сочли его ловеласом или еще кем погнуснее. Возможно, причина его тоски в этом ухудшении его положения в обществе. Факт, что уже многие месяцы, а может, и годы, он предается пороку воспоминаний; как другие пороки, этот сперва был развлечением, а со временем стал причинять боль и вредить здоровью. Он сказал себе, что завтра будет чувствовать усталость, и поспешил обратно. Уже лежа в постели, Видаль сформулировал с относительной четкостью (зловещий симптом для страдающих бессонницей) мысль: «Я пришел к той поре жизни, когда усталость не помогает уснуть, а сон не помогает отдохнуть». Ворочаясь с боку на бок, он опять вспоминал сцену убийства и, возможно, чтобы отделаться от неприятного чувства при воспоминании о трупе, который Видаль недавно видел воочию, а теперь в воображении, спросил себя, действительно ли убитый был тот самый газетчик. И его вдруг объяла пылкая надежда, словно участь бедняги газетчика была для него важнее всего на свете: он стал представлять себе, как тот бежит по улицам и зовет на помощь, но быстро спохватился и отогнал от себя фантазии, боясь разочароваться. Вспоминались слова девушки в очках: «Я противница всякого насилия». Сколько раз слышал он эту фразу, не придавая ей никакого значения! Теперь же, в тот самый миг, когда он сказал себе: «Ну и самодовольная особа!», он впервые понял ее смысл. И тут ему в голову пришла какая-то теория насилия, довольно разумная, но, к сожалению, он сразу ее забыл. Он подумал, что в ночи, подобные этой, когда, кажется, все отдал бы за то, чтобы уснуть, у него появляются блестящие мысли – хоть в газетную заметку. Когда запели птицы и в окнах забрезжил утренний свет, Видаль всерьез огорчился – ночь прошла зазря. И в этот момент он уснул.
2
Четверг, 26 июня
Проснулся он от тревожной мысли, что надо идти на бдение у тела покойного. В последнее время его легко одолевало беспокойство.
На керосинке Видаль приготовил мате, который выпил впопыхах, закусив несколькими кусочками вчерашнего хлеба. Завтрак был точно рассчитан: Видаль не позволял себе злоупотреблять мате или хлебом, не то у него начинался странный жар, что его немного пугало. Он помыл ноги, руки, лицо, шею. Причесался, попрыскав волосы фиалковой туалетной водой и смазав брильянтином. Затем поспешил в швейную мастерскую и попросил у девушек разрешения воспользоваться их телефоном. Вставные челюсти стали для него какой-то манией. Он готов был поклясться, что девушки его разглядывают и сплетничают о нем, будто он урод или единственный человек с искусственными зубами. Его удивило одно обстоятельство: приготовясь ко всему, он не заметил ни одной улыбки, ничего такого, что походило бы на насмешку. Он увидел серьезные, озабоченные, нахмуренные лица, похоже, чем-то испуганные, может, сердитые. Это показалось ему странным.
Он позвонил Джими, но там никто не ответил. У Рея подошла дочка и сказала, что отец вышел и что она просит их не беспокоить. Между тем одна из швей, блондинка с белой кожей по имени Нелида, напоминавшая ему, хотя бы именем, его когдатошнюю Нелиду, упорно смотрела на него, как бы желая что-то ему сказать. Ну если она действительно хочет с ним поговорить, она может найти удобный случай (она жила в этом же доме вместе со своей подругой Антонией и матерью Антонии доньей Далмасией). Видаль всегда чувствовал себя неловко, когда во время разговора по телефону на него смотрели. Он терялся, как если бы его стали перебивать во время трудного экзамена; еще более неприятно было, если смотрели, когда его роль в разговоре была невыигрышной. Ребячество? Порой Видаль спрашивал себя, чему мы научаемся с годами – не тому ли, чтобы мириться со своими недостатками? Мельком он взглянул на устремленную на него пару глаз, на нежную белую кожу, на округлости грудей под трикотажной кофточкой и сказал себе, что для поклонника красоты ничего нет прекраснее, чем молодость. Сердце у него вдруг заныло, и он еще подумал, что девушки в этом возрасте способны на всякие безумства, но что он-то, стоящий здесь с растерянным видом, уж наверно кажется им дурак дураком. Он оставил на полочке деньги за разговор и ушел, не желая долго занимать телефон.
Лучше он зайдет в ресторан и там спокойно поговорит по автомату. К тому же купит газету, узнает, действительно ли платят, как утверждали Фабер и другие, пенсию за май. Прежде чем выйти из дому, он огляделся, не бродит ли тут управляющий, обжившийся в Аргентине галисиец, анархист, ревниво соблюдавший интересы домовладельца. К счастью, не было в холле и сеньора Больоло, который из смутной ненависти к роду человеческому бесплатно служил галисийцу соглядатаем. Каждый месяц, с приближением 20-го числа, когда Видаль обычно получал пенсию и платил за квартиру, он старался избегать встречи с этими двумя субъектами.
Было приятно идти по улице в солнечный день, «разминать коленки», как говаривал Джими. Утро было безоблачное, и в подтверждение пророчеств мальчиков холод не ослабел. Выйдя на улицу, Видаль увидел, что мастерская обойщика заперта.
– Полдень еще далеко, а они уже закрылись, – сказал он себе беззлобно. – Народ нынче работать не любит. Ну и жизнь пошла!
И про себя отметил, что у него всегда находится повод поговорить с самим собой и выдать какую-нибудь сентенцию.
На телефоне в ресторанчике, как обычно, красовалась записка: «Не работает». Направляясь по улице Лас-Эрас к площади, он спросил себя вслух, чем объяснить, что это городское утро кажется особенно красивым и радостным. Правда, некоторые встречные смотрели на него как-то слишком пристально, и это было неприятно. Очень странно, подумал он, что вставные челюсти так привлекают внимание, и тут же успокоил себя: «В конце-то концов, рот ведь у меня закрыт». Неужто вставные зубы и обращенные на него взгляды были причиной ноющего чувства в груди? Нет, ее, наверно, надо искать в привлекательном облике девушки, прошедшей мимо, и в том, как быстро, словно убегая, она удалилась. Непонятно почему, но с годами его робость возросла: словно от неуверенности в себе он на всякий случай всегда предпочитал стушеваться. Или подлинная причина стеснения в груди крылась в том, что ему не выплатили пенсию, в денежных затруднениях, теперь столь ощутимых?
Сердечно поздоровавшись с продавцом газет на углу улиц Сальгеро и Лас-Эрас, вложив в приветствие максимум любезности и скромности, он спросил:
– Где будет бдение над доном Мануэлем?
– Его еще не забрали из морга, – ответил газетчик тоном, который Видаль решил про себя определить как безразличный.
– Что поделаешь, конец недели, – объяснил Видаль, подмигнув одним глазом. – Держу пари, что судебный врач не прочь отдохнуть и на кой ему сдались какие-то там трупы.
Вдруг он почувствовал, что его говорливость или что-то другое в его особе неприятна собеседнику. Но само такое предположение его возмутило. Разве убитый не был газетчиком, коллегой этого отталкивающе хмурого парня? Разве утонченная вежливость, с которой он, Видаль, к нему обращается, вежливость тем более ценная, что проявляет ее человек не из их цеха, разве она заслуживает презрения? Да, подумал он, вороны плодятся, даже когда их не кормят. Вера в природное дружелюбие людей побудила его дать парню еще один шанс.
– Бдение будет в Гальо?
– Вы угадали.
– Вы пойдете? – не унимался Видаль.
– Чего ради?
– А я… я думаю пойти.
Тут подошла девочка и попросила журнал – возможно, поэтому парень повернулся к Видалю спиной. Видаль решил уйти: чтобы больше не унижаться, он не станет покупать газету. Подавленный, он уже отошел от стенда, как вдруг услышал озадачившую его фразу:
– Кто провоцирует, сам виноват.
У него мелькнула мысль попросить объяснения, но тут же он представил себе широкую спину парня, его мышцы, обтянутые серой курткой, и вспомнил, что по утрам часто просыпается с болью в пояснице, как если бы весь его скелет одеревенел. Осознание пределов своих возможностей – грустная мудрость.
Он пересек площадь по диагонали, не преминув остановиться у памятника и прочитать надпись. Он знал ее наизусть, но, проходя мимо, всегда читал снова. С волнением он сказал себе, что эта страна в эпоху своих войн, видно, не была злопамятна.
Из автомата в кафе он попытался позвонить друзьям, но безуспешно. У Аревало не отвечали. Соседка Нестора, которая обычно не отказывалась позвать его, если осведомишься о ее здоровье и о ее семье, пробормотав что-то невразумительное, положила трубку. Видаль, всегда интересовавшийся метеорологией, подумал, что, хотя температура воздуха повышается, настроение у людей по-прежнему пониженное. Еще одна попытка связаться с Джими, на нее он потратил последнюю монетку. Он был рад, что подошла не служанка, тупая девка, которая двух слов не могла связать и плохо слышала, а Эулалия, племянница Джими.
– Он зайдет к вам вечером, – сказала Эулалия. – Я пыталась его отговорить, но он сказал, что пойдет.
Видаль еще не кончил благодарить ее за любезность, как Эулалия прервала разговор. Он направился в булочную. Когда подошел к пассажу «Эль Ласо», воспоминание о вчерашнем кошмаре омрачило его душу. С некоторым раздражением он отметил, что пассаж приобрел свой обычный вид, что не осталось ни следов, ни признаков вчерашнего происшествия. Даже постового не было. Если бы не та самая мусорная урна, он мог бы подумать, что гибель газетчика была просто галлюцинацией. Да, Видаль знал, что жизнь продолжается, что мы за ней не поспеваем, однако спросил себя: к чему такая спешка? На том самом месте, где несколько часов тому назад был убит простой рабочий человек, кучка мальчишек играла в футбол. Неужели он один чувствует, что это кощунство? Его также оскорбило, что эти сопляки, глядя на него с притворно невинным и в то же время презрительным выражением лица, дружно запели песенку:
Приходит светлая весна, И старость расцветает.
Видаль подумал, что в последнее время сделал успехи в обретении того мужества – разумеется, пассивного или даже негативного, – которое позволяет нам не слышать оскорблений.
Проходя мимо разрушенного дома, он увидел комнату без потолка, но с сохранившимися кусками стен и предположил: «Наверно, это была гостиная». В булочной его ждал сюрприз. Леандро Рея не было на его месте у кассы.
– С доном Леандро что-то случилось? – спросил Видаль у одной из дочерей.
Любезный вопрос оказался некстати. Довольно громко – возможно, чтобы показать себя – и неприветливо, сильно двигая темными, толстыми и влажными губами, будто делает бант на подарке, девушка сказала, обращаясь к Видалю:
– Вы что, не видите, что люди стоят в очереди? Если не собираетесь что-то покупать, будьте добры, уходите!
Онемев от незаслуженной грубости, Видаль не нашелся, что ответить. Чтобы не уронить своего достоинства, надо было повернуться и уйти. С невероятным хладнокровием и словно окаменевшим лицом он выждал, пока не обретет снова дар речи, и тогда, под взглядами стоявших в очереди, перечислил:
– Шесть сдоб, четыре рогалика и булочку грубого помола.
Эта булочка грубого помола вызвала сдержанные улыбки, как если б то была фраза с намеком. Ничего подобного. Сами дочки дона Леандро впоследствии скажут, что Видаль всего лишь попросил то, что всегда. Почему же он не удалился с достоинством? Да потому, что ему нравился хлеб в булочной Леандро. Потому что вблизи не было других булочных. Потому что он не знал, как объяснить своему другу, если тот спросит, почему Видаль больше не покупает хлеб в его лавке. Потому, наконец, что он ценил верность – был верен друзьям, любимым местам, каждому из окрестных лавочников и их лавкам, своему распорядку дня, установившимся привычкам.
Говорят, многие объяснения убеждают меньше, чем одно-единственное, но дело в том, что почти для всего существует несколько причин. И, чтобы умолчать об истинной причине, всегда найдется другая.



