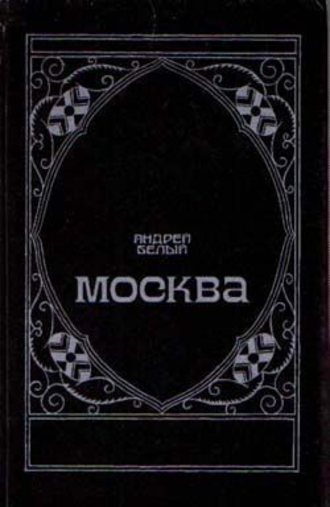
Андрей Белый
Москва под ударом
20
Под шипением Грибикова карлик праздновал труса. душа – ушла в пятки; и – не попадал зуб на зуб.
С того самого мига, как карлик вернулся домой, – поднялось это: Грибиков – кекал:
– Ах, – шитая рожа ты! Чортовой курицей спину выклеивал:
– Вязаный нос!
Приседал с сотрясением, вытыкнув палец:
– Мой чашки! Гнал в кухню:
– Поставь самовар! Выхихикивал:
– Да, Златоуст кочемазый какой отыскался!
– Кащенка паршивая, – воздух разгребывал.
– С эдакой рожей, – куриного запою скреб он, – сидят под рогожей.
За боки хватался:
– Я вот что скажу тебе: знай себе место!
И пальцем указывал карлику место: и место как раз приходилося рядом с… ночною посудой.
– Чего под чужие заборы таскаешься?
– Выскочил, тоже, – оратель!…
– С своей араторией!
– Я, мол, без носу… Роташку с подфырком сжимал:
– Не свиными рылами лимоны разнюхивать!…
– Тоже!…
– Про рай разорался!…
Таскался за карликом:
– Живо!
– Не спи.
– Не скули!… Догонял:
– А в полиции скажут – что? Тут же давал объясненье:
– Крамолой занялся?
____________________
Раздался звонок: Вишняков.
Не дав слова сказать, – на него опрокинулся Грибиков: так разгасился, что даже не спрашивал, ради чего он явился, в часы, когда добрые люди уже высыпаются.
– Вы-то чего? Чего чванитесь?
– ?
– Вздернули к небу крестец и по этому поводу забарабанили, взявши литавру, как нехристь какой?…
– Вы напрасно: я взял ту литавру взывать о спасенье: имеющий уши да услышит.
– Крещеный вы? А?
Но, заметивши, что Вишняков не в себе, – любопытствовал:
– Вы – косомордый – с чего же? Лица на вас нет!…
Вишняков – так и так: «енерал» над бумагами сидоровою козою махает; и тряпки кусает; тут Грибиков впал в рассуждение.
– Вы больше бога не будете: милостью он, милосердый, богат; а зазнаев – карает, захочет – пупырыш не вскочит; чего суетитесь? Пошли бы вы спать; захотели с уставом своим в монастырь позвониться чужой; позвонитесь, – с квартиры под ручку вас выведут; и – справедливо: не суйтесь!
И свел рассуждение это к литавре. На что Вишняков возразил:
– Вы скажите, что есть человек?
– Человек? – потрепал бородавочку Грибиков, – вот что он есть: – поглядел на свой палец, – стоят тебе вилы; на вилах-то – грабли; на граблях – ревун: на него сел – сапун; под ним – два глядуна; на них – роща; а в роще-то, – карле кивнул с подмиганцами, – свиньи копаются.
Палец понюхал.
– А я вам скажу, – Вишняков своим чтеческим голосом вышипнул, – тот человек, кто других выручает.
Словами взопрели; и долго решали: идти, не идти на квартиру профессора; и – поднимать ли Попакина, или оставить до утра дознанье, зачем «енерал» ни с того ни с сего заскакал с обтиральною тряпкой в зубах среди пыли и всякой бумаги; совет – не соваться к профессору (еще и выведут) явно созрел в уме Грибикова после зимнего странствия с книжками в эту квартиру, ведь взяли под ручки и – вывели, слова не давши сказать:
– Я лет двадцать на эту квартиру гляжу: нагляделся. Все то, что случается там, мне весьма непонятно.
А все же, надевши картузик и карлу под мышку, – пошел Вишняков: карлик праздновал труса: душа ушла в пятки; а Грибиков только качал головой:
– И куда вы такое идете, – на этих на ножках? Совсем паучиные ножки у вас!
Побежали через двор, точно земли горели под пятками; Грибиков вслед им глядел, рот разиня, глазами захлопав, руками во тьму разводя.
Впрочем, тьма прояснилась: петух там пропел.
21
Пусть мученье: зачем задразненье в мученье? Не мучайте, – просто убейте: не мучайте, – слышите ли!
Так нельзя!
____________________
Мы профессора бросили в пасть негодяю; ему он ответил с достоинством.
– Явное дело, приехал сюда я, чтоб выжечь следы мной открытого; в целом – открытие – здесь, – показал ол глазами на лоб свой, глаза подкативши под веко:
– В моей голове. Но его оборвали:
– Довольно болтать. Он – не слушал:
– И нет на бумаге: бумагу вы можете взять, – не открытие. Все я предвидел. |
– А это – предвидел?
Был схвачен за ухо, – рукою, изящной такой:
– Оторву!
И вавакнул от боли, как перепел:
– Нет!
Тут, почувствовав вдруг затолщение носа, – воскликнул:
– Живем, говоря рационально, мы низменной жизнью
горилл, павианов, гиббонов.
Губа стала сине-багровой разгублиною:
– Я прошу вас не бить меня!
Под черепными костями вскочил ахинейник:
– Я… я… с собственной дочерью сделал – вот что. – Всею позой спохабил Мандро.
– Вы открытия, батюшка мой, – не получите… Крепкая пауза.
Чмокнуло по паузе этой; расчмок был расшлеп белых пальцев о губы и нос; странный чмок: что-то вроде неистового поцелуя с раскусом губы; стало парко от боли; да, так надзиратель не бил!
Рот раскрыл, но – дыра зачернела во рту; плюнул зубом и лицо; истязатель смеялся с подшарками – красной пошлепе; и взором, жестким до нежности, до восхищенья над тем, кого мучил, парил; точно мучил обоих просунутый через дыру лицевую из тысячелетий «Мандлоппль», – жрец кровавый и опытный.
– Да, патентованный я негодяй… вы – ученый – ха-ха – патентованный – что же? – открыл перочинный свой ножик, – давайте попробуем, как патентованный ножик задействует над патентованным мясом.
И тут же пал в кресло; и – тяжко дышал: точно били его, а не он; а профессор раздувшимся носом и толстой губою в кулак на него посмотрел; как не мог он понять, что чудовище в это мгновенье сидело вполне безоружным? Один бы удар молотка; и – все кончено!
Нет!
Он – ударить не мог: в совершенном безумье решил он, что словом воздействует, спор философский затеявши: властью идеи хотел покорить павиана, поставленный, – ясное дело, – в условия доисторической жизни; мелькнуло на миг лишь:
– Схватить, не схватить?
И казалось, что в двери появится момент клычищем и космами черного волоса.
____________________
Миг был упущен.
Горилла, схватив молоток, от испугу, что им могла быть она шлепнута, прянула ловким прыжком и зажомкала крепко под мышкою голову; но голова все старалась ее подбоднуть; не глаза, жучьи норочки, бросились в поле сознанья на этом скакавшем, бодавшемся, фыркавшем теле.
В ответ на возню раздавался отчетливый дребездень в дальнем буфете.
Горилла, вцепившись в кривую распухшую рожу с разорванным ртом, все старавшуюся повернуться, – плевала.
А рожа кричала:
– Я верю – в сознанье, – не в грубую силу! Ее повалили.
О пол брекотали, выискивая поболючее место; подпрыгивала; после срухнула, брюкнув:
– Где люди свободны и где есть история?…
Делала кровью вокруг себя дурно и грязно, несяся сознанием в каппа-коробкинский мир. Став в передней, услышали б:
– Брыбра.
– Бры.
– Брыбра.
Тяжелый звук, – страшный: в буфете же «брень» – отзывались стаканы; седастые роги кидалися долго над красною «брыброй»; в борьбе сорвалась борода приставная.
22
Вот – связаны руки и ноги; привязаны к креслу, тогда запыхавшийся, густо-багровый мерзавец устал; а избитый повесил клокастую голову.
– Полно, профессор, – сдавайтесь!
Охваченный непоправимым, разорванный жалостью, понял, что – силы его покидают:
– Покончимте миром!
Молил – не лицо уже: просто пошлепу оскаленную (кровь сплошная; и – жалкая дикость улыбки безумной) Заметим, что стоило б только сказать:
– Здесь, – в жилете: зашито! И – все бы окончилось.
Связанный, брошенный в кресло – над собственной кровью – имел силу выдохнуть:
– Я перед вами: в веревках; но я – на свободе: не вы, я – в периоде жизни, к которому люди придут, может быть через тысячу лет; я оттуда связал вас: лишил вас открытия вы возомнили, что властны над мыслью моею; тупое орудие зла, вы с отчаяньем бьетесь о тело мое, как о дверь выводящую: в дверь не войдете!
Тут стал издавать дурной запах: тот запах был запахе крови.
В испуге Мандро привскочил, потому что представилось если открытия он не добьется, то он – здесь захлопнут, как крыса.
– Вы знаете ли, что такое есть жжение? И жестяною рукою схватил, как клещами:
– Свеча жжет бумагу, клопов: жжет и глаз! Быть же тому – ужасно!
Закапы руки и закопты руки стеарином: пахнуло на руку отчетливым жогом; к руке прикоснулось жегло.
– О!
Не выдержал.
– О!
Детским глазом не то угрожал, а не то умолял: и казалось – хотел приласкаться (с ума он сошел)!
Тут в мозгу истязателя вспыхнуло:
«Стал жегуном!»
Но он вместо того, чтобы свечку отбросить – жигнул; и расплакался, бросивши лоб в жестяные какие-то руки. И комната вновь огласилася ревом двух тел; один плакал от боли в руке испузыренной; плакал другой от того, что он делал.
Огромною грязною тряпкой заклепан был рот.
Со свечою он кинулся к глазу; разъяв двумя пальцами глаз, он увидел не глаз, а глазковое образование; в «пунктик», оскалившись, в ужасе горько рыдая, со свечкой полез.
У профессора вспыхнул затоп ярко-красного света, в котором увиделся контур – разъятие черное (пламя свечное); и – жог, кол и влип охватили зрачок, громко лопнувший; чувствовалось разрывание мозга; на щечный опух стеклянистая вылилась жидкость.
Так делают, кокая яйцы, глазунью-яичницу.
Связанный, с кресла свисал – одноглазый, безгласый, безмозглый; стояла оплывшая свечка; единственным глазом он видел свою расклокастую тень на стене с очертанием – все еще – носа и губ; вместо носа и губ – только дерг и разнос во все стороны; тыква – не нос; не губа, а – кулак; вместо глаза пузырь обожженного века; на месте, где ноготь. раздробленный, – бухло, рвалось, тяжелело.
Как будто копыто, – не ноготь – висело.
Жегун побежал – вниз; «татататата» – каблуками, по лестнице; слышалось, как тихо вскрикнули ящики; письменный стол был разломан
____________________
Прошли сотни, тысячи лет с той поры, как в пещерной продолбине произошла эта встреча: гориллы с гиббоном; висел затемнелой своей головою с запеками крови, пропузясь; и – мучился немо зубами раскрытый, заклепанный рот.
И казалось, что он перманентно давился заглотанной тряпкою – грязной и пыльной.
23
Оса, всадив жало, готовится к смерти.
С последним движением пламени вытекла сила; шатался от слабости, чувствуя – все в нем смерзается от нехорошего холода; точно с разорванным сам разорвался и выкинулся из пространства земного.
За окнами – пусто, мертво, очень сонно, бессмысленно.
Лишь по инерции что-то вытаскивал он из развала бумаг – в кабинете, над сломанным ящиком, цель этих действий стараясь припомнить; но памяти – не было: был след «чего-то»; до «этого» – жизнь чья-то длилась; а – после? Стояние – здесь, над развалом?
«Что делаю?»
Вспомнилось: люди, платформа, носильщики, белые фартуки, бляха; – номер двадцатый на ней; с кем-то ехал:
«Куда?»
Холодея от ужаса, знал, что случилося невероятное: только в остатке сознания этого было сознание, что он со-, знанье утратил.
Припомнилось: кто-то живет – наверху, кто сумеет напомнить; и стал он разыскивать верх, чтоб понять, кто живет наверху, следы крови; наткнулся на лесенку; одолевая огромную тяжесть (не слушалися ноги), он влез, чтобы вспомнить кровавое парево с глазом закрывшимся; кто то, свернувши на сторону рожу, привязанный к креслу, висел, разодравши свой рот и оскалясь зубами, как в крике; но крик – был немой; вместо крика торчал изо рта кусок тряпки.
Кричал своей тряпкою кто-то – в пустой потолок.
____________________
Стал развязывать ноги; сапог – окровавленный.
Думалось:
«Сколько он крови раздрызгал!»
На ноги поставил.
– Пойдем.
Кто-то, вздернувши рыло, испоротое вплоть до уха, – молчал.
– Хочешь?
– Ты – победил!
Кто-то в столб соляной превратился, в Содомы вперяясь, оскаленный, красноголовый – во веки веков; было ясно, что стал идиотом.
И вот сумасшедший повел идиота; и за сумасшедшим пошел идиот: в кабинет, сумасшедший показывал пальцем на стол, где взломались два ящика:
– Что это значит, – скажи?
Идиот, увидавши на столике нониус собственный, вспомнил про боли, которым подвергся он; вспомнив про боли, подпрыгивать стал он на месте, бодаясь махрами и тряпкой по рту, точно пятки ему прижигали; увидев балет этот адский, горилла стоявшая – пала в бессилии, точно собака пробитая: под каблуками.
Быть может, мгновение длилось все это; быть может, тут длились часы; эту пляску увидел портной из окошка.
____________________
И вот он поднялся.
Скакавшее тело пошло чрез открытую дверь, повинуясь инстинкту животного околевающего, – из столовой в квадратец белевшего садика, чтоб умереть вблизи ямы, где Томочку-песика похоронили зимой; сумасшедший пошел, повинуясь инстинкту, спасаться – в переднюю (сонно спасался!); открывши наружную дверь, он хотел сесть на тумбу, – тупой, окровавленный; под подбородком болтался клочок приставной бороды; из чернильных настоев рождался денек синеватый; и ширилась из-за забора заря уже.
Вскрикнули!
Сонно пошел переулком пустым; завернул в Гнилозубов второй, где и был схвачен он.
24
Вишняков с Кавалькасом приблизились к дому: темно; прилипали к прощелку:
– Вот здесь, милый мой, он махрами мотал!
Но ничего не моталось вихрами; стоял лишь догарок свечи в разворохе бумажек; был сумерок.
Грибиков, дергаясь, следом тащился за ними, – без шапки, рукою схватяся за ворот, и грудь защищал от ветра колодного:
– Да!
– Любопытно!
По синему неба летели раздымки.
Они не решились звониться: на дворик прошли; и – уперлись в забор; посмотрели в заборную трещину:
– Дверь!
– Посмотрите!
– Открыта!
И дверь – беспокоила.
Карлик хотел было дать стрекача, а портной, захватившись руками за верх (здесь обломаны были железные зубья), кряхтя и виляя горбом, кое-как перелез над забором; пошел на терраску.
– Идите сюда, – очень строго он бросил.
– Весьма любопытно, – и Грибиков крадучись, – под подворотню: за ними; и – видел: они перемахивали над забором:
– Поймают с поличным!
– Наука!
– Не суйся!
____________________
Вот оба стояли пред входом в столовую; видели там алебастровый столбик, часы под стеклянным, сквозным полушарием, стулья, буфет; было странно, что стул перевернут; заря на серебряно-серых обоях – светлела:
– Смотрите-ка!
– Что?
– На обоях!
На ясном куске – отпечаток руки: пять коричнево-красных пятна – пяти пальцев:
– Кровь!
Оба – в столовую!
Чьи-то подошвы опять-таки были забрызганы кровью: отчетливо.
____________________
Грибиков видел: из двери профессорской вышла, шатаясь и горбясь, горилла, утратившая человеческий образ, коричневой кровью пропачканная; белый волос, оборвыш, дрожал под ее подбородком.
И Грибиков – вскрикнул.
Горилла пошла переулком; а Грибиков, дергаясь, бегал туда и сюда; и кричал, и стучал:
– Помогите!
– Несчастие!
Выскочили – кое-как, кое в чем:
– Где?
– Куда?
– Кто?
– Второй Гнилозубов.
– Держи!
– Задержали!
Здесь скажем: горилла жила трое суток еще, но без сознанья была; проживала в тюремной больнице она – вне себя, неопознанная!
Собрались под дверью.
И заспанный, тут же чесался Попакин, – с трухой в године; рожа – ком; в кулаке – сорок фунтов; глаза – оловянные; нос – сто лет рос; брылы – студень вари:
– Ты-то что!
– Продежурил!
– Проспал.
– У тебя, брат, под носом – вот что; а ты – что?
– Видно, правильно, что в русском брюхе – сгинет долото!
Что-то силился он доказать; да – петух засел в горло; и там – кукарекал: что нес – невозможно понять.
25
Кавалькас и портной по кровавому следу прошли коридором; вот он – кабинетик: кисель из бумаг; черно-серый ковер странно скомкан; в углу – груда книг; этажерка упавшая; кокнули черное кресло; без ножки лежало.
Кровь, кровь!
Но два шкафа коричневых, туго набитых тяжелыми и чернокожими книгами, были не тронуты; та же фигурочка шлa черно-желтого там человечка: себя догоняла на фоне зеленых обой, на которых бюст Лейбница гипсовой буклей белел; и на гипсовой букле – кровавое пятнышко.
След вел на лестницу; лужа кровавая капала – все еще – сверху; бежали отсюда к террасе: с террасы, наверное, вынесли труп.
Нo с порога распахнутой двери – назад; потому что, стуча сапожищами, с ямы могильной пошел откопавший себя и к себе возвращавшийся труп.
Он злател на заре перепачканной кровью пропекшейся мордой; на них шел со связанными крепко за пояс перековерканными руками и протопыренными, точно крендель, локтями, в халате растерзанном, с вывернутой головою -
– вверх, вверх, -
– рот раздравши, оскалясь зубами, как в крике; но крик был – немой, потому что из рта вместо крика мотался конец перемызганной тряпки. Кричал своей тряпкою!
____________________
Из коридора влетела толпа оголтелых людей: Ореал, Телефонов, Парфеткин, Попакин; и – прочие; все – отшатнулись: на фоне зари, став в пороге, имея направо припавшего ниц головой горбуна и налево имея урода безносого, – посередине возвысился; и на стоящего посередине, в пороге, указывали – справа, слева – перстами дрожащими: карлик, горбун, восклицая всем видом:
– Не умер, но – жив!
Это тело со вздетой главой созерцало высоты, в которых расширилась новая «Каппа», звезда, точно жалуясь немо на то, что пространство вселенной есть кривда сплошная, в которой родятся и мрут.
Как вошел, так и стал.
Уже тряпку тащили из рта, уж и – вытащили; рот зиял, не смыкаясь; сдвигали, – не сдвинулся:
– Что ж он?
– Кривляется?
– Станешь кривлякою!…
– Перековеркали!
В диком безумии взгляда – безумия не было; но была – твёрдость: отчета потребовать, на основанье какого закона возникла такая вертучка миров, где добрейшим, умнейшим глаза выжигают; казалося, что предприятие с миротворением лопнет, что линия миропаденья – зигзаг над открывшейся бездною, что голова эта вовсе не нашей планетой, системы (на нашей не выглядят так!) оторвется от шеи и, крышу разбивши губами распухшими, вырвется из атмосферы земных тяготений -
– и солнечных, -
– чтобы поднять громкий
крик, от которого, точно поблекший венок, облетит колесо зодиака; казалось, – пред этой растерянной кучкой дрожащих от страха, которых глазные хрусталики воспринимали щекоту, создавшую марево тела кровавого, – перед растерянной кучкой стоял, вопия всем оскаленным ртом, -
– страшный суд!
26
Здесь не место описывать, что было далее: как отмывали от крови, свалив на диван, как какие-то там вызывали карету, стоявшую перед подъездом, где густо роились и где полицейский покрикивал:
– Эй!
– Расходись!
Прошел костреватый мужчина, – застенчивый, нерасторопный; прикладывал руку свою к протоколу и он: Кисло-гнездов!
Вот – вывели!
Был же – не «он», а «оно»; и «оно» – тихо тронулось, бунт пересилив: «оно» – было немо; молчало, ведомое сквозь обывателей, в страхе глазеющих, ринувшихся, вызывающих памятный образ былого, когда еще было «оно», юбиляром; тогда, как теперь, окружили и так же куда-то тащили; несение «Каппы-Коробкина» в сопровождении роя людей походило на бред бичевания более, чем на мистерию славы.
Встал еще образ: какой-то «Коробкин», открытие сделавший мелом на стенке кареты, бежал за каретою, пав под оглоблей; карета с открытием, но без открывшего пересекала пространства безвестности, ныне ж в карету садилось «оно», чтоб стремительно ринуться: через пространства – в безвестность.
Куда «оно» ринулось!
Передавали друг другу:
– В приемный покой!
– Врешь, брат, – в клинику!
– В дом сумасшедший!
Молчало «оно» с очень странным, сказали бы – с дико-лукавым задором; и – даже: с подмигом. Как будто бы всем говорило «оно»:
– Человекам все то – невозможно, а мне «оно» стало
возможным.
– Я стал путем, выводящим за грани разбитых миров.
– Стало осью творения нового мира.
– Возможно мне «это»!
– Пусть всякий оставит свой дом, свою жизнь, свое солнце: нет собственности у сознания; я эту собственность – сбросило!
– Свергло царя!
– Стало – «мы»!
Этот взгляд одноокий в окошко кареты подмигивал мимоидущим:
– Я знаю, – не можешь за мною идти: я иду по дороге, которой еще не ходили.
– И ты – отречешься!
– И – ты!
Вот – подъехали: вынули, вывели; и – повели: коридорами, камеры, камеры, камеры; и – номера! Номер семь!
____________________
Но из камеры желтого дома, – из камеры, стены которой обиты мешками, в которой воссело «оно» в своем сером халате, со связанными рукавами, – «оно» станет молньей – с востока на запад: вернется огнем поедающим; некуда будет укрыться от этого дикого взгляда; и некуда будет убрать с глаз долой: стены тюрем – вселенных – падут!
И возникнет все новое.
27
Над многоверхой Москвой неслись тучи.
В ночь дождик прошел; и оплаканный встал тротуар; начиналась людская давильня: и перы, и пихи; везде – людогоны; везде – людовозы.
Москва!
Да, – она!
Здесь к абакам принизился четким фисташковым выступом легкий фронтон, треугольником врезанный в синеподтянутый, в холоднооблачный день; здесь литою решеткой, скрещением жезликов, отгородился от улицы дом, здесь же каменный, серо-ореховый дом облеплялся белясой известкою (грушами, яблоками); и – так далее, далее: дом деревянный, с дубово-оливковым колером, весь в полукругах, усевшийся в блеклые зелени садика; церковки: здесь – витоглавая, там – златоглавая; угол; пальметты, гирлянды, дантиклы, бордюр виторогих овенов; вновь отстроенный, восьмиэтажный домина пространство обламывал; там начиналась ватага таких же кофейных, песочных и серых домов: дом за домом – ком комом; и – рыцарь в изваянный пламень дракона разил лезвеем тяжкокаменным – с башни: под облаком.
Над многоверхой Москвой неслись тучи.
И вдруг просочилося солнце сияющим и красно-капельным дождиком; вновь обозначился мокрый булыжник.
Людская давильня.
Сплошной человечник: смешки, подколесина брызжущих шин, таратора пролеток, телег, фур, бамбанящих бочек и смена катимых фигур говорила, казалось, о том же, о чем говорила вчера; но уже было ясно: огромное что-то случилося.
Шляпы, купцы, спекулянты, городовой с пьяным парнем в пролетке, актриса, раздранец, студент, гимназистик, девица с кольдкремами, моська, давимая кем-то, и дворник с метлою, подтрепа, гусар, волочащий кривую и длинную саблю, в рейтузах небесного цвета, – в размой тротуара – толкались не так, как вчера, но с испугом, с томленьем, с вопросом, – по улице мимо угла, от которого вонький, разлогий, кривой переулок показывал линию черных, зеленых и розовых домиков тоже не так, как вчера; с косолета над пером заборов виднелася линия труб из-за виснущих сизей фабричного дыма.
И вывеска «Белоцерковский-Гусятников. Овощи», то же кричала – не «овощи» вовсе, не «Белоцерковский-Гусятников».
Что же?
И где начинались базар, крик лавчонок и запахи промозглой капусты со скопищем басок, кафтанов, портков и платков – красных, бледно-лимонных, оранжево-синих и черных – стояло огромное:
– Рррр! Будто кричали:
– Пора! Но кричали:
– Уррр…
____________________
Быстро, бесшумно летела карета по улицам; не замечали ее; и не сопровождали глазами и вздохами:
– Скорая помощь!
– Везут!
Не до этого было, когда побежали мальчишки с листками и с криками:
– Мобилизация!
Здесь уж подводы сроилися; у интендантства: а там собиралась толпа, потому что пошел баталион: воркотал барабан.
Раздавалось:
– Ура!
Но казалось:
– Пора!
Начинался пожар мировой: где-то молнья ударила.
Кучино,
24 сентября 1926 года.







