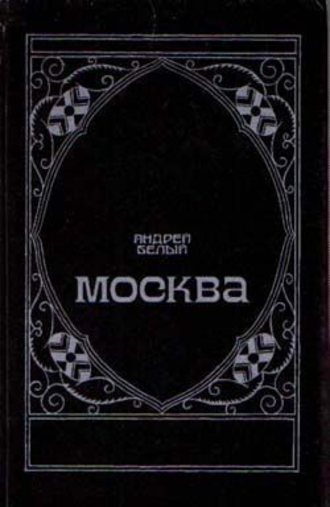
Андрей Белый
Москва под ударом
2
В узеньком платьице из черношерстой материи, кутаясь желтою шалью (дрогливая стала), – просунулась робко в соседнюю комнату; Пхач, – как запхымкает, как зажует жесткий волос усов, залезающий в рот: ничего, кроме волоса, в нем не заметила; весь был покрыт волосами: горилла такая!
Слонялась по комнатам, жмурясь от света; глаза -провалились, утихли; зрачки – два прокола булавочных: малые, острые; жалась закисчиво по уголочкам, желая угаснуть: не быть.
Приходила Харитова:
– Ну? Как здоровьице?
– Как-то мне мрется.
– Вы с Киерко – поговорите: свои «мерикории» бросьте!
Понравилось слово – слиянье двух слов: «меланхолия», «мороки»; и – удивилась: опять этот Киерко!
Все наблюдала – внимательно: комнатки – пестрые, синеполосые, в клетку; в окошках – надувшиеся синевеи хорошеньких шторок с ландшафтами неба под ними и с белыми мелями вместо реки пересохшей; печной изразец – с вавилонами: синий.
Мадам Эвихкайтен в батистовой кофточке, беленькой, с синим горошком, овеянной кружевом, иссиня в синь дешевела нервической, плохо разыгранной томью.
Лизаше хотелось воскликнуть:
– Ведь экая дура с претензией!
А приходилось зависеть от этой галданистой дамы с зефиром, из Вечности в Вечность способной взорвать; за стеною Лизаша не раз уже слышала этот ревёж на прислугу; казалось, что масочку кошечки (грубой работы) надел и ручищей метлу пред собою поставил, одевши в зефиры ее иль в батисты (от Цинделя), прездоровенный, дебелый бабец, неприличный, готовый всегда проорать; он порою, метлу свою шваркнувши в кресло, за креслом стоял преспокойно, сложивши ручищи.
Метла ж екотала из кресла нервически:
– Вы – посмотрите, какая я нервная: в кресло упала, – от тонкости!
В кресле лежала метла, а не баба, которая этой метлою дралась.
Раз Лизаша сказала себе, брови сжав Робеспьериком (в юбочке):
– Выпороть бабу!
Мадам Эвихкайтен, насытившись криком, к прическе своей двухгребенной двуперую шляпу «блесиэль» приколов, с синим зонтиком, под бледно-синей вуалькой пошла па Кузнецкий; два ока – лазурились не на лице, – на безе; вся – такой разливанный эфир.
Баба – злая, двужильная!
С ней у Лизаши уже начинались забранки; мадам Эвихкайтен двугубою дурою фыркала два уже дня на нее (конфиденткой не сделали); едко Лизаша кривела улыбкой; чтобы досадить, свой окурочек тыкнула в бантом украшенный синим цветочный горшок – вместо пепельницы: предрассудок сознания!
И, нахлобучив беретик, – на улицу: в платьице из черношерстой материи; шаль желтокрылая в ветре плескалась; за ней; кто-то вслед посмотрел, плотоядно почмокав губами, – с лицом черномохим (наверное – пере).
Обращала внимание девочка злая с лицом перекошенным, дряблым: в морщинках.
3
Москва – страшновата: гнилая она разваляльня в июле; душевный валёж открывается под раскаленными зданиями.
Были моркие суши и бездожи; камни зноились; воняли гнилючие дворики; сваривал люто меж мягким асфальтом и крышею день: люди жаром морели; из чанов асфальтовый чад поднимался над варевом тел человечьих.
Лизаша мертвушей свалилась в валеж многорылых людей (от различных углов – до различных углов): без конца, без начала, без смысла и без перерыва; дырявый картузик – за горничной в ярком, оранжевом платье, в чулках фильдекосовых; тихий нахальчик, хромающая деревянная ножка; рукач и глупач пиджачишками запетуханились в пыли – под пабелки дома, которые там пообсыпались: красный кирпич улыбался; а пастень от дома напротив ложилася синею плоскостью: наискось!
В жалком, прочахленьком сквере устроили «лето в деревне» над выплевом семячек, над апельсинными корками, под иллюзорной акацией с серым от пыли листом, поднимавшимся под теменцы поднебесные: в городе пылями сложено небо.
Лизаша присела на сквере.
За сквером просером пылел тротуар; и хрипела шарманка, которую мальчик недобрый и хмурый вертел, – черноглазенький: знать, – итальянчик.
От лавочки ближней послышалось ей:
– Посмотрите: хорошенькая!
– Где?
– Да – вот.
– Зеленушка-то?
– Косы какие.
– Помилуйте, – что вы: мерлятинка, дохлая мушка; в морщиночках!…
Криво себе улыбнулась.
И вдруг захотелось – до дна унижения: стать побирушкой; с рукою протянутой стала она, вблизи лавки с материей, где разливался канаус вишневый и где брюходум за прилавком – отщелкивал: из мухачей; дама в платье бережевом ей положила копеечку; более – не подавали: какой-то сердитый, в очках, подмахнул ей рукой:
– Как не стыдно: одеты, а – просите.
Кто-то зашел в подворотню; стоял у стены – спиной к улице: вышел; и с жестким упорством взглянул на Лизашу; достал кошелек; вынул трешницу; в воздухе ей помахал; подошел – прошепнуть, озираясь испуганно, ей предложение гнусное: волк; мы по жизни проходим волками, и жизнь есть волковня (пора бы, пора ее – к чорту!).
Взглянула – волчонком: бежал без оглядки.
____________________
Вот стеклами черных очков кто-то мимо тащился, такой долгорылый, такой долгорукий; штаны – бахромели, атласились: драные; колким, щетинистым волосом бритые щеки синели; измятая, широкополая шляпа стенила нахмуренный лоб; не глаза, а трезубец морщин между глаз на нее поглядели знакомо; жарища, а он для чего-то на плечи накинул свой плед, в него спрятавши губы, ее искусавшие.
– Он!
Не заметил ее; если б даже заметил, то – что ж? Чуть не вскрикнула; и – припустилась за ним: их трамвай разделил.
По десятиголовику, севши направо, налево, – там мчались, а в центре стоял липень тел, уносимых вдоль улиц.
Искала на той стороне тротуара «е г о»; отыскала: «он» клип в многоножку! и с алкоголическим видом тащился – гирявый, безбакий, завеющий в пыль ртом беззубым (а был – долгозубый); под баками мыслились полные щеки; теперь – обнаружилась вся худоба; прососалась, ввалившись, под носом губа; и – пропятилась нижняя челюсть (снял – верхнюю); бросил безвозрастный, идиотический взляд свой, – растленный, разъеденный едкой душевной Сюлезнью.
В кривом переулке, куда он свернул, – желтый домик под вывеской красной «Распивочное заведенье» – выбрасывал гамкалу пьяного, крывшего словом последним полицию; скрылся в дверях, где стоял винный крик.
И – мелькнуло:
– Свинья – найдет грязь! И кричали в дверях:
– Добрый день вам, паршивчики!
– Парочка!
– Боров да ярочка!
– Кутишь?
– С бабеночкой: но без ребеночка!
Холодным, липким покрылась; глаза – растараски – не видели:
– Что, если… если…: с ребеночком?
Он – сел над водкой: мертвяк мертвяком.
Она – прочь: поскользнулась, размазав ногою коричнево-желтые вони; уж черные пятна в пролетах стенных обнаружились.
____________________
Пахли ванилями щеки мадам Эвихкайтен; а пестрой синеполосое платье ее шелестило под пестрою, синеполосою скатертью; тихо Лизаша просела в тенях своим дичиком, – остреньким, злым, точно сжатый до боли сквозной кулачонок: с заостренным носиком, точно у трупика; пятнышко, точно знак адский, сбагрилось на левой скуле.
В ней кипел чертовак.
4
Перегусты зноилися облаком; день был – парун; разомлели от жару; и зори – булаными стали; казалось, что дней доцветенье проходит – в дымленье.
Горели леса под Москвою.
В харчевне алашили.
Кто-то, надевши очковые стекла и витиевато запутавши ногу о ногу, немытыми пальцами муху давил: выдавался пропяченной челюстью.
Неосторожности!
Выголодал себе нищую жизнь; ну – и что ж оставалось? Дворынничать! Носу не сунешь к Картойфелю, родом из Риги: так все изменилося; фон-Торфендорф, ликвидировав спешно дела, перебрался в Берлин; а «Мандро и К°» (вот – Кавалевер – шельмец!) – превратилась в три дня в «Дюпердри и К°»; ныне она поднимала газетный гал-дан, что Мандро уворовывал деньги «Компании».
Жертва!
Они теперь выкинули эту кость, – «фон-Mандро», – прицепившись с удобством к «несчастному случаю» (дочь изнасиловал!).
Пуанкарэ собирался приехать.
Да, да, – перекрасились!
Челюсти сняв и надевши очки, поселился в «Дону», в меблированных комнатах, что на Сенной; запирался в дрянном номеришке; из водки, корицы, гвоздики и меду варил род глинтвейна себе, наклоняясь над миской в дымящиеся, душепарные запахи; а из паров иногда перед ним скреплялось пятно в черных крапинах.
____________________
Это пятно в черных крапинах часто являлось из слоя колеблемой желченн, – точно воды; выяснялася склизлая шкура, как будто лягушечья; ширились пристально два умных глаза: меж ними же – нечто, как клюв попугая; под взбухнувшим туловищем полоскалась как будто нога, или – хобот протянутый: щупальце!
Спрут!
Этот спрут, появившися в зеркале, стал появляться в расстроенном мозге безумного доктора Дро; созревало решенье:
– Да, да!…
– Остается – одно!…
____________________
Здесь заметим: он жил с документом на имя какого-то доктора Дро; и – свистульничал, праздно слоняясь по улицам; стал он дневатель бульваров (дремал на скамейках); ночным бродуном волочился без цели.
А то – гиркотал в кабаках.
Стал без челюсти он, без волос, без нафабренных бак; без квартиры, без «Дома Мандро»; хорошо еще, что голова оставалась; ведь мог оказаться безглавым: за челюстью снять с себя голову, чтобы замыслить спиною; по правде сказать: на спине проступило лицо, – сумасшедшее, доисторическое, «м а н» в Мандро – провалилось в спинные какие-то вздроги, в сплошное, безумное «дро»; «вместо» «ман» (головы) – дыра: дрог позвоночника. Стал доктор – Дро.
«Доннер» – действовал, переполняя всю душу ему не присущею силой, ему не присущею яростью; «Доннер» гремел над Европой!
____________________
Был Киерко прав.
Пауки пауков – поедят; «Доннер» съел фон-Ман-дро – без остатка: съел миф паука пауков; «Доннер» – гибель Европы; в фантазии бреда Мандро вставал Шпен-глер: до Шпенглера.
«Спрут», появившийся в зеркале, – гибель губившего мифа о Доннере (в нем же и гибель Мандро); здесь снялась амальгама с сознанья (разъялись пороги сознанья); так зеркало стало стеклом, пропускавшим сквозь «я» жизнь какого-то грозного «мы»; это «мы» выходило теперь из подпалов мандровской квартиры; «квартира» сознанья – разъялась.
«Спрут» – грозная фантасмагория: имагинация близящейся социальной катастрофы.
«Доннер» в Мандро стал – дырою; а дом на Петровке в четырнадцатом году отразил состоянье Европы; да, да: в самом центре Москвы, – Москвы не было; были – Париж, Берлин, Лондон; и – даже: уже был Нью-Йорк; и под всеми под ними – поднятие лавовых щупалец, с центра подземного к периферии: к московской Петровке.
Москва, как и Лондон, была лишь ареною схватки чернейшего интернационала с его разрывающим, с красным.
– «Москвы»-то и не было!
Был лишь роман под названьем «Москва»; за страницей читалась страница; листались страницы; и думали, что обитают в Москве; в эти годы «Москва» революции – да! – обитала в Лозанне, в Монтре, в Лезаван, в Циммервальде, быть может, в Женеве, в Нарыме, во льдах, – где еще обитала она?
Юго-Славия, Прага, Берлин, – обитали в Москве: на Петровке, в районах Арбата, Пречистенки.
Повернулась страница: «Конец»! Год издания, адрес издательства: только.
____________________
Конец!
Оставалось последнее средство: разбои, воровство; и – айда за границу; и – вспомнился – Мюнхен; вела Барерштрассе на площадь цветущую, где – обелиск, где и домик, запрятанный в зелени; здесь жил известный ученый и автор «Problem des Buddhismus», вплетавший свое бытие, никому не известное, в миф, возникавший в одном одичалом coзнанье.
Айда, – за границу!
К кому-то он хаживал, впрочем: и кто-то достал документик; и паспорт готов был достать заграничный; вы спросите – кто же? Я, автор романа «Москва», о героях романа собрал много сведений, правда: но – не вездесущ я; не знаю, – кем был этот «кто-то», готовый спровадите Мандро за границу, дать крупные суммы ему, чтобы там, за границей, он мог завести вновь «мандрашину» – под непременным условием выкрасть какие-то там докумены. Кем был этот «кто-то» – не знаю; но знаю, что жил на Собачьей Площадке.
____________________
Сегодня, в харчевне, – за пятою «водкой» опять появилось пятно; и представьте, – оформилось: в первый раз в четкий, весьма прорисованный образ: и образ был – «старец»: ацтек, мексиканец, атлант, – кто его разберет! С бородою седой, без усов, с развевающимися седыми кудрями, в плаще – серо-черно-зеленом, с отчетливо желтыми вкраплинами; а в руке его был страшный, желто-оранжевый жезл; этот жезл поднимал он над жертвою…
– А!
Оставалось – одно; оставалось – одно.
____________________
Есть возможность понять этот морок: пары алкогольные!
– Водки еще!
Дали водки: стаканы и дзаны; показывали руками на «доктора Дро»; раздавалось – оттуда, отсюда – отчетливо:
– Во-ка!…
– Смотри-ка – какой!
– Рожу выпятил!
– Дока.
– Оттяпает.
– Форточник, – что ли?
– Бери, брат, повыше: фальшивомонетчик!
Он – встал, расплатился; и с алкоголическим видом покинул харчевню; пошел вислоногим верзилой: одежда – с чужого плеча:
– Поскорее бы в Мюнхен!
Бежал переулком; в окошке увидел глазетовый гробик; и – вздрогнул: мальчонок! Бежал переулком; за ним – бежал шпик; просмотрел все глаза: потерял.
5
Собирался кружок.
Переулкин вошел, весь саврасый, кося светлым глазом; он лапу свою протянул – не ладонь; была теплая.
– Будете слышать о нем! – зашептала Лизаше Харигова.
Деятель громкий Китая и Афганистана, – его ль вы не знаете? Слово его в наши дни превратилося – в лозунг народам востока; с ним Ленин считался; тогда же, – он прятался: по огородам; капусту сажал; загудел с Котлубаниным; слышалось:
– Сад… Садоводство… Сады!
Прибежал меньшевик Клевезаль (с мягкой гривой каш-тановой); с ним – Гуталин; приходили: Сергей Свистолазов, Ипат Твердисвечкин, Планопов, Мартынко, Мамзеева, Лейма, Ураев, Прозыкина и Сатисфатов.
Лизаша сидела такой деревяшкой проструганной: не выносила еще она дня; становилась зеленой и хмурой; ее – не заметили просто; и спорили о подоходном налоге: все – цифры да термины вместо понятливых слов; Гуталин – говорил; Клевезаль – возражал.
Двери настежь разинулись; и – светло-серенький, быстро взглянувши на часики, быстро какой-то вошел: и глазок – светлячок – на Лизашу защурился, затрепетав с подмиганцами; вспомнила: виделись, но – при других обстоятельствах: в день незабвенный: в «Эстетике» виделись!
Кто-то воскликнул:
– С часов ваших, Киерко, солнце сверять было можно бы!
Киерко? Вот он какой!
Он поежился левым плечом, глаз пустил в вертолет, заложив свои пальцы за вырез жилета, края пиджака оттопырив; внимательным глазиком быстро порхал вкруг Лизаши: э, – как раздурнилась, просунулась: кожа да косточки, – странное зрелище: юная девушка горбилась, точно старушка: лицо собралось в кулачок.
Тут к нему подошли – сообщить: Псевдоподиев в ночь арестован: и Клоповиченко сидит.
– Эка, – ну-те-ка, – быстрый закид головы выражал непреклонную волю:
– Чудно создан свет!
И превесело дернулся, трубочкой выстукав:
– Все вот – с «авось» да с «небось»: доавоськались.
Набок просел у окошка задорною лысинкой; кстати: при самых ужасных известиях трубочкой стукал о стол он с улыбкою:
– Ну-те же – что: пустячок!
А потом «пустячок» он продумывал – днями продумывал, вытянувшись на диване и похая трубочкой; вновь выходил, взяв решенье, которое и доводил до действия: Пэс, Твердисвечкин, Сергей Свистолазов, товарищ Харитова, Грокина.
Киерко ей показался живцом: стало как-то уютно: чуть – жутко; чуть – сиверко: Киерко – сиверко: «эс», «эр»; да-да: с-е-с-е-сер. Он щипал бороденку, – такой узкоглазый, совсем светло-серенький – в вырезе светлом оконном, откуда порою бросал только реплики:
– Э, – дешевень!…
– Ну-те, – смерти бояться, – на свете не жить.
– Иностранными – ну-те – словами не жарьте. Бросал поговорочки, дзекая, как белорус: мелочишки, штрихишки в наляпанной быстро картине являли прогноз: непреложный; казалося, что суетун – глубоконек. Сидела задумой внимательной.
Киерко!
6
Все расходились.
Он, выхватив свой чубучок, очень резко приблизился, точно боялся с Лизашею встретиться: точно за то, что она протерпела – реванш его ждал от нее; посмотрели они друг на друга: бровь в бровь; и – глаз в глаз; она – встретила тихо, с большим любопытством.
– Товарищ Харитова мне говорила о вас; ну-те, – книжечки я передал.
Зауютил дымочком и фразой висячей: смешно, жутковато; и – «киерко».
– Ну-те, – читали?
Она отвечала лишь вздергом плеча: распустив свою юбку, из глаз сделав жмурики, села пред ним на диванчике, – ножки калачиком.
– Надо б! Устроил дымарь.
Эвихкайтен вошла; и, задергав плечом, вынул трубочку:
– Вы уж простите меня: старый дымник!…
Лизаша подумала:
– Он же – не стар.
И вторично подумала:
– Что ж это я, – о нем думаю.
Вдруг потянулась к нему папироской своей:
– Закурю уж и я.
Тут невольно заметились Киерке: синие жилочки вспухли на ручках; закрыв свои глазки, пустила дымок: лед был сломан.
Мадам Эвихкайтен, подмазав губу, подсурмив свои брови, – ушла; и Лизаша глядела на небо в окошке: там, где – голубое, все – синее, темное: глуботина, глубина, бездна, пропасть; да, небо – расколото: «богушкою» называла она задушителя жизни.
Дымок облетающий стлался волокнами.
– Ну-те, – верьте: то все – забытное!
И вертко прошелся он, похнувши трубочкой; но – забелела в ответ:
– Нет, оставьте: не напоминайте!
Глаза ее, мутные вытараски, разбежались в фигуры обой светло-синих.
– Вы славная все же девчурка! Она на него просияла так жалобно.
– Ну-те, – отец ваш гадыш; вы в «Эстетике» были в сердцах у меня: ну и – что ж? Сами поняли!
Вытянув шею, стрельнула дымочком.
– Вас строй буржуазный зашиб!
Дернул лысинкой – вкривь:
– Мне Анкашин Иван говорил.
– Кто?
– Анкашин, который у вас чистил трубы.
Припомнила свой разговор прошлой осенью – с водопроводчиком о царстве в «там» («сицилисточка, милая барышня, вы»): стала быстро вертеть папироской, любуясь спиралькою огненной; он, заложив свои пальцы за вырез жилета, о вырез жилета бил пальцем.
– Анкашин в контакте с Дергушиным был это время; ну – вот.
Дернул лысинкою – вкривь: моложаво и лихо.
– Я – все о вас знаю.
И вдруг безотчетным душистым лучом – через все – ответила улыбкою Киерко.
– Благодарю!
– Ну-те, – вас сведу к нашим: все – бойкий народ!
И под веко зрачок укатнул: поглядел на нее лишь белком; точно глазом, ушедшим в сознанье, ее уносил он в сознанье; мерцала глазами в открытые бельма; моргнул ей: глазенок, глазок, глаз, глазище!
И снова – глазенок.
– Ну – так: мне – пора.
Цепенела за думой, – с открывшимся ротиком.
____________________
Узкобородый, весь серенький, верхоширокую шляпу надел, завертев двумя пальцами тросточку; дверь за собой захлопнул: бабац!
День – не день: варовик; мимоходы: многонько людей; и зрачок как сверчок, заскакал под подтянутым сереньким небом; бежал переулками; пьяница, мимо идущий, стыдя-ся, – снял шляпу.
– Ведь вот, Николай Николаевич, – в виде каком! Его – хлоп по плечу:
– Ты – свищи, брат, пока тебе свищется; а перестанешь свистунить, – вали: дам книжонку.
И – мимо!
С собрания шел на собрание; был человечек он свальный; где свала людская – там он; или – где-нибудь рядом: сверчит, свиристит и цурюкает, пыхая трубочкой, и – добивается правды.
Морели прохожие; как-то не верилось: осенью этой опять гимназист подремнится, упряжится, взвесит свой ранец и с ранцем по улице пустится; синей фуражкой студент запестрится; провинция бросится валом хорошеньких барышень: курсы – Алферова, высшие, педагогические; в своем доме на Малой Поляне купчиха Арбузова снова утонет в перине.
И – нет!
Будет – плакать по сыне, который в мазурском болоте – погибнет; все барышни корпии защиплют; студент – зашагает с ружьем.
7
Восхищалась Лизаша – Маратом; всех ближе ей стал Робеспьер: укрепилось стремление: мстить; возродилась для мести; достаточный выпрыг из старого мира уже испытала она, чтобы ясно сознать: этот мир пора – рушить; скорее же схватить красный флаг:
– Да потише же, – будет ужо: погодите вы, – ну-те ж; попыхаем мы над Москвою не трубочным дымом, а пушечным дымом…
– Когда это будет, – когда?
Про себя же решила: убьет генерала: потом – взяла выше: царя!
Эти мысли поведала Киерке:
– Ну-те же вы, – анархизм-то оставьте: нужны планомерные действия масс.
Он вкатнул-таки мысли в нее, в ее мысли вмесился; Лизаша – поверила: дерзкое слово; на вещи имел светлый взгляд.
Перевез ее к Грокиной: ей не хотелось зависеть от базы с галданом и с «нервом», толстейшим, которым стегала прислугу:
– У Грокиной будет вам проще; и все же – на воздухе! Грокина летом в пристроечке дачного дома жила; самый
дом, пустовавший, был каменный, кремовый, с черной железною крышей, с желтком лакфиолей на клумбах, с песочною усыпью передтеррасной дорожки, где бегала пеночка, малая пташечка; первое, что поразило: по проясню мчится стрелой прямолетная птица в вольготные воздухи.
Все-таки, – как хорошо!
Тут по лобику журкнул прощелком светящийся в воздухе жук.
В желтый, медистый вечер под запахом липовым все-то звенело кусающим зудом: драла, драла руки; и – ножки: драла-драла – в кровь!
____________________
Молчаливая Грокина, ум дидактический, Киерко, видом своим игнорировал ее горе; и не докучали ей вздохами, делая вид, что разъезд ее чувств – дело плевое:
– Глубокомыслие нервов есть кожная, ну-те, – поверхность: вы – мыслите, вольте; а мистику – бросьте.
Сломал ей двуветку: и – подал; звенело из воздуха; «шлеп» – комар: «шлеп»!
Разонравилась мистика: вот уж казалась себе «глубеникою» в доме Мандро; он – увидел во всем лишь «клубнику»; а Киерко ясно открыл ей глаза; незаметно диктовщиком сложных процессов сознания, в ней протекавших, он стал; можно было подумать, что – женоугодник; когда появлялся, как будто светины устраивал; мутный, болезненный взгляд прояснялся ее.
Раз зашел Переулкин; повел их гулять; и земля под ногой залужела; и пахло какою-то терпкою горечью (голыми ножками – как хорошо пробежать). Переулкин присел под ракитный ивняк бережков, над студеною и живортутной водицею (день ее ртутил).
– Здесь с неводом, что ли, пройтись бы, да – рыбу сакнуть!
Как увидит где струечку, лужицу, – сядет на корточки, руки под боки: и – думает: есть ли здесь окуни, есть ли плотва; поглядишь; и – зарыл червячков; с ним Лизаша ходила на прудик: сидела над удочкой: «шлеп» – комар: «шлеп»!
____________________
Николай Николаевич Киерко раз увел в поле: про экономический фактор развития ей проповедовать:
– Массы…
– Карл Маркс говорит!…
Из лазоревых далей навстречу им золотохохлый бежал жеребенок.
– Смотрите-ка, – остановила.
И – видели; вот на лазоревом – состренный черч изрыжевшего резко трижердья; меж двух безызлистных жердинок – серебряный изблеск живой паутиночки; выше – два листика: передрожали как в воздухе:
– Как хорошо! Говорили.
Ясней открывалась картина ее проживания в доме Мандро: этот «дом» и есть класс, придавивший, измучивший – в ней человека; «русалочка» – классовый выродок; выбеги к солнцу из дома Мандро оказались стремленьем к внеклассовой жизни; и – знала теперь: через все – человечество катится к солнцу.
– Конечно же, ну-те, – то есть социализм… Кампанеллу-то все же оставьте: и птичьего там молока не ищите.
И Киеркин малый глазенок стал – глаз: стал – глазище (всего лишь на миг): и – присел: в переплеске ресниц; и заря загоралася; перелиловилась пашня; на ней бурячок-мужичок в разодранной сермяге, надевши зипун, зубрил плугом лиловые земли; виднелась вдали редкосевная рожь, синевей васильков.
И уж перепелилось над нивами.
____________________
Киерко бережно стаскивал с переживаний Лизашиных мистику, точно змеиную шкурку (облекшую в ней социальный каркас); и в Лизаше проснулся – жизненыш; она – продернела, прокрепла лицом; что лицом подурнела, то – вздор; вся красивость-то – кожа (красивость мадам Эвикайтен – не кожа, а кожная примазь): природа входила в нее; только вот – дурнота одолела: и – жаловалась:
– Надо, знаете, к доктору!
Были у доктора – с Грокиной: доктор сказал, что – беременна.
– Что же, – пусть так!
____________________
Вечерами сидела она под окошками; тучами – полнилось: молнилось; вспыхивал – сумерок; в окнах бушуяли бросени листьев и заблесты лунного света; и веяло в сад – васильковною нивою.







