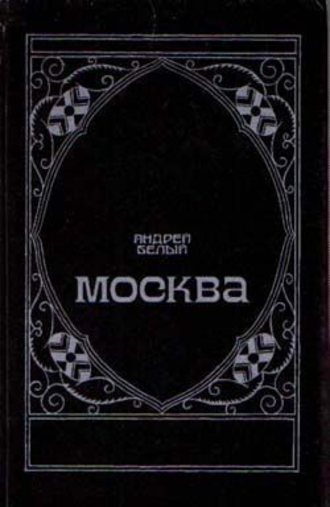
Андрей Белый
Москва под ударом
14
Подъезжая к углу Табачихинского переулка, заметили: выступил, точно загокал кто хохотом, ржавистый, красно-железистый отблеск; и рыжие бронзы взоржали на небе: в прощепе зари; это – солнце сказало последнее слово свое; с тротуаров затыкались пальцы под небо:
– Смотрите!
Над ними валилися замертво там – слой за слоем – стоялые ужасы, чтоб оборваться громами, взахлест косо-хлестить тяжелою градиной величиною с яйцо: будут ужасы! Да, – под кровавым ударом Москва, как ударит мечом красноярая молнья.
Сворот – в Табачихинский!
– Тпру!
– Что такое?
– Скопленье.
– Скандал или…
– Видно, пожарище!
Бросивши плату, профессор – с извозчика: в толоко тел; и за ним – дед Мордан; взворкотался ребеночек: взлаял большой барабан: -
– джирбамбан!
____________________
Из Китайского дома в Кривой переулок, к квартире Коробкина – шествие; бред попросился быть в быль!
Кавалькас, Людвиг Августович, – карличишка по прозвищу «Я ша» – в оранжевом, ярком жилете, в картузике, в белых манжетках, торчащих из черненькой новенькой пары, – торжественно шел впереди, вздернув шест, как хоругвь, с ярко-желтым плакатом; на нем – ярко-черные буквищи: вскрикой: «Спасая, – спасайтеся!»
А перед карлом горбищами зада подкидывал с видом надменным портной Вишняков, поворачивая свою «ижицу с ухами» – вправо и влево; большой барабан нацепивши на шею свою, с явным кряхом тащил барабанище, щеки надув пузырем; свою левую руку с литаврою блещущей вскидывал в воздух он; правой сжимая короткую палку с помпоном, ей бил, что есть мочи, в прожелклую кожу, отчетливо строясь из рыжего фона небес серо-грифельным цветом истасканной пары.
Он лаял большим барабаном.
За ним (руки с желтою палкой – в карман!), в мужской куртке, в зеленых штанах и в зеленой полями заломленной шляпе шагала княжна, забасив, точно козлище:
Господи, мя не отверзи!
В душемучительной мерзи –
Червь, древоточец могил –
Прежде я, пакостя, жил!
И за нею, подхватывая тот неистово дикий мотив, выступали: веприхой – старуха и скромного вида чиновник казенной палаты: без шапки, линялый какой-то, со взлизины пот отирающий: можно заметить, – уроды природы.
За ними валила толпа – с подворотен и с двориков воньких; и кто-то подтягивал визгло, – таким скрипокантиком
Став на прямые дороги,
Как бы на чортовы роги
Не напороться бы мне!
Сердце очищу в огне!
Барабан, дурандан, разломался огромным бамбаном под небо; и все продолжали выскакивать и из открытых окошек высовывать головы.
Сшедши из выспренней выси,
Господи, мысли возвыси:
Ясно играющий рай –
Нам, негодяям, подай!
– Вося!
– Ах, – матушки!
– Вося – негодники!
– Про негодяйства рассказывать будут свои…
– Что ж полиция смотрит?
– Молчи!
– Будут средства показывать: что от чего!
– Стало, – лекари?
– Вылечат, – как же: у карлы-то нос, поди, – где? Ась? Не вырос!
– Дуреха: носы не растут, как грибы!
– Коли знали бы средства, так выросли б!
В облако суетных пылей
На животы наши вылей
Над вертипижиной злой –
Свет невещественный свой!
– Говоришь, что от носа?
– Чего еще!
– От животов они лечат.
– Княжна-то, – поет про свое, не про ихнее.
– Значит, – француженка: «жю» да «зиду»!
И действительно: ритм разбивая и этим фальшивость высказывая, в общий хор совершенно отчетливо врезалось:
Же ремеде си ду, –
Кере де Жэзю! [33]
Не к квартире профессора шли: завернули на двор, что напротив, и расположились как раз перед желтеньким домом; за ними кривился сарайчик ветхий с промшелой, ожелченной мохами крышей, с промшелым забориком, с прелою кучей, где мусоры розовые или серо-синявые, – гнилью цвели; вся трухлявая гнилость кричала из черно-зеленого крапа предметов на желтом на всем, – выпирающей ржаво-оранжевой рыжью.
Стоял вымыватель помой, рот разиня; из фортки карюзликом ржавеньким выглядел Грибиков; ярко Романыч рыжел своей рожей зырянскою:
Старец во вретище грубом
Вот уже ставит под дубом
Светом наполненный крин.
Дуб – старолетний: Мамврин!
Кавалькас кричал красным жилетом; лицом протухающим явно отсвечивал в празелень; ярко-зеленой штаниной кричала княжна; Вишняков зажелтел, как имбирь; механически как-то профессор со всеми на дворик затиснулся; не Вишнякова узнал, вспомнив все про письмо; захотелось, продравшися через толпу, разузнать поподробней, кто – автор; поэтому он и затиснулся; можно было спросить откровенно: да – старчище, пледом закутавшись, зеленогорбый какой-то, под черною, выгнутой шляпой стоял за спиною его, прижимая дубину к груди.
Он нашептывал:
– Коли погоните, буду шататься замокою!
Вдруг показалось профессору, что Вишняковым он узнан; ему подмигнуло значительно очень портновское око с синяво-сереющей кучи взопрелого мусора:
В этой раскинутой куще
Нас посетит вездесущий.
Тартаттрарары! Гром: песнь – рухнула; без продолженья; кидалась седая старуха космой: на кого-то:
– Была проституткою я: а теперь я – спасаюсь!
Линявый чиновник казенной палаты ветшел рядом с нею.
Излаялся вдруг барабан:
– Джам! Взблеснула литавра.
– Бамбан!
Задубасила палка с помпоном.
Тогда Кавалькас исступленно воспятил глаза и воспятил худую, изжелклую руку под меркшее все; его шест колыхался полотнищем желтым; и – черною вскрикою.
– Я, Кавалькас, Людвиг Августович. Я – был с носом: показывался из-за роста в Берлинском Паноптикуме. Я – был с носом: остался – без носа.
– Лишил меня носа господь!…
– Но я – радость нашел.
– И как сказано: коли десница тебя соблазняет, ее – отсеки…
– Коли око в соблазн тебя вводит, то – вырви…
От тучи все серое зазеленилось мертвеющим отсветом в лицах; и в лиц выраженье стоял мертвый страх. Озорник отыскался; выкрикивал:
– Нос соблазнял, дескать: взял, да и вырвал!
– Ты ври, да не очень-то!… Женщина – заголосила:
– Что ж, он проповедует носа лишение? Грибиков – не удержался; и – выщипнул в фортку:
– Сам вшонок, а как зазнается!
– За это и бить его!
Карлик с желтевшим плакатом, воздетым на палку, – свое:
– Сестры, братья!
– Хотя я без носа, однако я – жив!
Небо – надвое треснуло красным зигзагом; и тотчас, как пушечный выстрел, гром, молния – вместе! Все – вприпуски тут!
15
Косохлест замочил подоконники; там горизонтище злел, – чернозубый: фабричные трубы – на желтом на всем!
Чуть не кланялся в пояс Мордан; и подумалось:
– Чорт подери, – дограбастался все-таки он до квартиры!
Сам – вел; оставалось – одно:
– Э, ну, что там – входите!
Старик же во вспыхе лиловом глазами, укрытыми стеклами, – сжульничал; крыша листами железными грохнула в ветре.
И – гром!
____________________
Черноногие стулья в передней стояли все так же; но точно чернильного тонкой штриховкой по желтому полю прошлись; меж прожелченных контуров скважины с льющимся немо потоком чернил, где сидели угрозы; испуги – выглядывали.
Странно: гиблемым выглядел собственный дом!
Прививаясь к профессору, вкрадчивым влазнем вошел дед Мордан; он глядел волколисом; дручил своим видом (дручение это давно началось); охватили – безутолочи; забеспокоился что-то по комнатам дедушка; из-за страхованием веяло (в каждом углу из теней страховщик поглядел, там сидевший).
«Щелк-щелк» – электричество вдруг осветило Мор-дана; он дылдил из тьмы коридора, и черную яму беззубо показывал, – вовсе не рот; «щелк-щелк-щелк» – электричество!
Все – село в темь.
Этот вбеглый старик беспокоил все более, напоминая профессору «тот» силуэт; он – всамделишный ли; или, или, – что «или»?
Вспых: пауза… гром!
Вся квартира стояла в чехлах несволочных; затопали безупокоями комнаты; душненький припах стоял нафталина; безутолочи! Было видно в окне: косохлестило над за-бурьянившим двориком.
– Экий жердило!
Как будто пришел – окончательно с ним поселиться; и руки свои потирал и вывертывал шею из груди, как мышь озираясь.
Пройдяся вилявой походкой по темно-лиловой гостиной, он с видом нехитрым разглядывал долго гравюры и даже – прочел под одною: «Laboraetora»!
– Эх, эх, что за деи и что за затеи!
Но адресовалися взоры его не туда; и не то он разглядывал.
Будто из-под занавески просунулся кто-то, знакомый по Предам, – сказать:
– А я – здесь; я – пришел!
– Помнишь, – ты убежал: отдохнул без меня; и – забыл про меня; а я – ждал, а я – знал, что окончится все.
– Вот он – я!
Просел в тень: ведмаком!
И – взмигнуло из-под занавески: лиловая молнья!
– Вот вы, – раздалось из угла, – вы, наверное, – вы звездочет-с: ну, скажите ж, какая звезда привела меня к вам!
Екотал нехорошим, почти оскорбительным смехом:
– Не скажете: не догадаетесь!
– Что он такое плетет. Никакая звезда не вела: пришел – сам!
И сердило вгнетание странного взгляда, вгрызанье сло-вами во что-то свое, подоплеченое: чорт его знает!
16
Профессор пошел в кабинетик!
Коричнево-желтые там переплеты коричнево-желтого шкафа едва выступали под сумраком спущенных штор.
О, как странно!
Предметы стояли, выясниваясь из пятнисто-коричневых сумерок – желтыми пятнами, темными пятнами с подмесью колеров строгих, багровых, но смазанных желчью и чернью; казалось, что кто-то набросил на желтый, густой, чуть оранжевый фон сети пятен в желтых, и брысых, и черных, смешавшихся в желто-коричневый, просто коричневый, темно-коричневый, черно-коричневый цвет; эти пятна и плоскости странно жарели сквозь них выступающей темной багровостью: точно на тухнущий жар набросали потухнувший пепел; и пепел – окрашивал.
Только в одном не коричневом месте сквозь сумерек выступил темно-багровый предмет; и он жег, как жегло…
Отогнул занавеску; за окнами – мир чернодырый; дождь – кончился; брысая русость предметов нахмурилась, засеробрысилась; черная черточка выступа дома напротив темнотною плоскостью стала; сливались все плоскости; в них уж открылись глазеночки вспыхнувших домиков; весь переулок – безлюдил.
Профессор уселся весь желклый и горький, из тьмы выяснясь халатом своим желто-серым: в упорстве – понять что-то странное; ухо подвыставил, – слушал: Мордан застучал сапожищами.
– Что это ходит он все?
Да и комнаты виделись – ясно: пещерными ходами.
Доисторический, мрачный период еще не осилен культурой, царя в подсознанье; культура же – примази: поколупаешь – отскочит, дыру обнаружив, откуда, взмахнув топорищами, выскочат, чорт подери, допотопною шкурой обвисшие люди: звериная жизнь, – невыдирная чаща, где стены квартиры, хотя б и профессорской, – в трещинах-с, трещинах-с!
Выйдешь в столовую, а попадешь из нее – неизвестно куда, потому что квартиры, дав трещины, соединились в сплошной лабиринт, уводящий туда, где, взмахнув топорищами, крытые шкурами люди ценой дорогой защищают очаг допотопный: в отверстие входа пещерного валится мамонт; над всеми же, – туча: потопная!
Вспомнилось: есть ведь битка у него; стал битку он разыскивать: чорт подери, – затерялась!
Да, люди, свои перепутав дома, натыкаются в собственных комнатах на неизвестные комнаты: ты вот пойдешь к Василисе Сергеевне в спальню, а – может быть, там обнаружатся брюки Никиты Васильевича; иль, – полезешь в постель: Анна Павловна вылезает с мыком; где – сбилися в кучи; а где – обнажились пустыши гулких квартирных сплетней, где – комнаты, комнаты, комнаты, комнаты, где ты, – бежишь – бежишь: нет – никого: гулок шаг; бесконечность несется навстречу, из трещины черной, и сзади – она ж догоняет; из трещины – в трещину; лезет навстречу, как мамонт; и вориком пойманным из-за шкафов ухо выставит.
– Кто вы?
– Да так себе я!
– Как вы здесь очутились?
– Не знаю и сам!
Все наполнилось жутями и мараморохом,.поднятый странной компанией, вставшей из трещины, точно из гроба, с плакатами желтыми:
– Мы, успокойтесь, – из трещины горизонтальной.
А что, если вылезут из вертикальной: из центра подземного.
____________________
Скрипнула тут половица: Мордан, – из дверей. Он в оранжевом вспыхе на миг лишь возник, показавши оранжево-красный раздутыш дубины; он кинулся точно из мрака во вспых – головой, бородою, кудрями, плечами и пледом; и отблеск стеклянных, очковых кругов переблес-кивал; грозно откинутый лоб расходился, копаяся, точно червями, морщинами; в сумрак опять все просеяло: гром!
Старчище – грозный и скорбный; в руках его – силища, а вместо глаз – непреклонность.
– Вы что это?
Вышел из сумерек, зеленоватый, взволнованный и (нет, – представьте!) нахальный: над чем, чорт дери, он смеялся?
Испуг охватил:
– Вы, послушайте, – стойте: вы что? Подошел.
– Нет уж, – нет: вы подите себе посидеть! И – молчал.
– Я, вы видите, в корне взять, здесь – у себя! Он исчез.
Но профессор почувствовал, что ни о чем, кроме старца, он думать не может:
– Сидит, – чорт возьми, – не отправишь его!
Называл себя дедом; повадки не дедины; кто его ведает; да-с, страшновато; вдруг понял, – не «вато»: страшным-страшно!
Дверь коридора стояла открытой: и блеклые, черные тоны оттуда посыпались, как переблеклые, черные листья осин: перечернь прозияла, как будто из пола везде проросли великаны немые, сливаясь в сплошной черникан.
17
Он не мог успокоиться!
Крался из тьмы в тьму: подглядывать; видел: от всея чернобоких предметов рельефы остались одни, означаясь зигзагами брысыми отблесков (от фонаря переулочного); истончалася линия этих зигзагов в сплошную черну; ночь, чернильный и вязкий поддон, огрубляла штриховку предметов; где линия виделась, – кляксилось чернью; как будто художник, мокавший в чернило протонченный кончик пера, из чернильницы вытянул муху на кончике этом: и ею промазал рисунок предметов.
И кто-то таился в углу, дхнуть не смея: и длинную вычертив ногу, задрягал ногою; в руке прорицающей – гиблое что-то означилось; прочее лишь прокосматилось кучей из тени; открыл портсигар; вспыхнув в ночь, окружил себя дымистым облаком.
Странно взгигнуло безмордое что-то.
– Разоблачить, да и выгнать! Как выгонишь!
Дворника, что ли, позвать?
Но при мысли подобной убился: за что же?
Мордан привскочил: заходил как-то дыбом; с угла до угла загремел сапожищем, на что-то решившись; и – села дхнуть не смея.
Профессор докрался до шкафчика, вытащил ключик от двери балконной; и мимо Мордана – бочком:
– Вы поставили б там самоварчик. Сам – в садик.
Гроза – отступала; квадратец из зелени, сплошь обнесенный заборами, черной осиной шумел; он – к калитке она – заперта; перелезть – мудрено: (и при этом – железные зубья); хотелось крикнуть:
– На помощь!
И – пал на лицо свое: в думы о том, что – приблизилось что-то, что чаша – полна; шелестели осины об этом; он встал на скамейку; царапался пальцами о надзаборные зубья: кричал в темный дворик:
– Попакин! Ответила – молчь!
Только стукал из комнат шаг крепкий, тяжелый: из кухни – в столовую. Мраки воскликнули:
– Я!
– Кто же?
– Дворничиха!
– Приведите Попакина, пусть, в корне взять, этой ночью со мною на кухне он спит.
И откликнулись мраки:
– Он – пьян! Осветилась столовая.
– Вы растолкайте его!
– Растолкаю!
– Теперь – спать не время!
И дальние мраки из мраков ответили:
– Будьте покойны.
Профессор опомнился: страх не имел основания; ну – старец пришел; попросился; а все остальное – фантазии; Подро, прошел через открытые двери к себе на квартиру; Мордан его ждал; ну, – и пусть: ведь Попакин – придет; а Попакин – мужик с кулачищами!
Кто-то пустил его мимо себя, не скрываясь; и рожу состроил; хотя бы для вида прибеднился добреньким, как на платформе, хотя бы сыграл прощелыгу!
Нет, – делался чортом!
Попакин – не шел!
И не выдержав, по коридорчику, бегом, расслышав отчетливо, как самовар заварганил на кухне, – по лестнице – и верхнюю комнатку Нади (Попакина ждать), где настала великая скорбь, какой не было от сотворения мира, о том, что коль в эти минуты Попакин не явится, плоть – не спасется.
И – щупал свой пульс, вспоминая:
– Я странником был; и не приняли.
Принял, и что ж оказалось? Привел за собою он труп: мо где труп, там – орлы.
Кто-то вдавне знакомый пришел; видел, грудь – не застегнута; волос ее покрывал; он был черен, – не сед; и – обилен; жесточились дико бобрового цвета глаза; и – задергалось ухо:
– Ну, что же, профессор, – какая звезда привела, меня к вам?
Пальцы сняли с губы точно пленку.
– Прошу вас оставить мой дом.
– Это – дудки.
И пальцы помазались. – А?
И профессор от ужаса стал желтоглазый.
18
Портной Вишняков не мог спать.
Он, затепливши свечку, сидел на постели в подвальной каморке кирпичного дома, 12 (второй Гнилозубов), – калачиком ножки и голову свесивши промежду рук; его тень на стене закачалась горбом и ушами; докучливо мысли грызню поднимали в виске, точно мыши в буфете:
– Ни эдак, ни так: ни туды, ни сюды. Обмозговывал: не выходило:
– Ни – вон, ни – в избу…
Не смущался он тем, что гроза помешала сказать, как, спасая, – спасаешься; все разъяснится; он думал о старом профессоре, слушавшем речи «спасателей» вместе с седым прощелыгою странного вида; он видел – со всеми спасаясь от ливня: профессор в квартиру свою старца ввел – с ним замкнуться; ненастоящее что-то подметил во всем том случае портной; вспомнив все, что ему рассказал Кавалькас – о Мандро и о том, как поставлен он был в телепухинский дом надзирать за квартирой профессора, – вспомнив все то, взволновался.
Раздумывал, кем бы мог быть этот нищий, который ему не понравился; эдак и так он раскидывал: не выходило: по виду, как есть человек человеком, а все ж – никакого в нем облика не было: и выходило, что – не человек:
– Ни умом не пронижешь, ни пальцем его не протычешь!
Чутью своему доверял Вишняков; и о людях имел мысли ясные он; а тут – нате: на думах он стал: как на вилах.
И вдруг, соскочивши с постели, – натягивать брюки.
– Да, мир – в суетах; человек – во грехах.
Кое-как нахлобучив картуз и на горб натащивши пальтишко, горбом завилял – в переулок пустой; еще дождик подкрапывал; и фонаречки мигали о том, что от них не светло и прискорбно; прошелся и раз, и другой под квартирой профессора; дверь – заперта; за окошком, глядящим и проулок, под спущенною шторою – свет; в подворотне – мот дворника; стал под окошками, кряхтя: подтянулся и глазом своим приложился, стараясь в прощелочек сбоку между подоконником и недоспущенной шторой увидеть, что есть. Под окном – в землю врос; и справа ничего не увидел; потом он увидел: бумаг разворохи; расслышалось сквозь вентилятор (без действия был он): стояли немолчные, тихие стуки: и брыки, и фыки.
Сотрясся составом.
Ему показалось, что видит он дичь: точно баба набредила; кто-то, по росту – профессор, по виду ж – растерзанный, дико косматый, ногами обоими сразу в халате подпрыгивал, странно мотая космою; он руки держал за спиною, локтями себе помогая, как будто плясал трепака; рот ужасно оскаленный, будто у пса, кусал тряпку; зубищами в тряпку вцепился, и с нею выпрыгивал он – ерзачком, ерзачком; и пырял головою в пространство, как вепрь беловежский; пространство прощелочка не позволяло увидеть всей комнаты (виделся только бумаг разворот), а престранная пляска препятствовала разгляденью лица, рук и ног; только прядали – полы халата серявого; желтые кисти халата взлетали превыше вцепившейся в тряпку главы.
Вишняков отскочил перед диким, воистину адского вида балетом профессора, видимо прыгавшего в кабинете; никто с ним не прыгал; а нищего – не было:
– Что же это он, – с ума спятил? – подумал портной. И сперва было бросился к дворницкой; стукнул в окошко; в окошке – храпели; тут вспомнил, как дворник, Попакин, придя в телепухинский дом, рассказал «енерал» – не в себе: чудачок!
– Все чудит, суеты подымает; навалит бумаг; и над ними махрами мотает!
Подумалось: может, и правда, – махрами мотает; ответилось: что-то уж слишком мотает.
Тут свет увидавши в окошке у Грибикова, перешел мостовую: стучаться; и Людвигу Августовичу рассказать обо тем.
19
В кулаке у Мордана зажался ручной молоток; в другой – свечка; указывая рукой со свечкой на кресло, сказал он:
– Профессор Коробкин, – садитесь, пожалуйста: вы арестуетесь мною!
Профессор стоял растормошею – волос щетинился:
– Как, – я не понял?
Но понял, что «старец» – искусственный, что «борода» – приставная; запятился быстро: в простенок себя заточил; страхом жахалось сердце.
– Судьба привела меня к вам; иль вернее, – вы сами! От тени своей не уйдешь.
– А за грим «старика» откровенно простите; и – знаете что: отнеситесь к нему, как к поступку, рожденному ходом событий (о них и придется беседовать): вы, полагаю, – узнали, – кто я: я – Мандро, фон-Мандро, Эдуард Эдуардович.
Ухом прислушался: верно, Попакин идет.
– Мы – видались совсем при других обстоятельствах; я появился тогда очень скромно: ничтожество – к «имени», как… на… поклон; вы отшили меня… Но, профессор, могли ли вы думать, что первый визит мой к вам будет – последним визитом?
Старался он дверь заслонять: ну, как, чорт подери, он жарнет!
– Между нами сказать, – знаменитости в данное время влекут очень жалкую жизнь; они – щепки, кидаемые во все стороны вплесками волн социальной стихии; но, но – обрываю себя; буду краток: явился я, – с просьбой покорной открытие ваше продать одной фирме, – скажу откровенно теперь, – поглядел он лицом как-то вбок, а глазами – на сторону; и продолжал с тихой хрипою, точно комок застрял в горле, – скажу откровенно, что «фирма» – правительство мощной, великой державы… – тут сделал он паузу. – Были ж вы слепы, профессор, – не знаю, что вас побудило тогда пренебречь предложеньем моим; я давал пятьсот тысяч; но вы, при желанье, могли бы с меня получить миллион.
Ужасал грозный жог этих глаз; и мелькало в сознанье:
– Попакин, Попакин…
– Предвидя, что вы, как и многие, заражены предрассудками, – я «наше дело» поставил иначе; за вами следили; скажу между прочим: прислуга, которая…
– Дарьюшка?
– …была подкуплена!
Вихрем в сознанье неслось: из платка сделать жгут, да и кинуться: в лоб, между глаз, – кулаками. Казалось, что сердце сейчас запоет петухом.
– Я бы вас, говоря откровенно, сумел обокрасть, потому что могу и сейчас перечислить все ящики, где вы хранили бумаги.
Профессор схватился рукой за жилет и лицом закремнел.
– Я, когда посещал вас, то -…целью моей, между прочим, была топография пола и ящиков.
Где ж – язык, руки, ноги?
– Удерживал хаос бумаг; ну – представьте, что ваш я архив показал бы, а мне бы сказали: здесь главного нет… После многих раздумий, на время оставил в покое я вас; извините, профессор, – за тон: я хотел предварительно взять свою дичь на прицел.
Сатанел на стене его контур изысканным вырезом.
– Как вот сейчас.
И откинулся тенью огромною в стену.
– Все, все, что ни будет здесь, примет культурные формы; о, я понимаю, кто вы: при других обстоятельствах я бы сидел перед статуей бронзовой в «сквере Коробкинском»; вы уж пеняйте на строй, где подобные вам попадаются в зубы акул.
Все нутро надрывалося криком и плачем:
– Попакин нейдет.
Но профессор упорствовал взглядом, хотя – понимал: никого не дождешься.
– Я действую властью идеи, вам чуждой, но столь же великой, как ваша.
Профессора вдруг осенило, что вбитие слов превратится – в прибитие: все в нем как вспыхнет.
– Ваш план поднять массы до вашего уровня круто ломается планом моим: из всей массы создать пьедестал одному, называйте его, как хотите, но знайте одно: бескорыстно я действовал.
Он не хотел неучтивость показывать – при ограблении: действовал, как негодяй высшей марки:
– Но все изменилось, увы: вы, наверно, читали в газетах о том, что я скрылся; ну, словом: я – вынужден скрыться, себя обеспечить; и вот: я пришел за открытием; вы уж, пожалуйста, мне передайте его.
Захотелось рвануться, да руки железные вытянулись:
– Этой ночью займемся разборкою мы. Тут мороз побежал по спине, по поджилкам:
– Вы мне объясните, – где что; обмануть невозможно, кой-что понимаю: зимой я сплошь занялся изучением внешнего вида бумажек, попавших ко мне из корзинки, куда вы бросали; иные из них побывали в Берлине; надеюсь, – вы мне не перечите: времени много – вся ночь; к утру будете снова свободны. Ну, что ж вы, профессор, молчите? Профессор, – как взгаркнет:
– Словами – в ногах у меня, чтоб за…
– Как?
– Чтоб за пятку хвататься!
– Вы очень меня угнетаете… Я повторяю, – бояться вам нечего.
Слушали б издали, – думали б, что – балагурят; долбленье ж стола твердо согнутыми пальцами в такт слов ужасало:
– Ну, знаете, я бы не так поступил: все же путь, на который я вам предлагаю вступить, есть единственный; хуже для вас, если я… – ну, не станем… Прошу вас серьезно, – одумайтесь.
Вдруг, – как загикают дико они друг на друга:
– Куда!
– Я сейчас!…
Было ясно: профессор подумал было дать стречка; но он понял, – пошла бы гоньба друг за другом, во время которой… Нет, лучше – стоять.
– Вы чего?
– Ничего!
На обоих напал пароксизм исступления, с которым Мандро едва справился:
– Вы затрудняете форму, – гм, – дипломатических, – гм, – отношений… Неужто война?
Говорил, задыхаяся, – с завизгом:
– Страшно подумать, что может случиться. Профессор – молчал.
– Я не мог бы и в мысли прийти к оскорблению: я умоляю вас, – стиснул виски, трепетавшие жилами, затрепетавшими пальцами, – сжальтесь, профессор, над нами: и не заставляйте меня, – торопливо упрашивал.
Вдруг – прожесточил глазами:
– Могу я забыться. Я… все же – добьюсь своего: мон жет, дело меж нами, – вцепился ногтистой рукой ему в руку, – рванувши к себе, – ну, подите ко мне – да… до схватки, в которой не я пострадаю… Ну, что вы, профессор, – кацапый какой-то: ну, ну – отвечайте мне; ведь – человек я жестокий: жестоко караю.
Тут – он задохнулся от страха перед собой самим.
– Утром явятся, спросят, – а живы ли вы, а здоро? вы ли вы? И – увидят: еще неизвестно, что встретит их здесь.
Заплясала, ужасно пропятившись, челюсть: болдовню, ручной молоток захватил со стола, вероятно, чтоб им угрожать; в его лике отметилось что-то столь тонкое, что пока-залось: весь лик нарисован на тонкой бумаге; вот ногтем царапнется – «трах»: разорвется «мордан» из бумаги, – просунется нечто жестокое из очень древней дыры, вкруг которой лоскутья бумаги – остатки «мандрашины» – взвеясь, покажут под ними таящийся – глаз, умный глаз – не Мандро; заколеблется вот голова в ярких перьях; жрец древних, кровавых обрядов – «Maндлоппль». Он выкрикивал просто багровые ужасы – бредище бредищем!
Свечкой подмахивал у оконечины носа. -
– Ужо
обварю тебя, – пламенем, -
– чтобы взглянуть, что
творилось в глазах у профессора; освещенные свечкой, глаза закатились, как белки в колесах; запрыгали; а голова, не ругаясь, зашлепнувшись в спинку, качалась космой; с кислотцой горьковатою рот что-то чвакал, а нос – дул на свечку взволнованным пыхлом и жаром.
В ушах – очень быстрый и громкий звенец: не звонят ли тонки, не пришли ли за ним: не звонят, не пришли; он – затоптыш, заплевыш, в глухое и в доисторическое свое прошлое среди продолблин, пещерных ходов, по которым гориллы лишь бегали.
Все же нашелся: вдруг выпрямил плечи; теперь, когда стены слетели со стен и когда обнаружилось, что в этом грунте пещерном нет помощи, что происходит тут встреча двух диких зверей (носорога и мамонта), надо надеяться только на орган защиты: кто бьется – клыком; кто – бьет рогом; кто – силою мысли; он вспомнил, что силою мысли свершилось в веках обузданье гиббона; и – встал человек; он – надеялся, что, в корне взять – (нет, на что он надеялся!) – силою мысли и твердостью воли: он сам продиктует условия:
– В корне взять, – взрявкнул он, – я уже ждал вас; меня, дело ясное, – не удивите: я знаю, что жил в заблуждении, думая: – он усмехнулся, – служенье науке-де знак объективный служения истине, гарантирующий, в корне взять, частную жизнь; я – ошибся, – подшаркнул с иронией, – думая, что ясность мысли, в которой единственно мы ощущаем свободу, настала: она в настоящем – иллюция; даже иллюзия – то, что какая-то там есть история: в доисторической бездне, мой батюшка, мы, – в ледниковом периоде., где еще снятся нам сны о культуре; какая, спрошу я, культура, – когда вы являетесь эдаким способом, как, извините меня, как мера…
– Я ж – тебя: ты – у меня!
Выговаривая этот бред, стал заикой Мандро в первый раз: не легко ведь ударить «светило науки», которое сам уважаешь, вот этой вот самой своею рукою. Размахнулся было, да не мог хлестануть.
Задрожали, как будто играли в дрожалки: профессору быстро припомнилось, как он забросышем рос; и под старость забросышем стал; вот – забросился здесь негодяю ужасному в лапы, за что же? За то, что трудился весь век, что Россию он мог бы прославить открытием?
Сжалось сердце от жалости, – невыносимой, – к себе самому!







