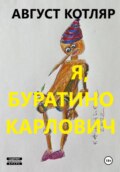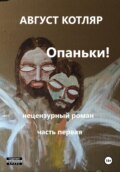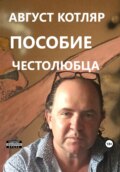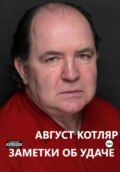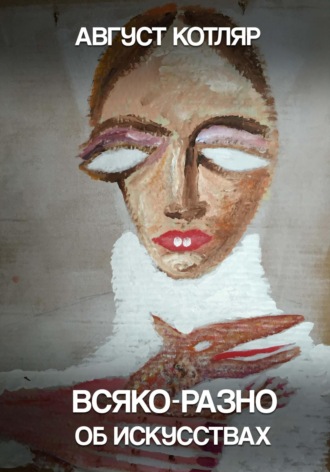
Август Котляр
Всяко-разно об искусствах
Что касается драматургии. Наверняка найдутся те, кто стал бы ругать сценарий, искать в нём слабые места, придираться к шуточкам. Докопаться можно даже до фонарного столба. С моей точки зрения человека, учившегося кинодраматургии в киношколе, и потратившего на это дело годы, фильм сделан правильно, в нем есть структура, логика, последовательность, ритм. Режиссёр фильма Клим Шипенко учился кинопроизводству в Калифорнии; я слышал, что там умеют делать кино, и могут научить делать кино. Повествование скроено достаточно ладно: одинокая русская женщина с проблемами и тяжким бэкграундом, терзающая себя гибелью мужа, находится в конфликте сама с собой, и неожиданный полёт в космос для неё оказался единственным путём примириться с собой и начать жизнь заново. В космосе она являет собой образец преданности своему делу и самоотверженности; спасая жизнь космонавту, она тем самым исцеляет себя от тяжкого психологического увечья, когда она не смогла спасти своего мужа, попавшего в аварию по её вине – торопясь спасти неизвестного пациента, она погубила самого дорого ей человека. Эта линия логична, она служит внутренним движителем и мотиватором главной героини, но, возможно, многие зрители и даже кинокритики этого не понимают. Юлия Пересильд сыграла глубокого и сильного, но израненного, измотанного человека, для которого долг и сострадание – не пустые слова; героиня Пересильд даёт глубокомудрый совет руководителю полётом, чтобы жене травмированного космонавта дали поговорить с загибающимся на орбите мужем, иначе потом невозможно жить, зная, что не договорил с любимым человеком. Лично для меня фильм “Вызов” был пронзительным и жизненным, достоверным и узнаваемым. Как эстет и искусствовед, я недолюбливаю тарковщину и триерщину, весь высосанный из пальца или другого места выпендрёж, а “Космическая одиссея” для меня – если и не киноблевотина, то уж точно кинонудятина.
Вряд ли в ныненшних условиях картина получит широкий международный прокат и не будут её номинировать на Оскар, ведь там одни белые мужики и одна белая сильная женщина, ни одного негра, педераста и трансгендера, что, с точки зрения Американской киноакадемии, уже не искусство, а какой-то расистский и супремасистский (от понятия “супремасизм” – превосходство одной расы или группы) памфлет. В США картину не пустят в прокат, если только в очень ограниченном числе залов для профессионалов и кинокритиков. В Европе тоже не пустят. Китай вполне может отреагировать ревниво и сделать свой китайский римейк: китаянка, адепт традиционной медицины, летит на орбиту ставить иголки занемогшим астронавтам. Хотя CNN сообщил о выходе в России такого фильма, но при этом любезно напомнил аудитории, что в целом приоритет съемок в космосе остаётся за США, дескать, Том Круз и ещё кто-то уже что-то там снимали, так что именно Америка родина слонов и всего передового. Возможно, фильм будет кем-то куплен на Каннском кинорынке, который откроется 16 мая 2023 года и будет проходить до 24 мая. Но не будут его прокатывать широким экраном, пока идёт тотальное и всемирное расчеловечевание русских. Но зато мы знаем, что мы на самом деле можем и что мы на самом деле умеем. Силой не хвастаются, силой пользуются; на текущий же момент наша сила – сидеть спокойно и вести себя деликатно. А время “Ч” обязательно настанет.
07.05.2023. Фильм “Позывной “Журавли”: разведка боем
В ночь с 6 на 7 мая 2023 года в кинотеатре “Поклонка”, что на Поклонной горе в Москве, при Музее Победы, прошёл премьерный показ четырёхсерийного фильма “Позывной “Журавли” про полевых разведчиков, добывающих языков и пытающихся прояснить ситуацию перед началом Смоленской операции конца лета-начала осени 1943 года. И я, и, думаю, Станиславский, однозначно бы сказали про эту кинопостановку: “Верю!”
В ранние 2000-е годы мне доводилось выступать в роли скрипт-доктора для сценариев на военную тематику. Мне приходилось вносить правки в такие известные сериалы как “Мы из будущего” и “Танки грязи не боятся”. Хотя я не специализировался именно в военной истории у себя на Истфаке МГУ, а занимался первобытным искусством, любовь к армии и флоту у меня с детства, деды воевали в Великую Отечественную, прапрадеды в Первую мировую, а сам я хотел сделать карьеру в военной разведке, что не вышло по независящим от меня обстоятельствам – просто не приняли в 1983 году документы в Военный Краснознамённый институт, и даже хлопоты друга семьи, маршала Аганова, не помогли: этнические предрассудки пересилили и семейные связи, и любое здравомыслие, и целесообразность. Не вышло из меня Рихарда Зорге, которым я восхищался в детстве и юности, и с которого на самом деле был списан Джеймс Бонд. Пришлось вести бондовский образ жизни за свой счёт и в своё удовольствие, не состоя на государевой службе и не имея звания коммодора (кавторанга) военно-морского флота, а с информацией работать как журналист.
В общем, некоторые сведения об устройстве воинской службы как в целом, так и времён Великой Отечественной у меня были. Когда мой дед, Моисей Израилевич Котляр, навещал меня на срочной службе в армии, он обратил внимание, что, по сути, в армейском устройстве и духе армии со времен его службы мало что поменялось. Сам дед словил пулю в грудь и осколок, перебивший и почти оторвавший руку, 12 июля 1943 года в атаке под Прохоровкой, после чего полтора года мыкался по госпиталям и был комиссован – руку не ампутировали, но она больше не работала, а осколки раздробленной плечевой кости ещё долгие годы выходили с нагноениями.
Война для меня – не пустой звук, я родился всего лишь спустя 20 лет после войны, мои родители пережили войну, вся семья пережила войну, и воевали все мужчины. И вот, вчера, 6 мая 2023 года, кино “Позывной “Журавли” погрузило меня в август-сентябрь 1943 года, и было ощущение, что я сам там. Придирчиво я всматривался в форму, технику, нарады, вслушивался в слова и мелодику речи – и не нашёл явных киноляпов. Я даже не стал хлестать коньяк перед показом, то есть наступил на горло своей любимой песне, чтоб глаз и ухо сохранили остроту и нацеленность на выявление шняги и лажи, – и не нашёл, так, нюансы незначительные, которые никто больше и не заметит. У меня как-то вышел не самый приятный разговор с режиссёром Сергеем Мокрицким по поводу его фильма “Битва за Севастополь” с любимой нашей Юлей Пересильд. Сам по себе фильм хороший, но я стал выговаривать Мокрицкому за зубы. В прямом смысле. Я говорил: “Серёжа, где это видели такие ровные хорошие белые зубы в 1940-х годах? Посмотрите, все у вас улыбаются как Том Круз и Джулия Робертс! Но при этом Голливуд не делает ошибок в серьёзных многоденежных постановках, даже в “Пиратах Карибского моря” персонажам сделаны гнилые чёрные зубы, а у капитана Джека Воробья нормальные жёлтые зубы и коронки. В 1940-е годы, после недоедания в 1920-е и 1930-е, наш народ мучался зубами – у всех были жёлтые, прокуренные, неухоженные зубы, протезы, мосты, коронки, это раз. И были другие причёски, это два. И другие выражения лиц, это три…” Короче, Мокрицкий слегка на меня обиделся, и сказал, что кино – это художественное произведение, и он, как автор, оставляет за собой право создавать его так, как считает нужным. Я не стал с ним спорить, потому что если два дядьки упёрлись, каждый в свою правоту, то никакой истины им не найти, кроме как ругани с переходом на личности, мордобоя и навсегда испорченных отношений.
И вот, я смотрю “Позывной “Журавли”, на руке одного из персонажей, у дяди Феди, я вижу правильную наколку времён культа личности, а зубы у него редкие и жёлтые, а лицо измождённое и щербатое. И сразу видно – вот она, правда жизни, и форма на нём сидит так, как она сидела на советских военнослужащих, а на немецких офицерах она в этом фильме сидела так, как сидела в реальности – подогнано и ладно, и даже в этом кине один немецкий офицер дрючит своих солдат, чтоб всё было как положено, аккуратно и чисто. Кастинг вообще в этой картине сделан очень толково. Во-первых, в группе разведчиков, которых называют “журавлями” по их позывному имени (Алекс – Юстасу), присутствует этнически правильное сочетание – русские, украинцы, еврей и грузин. Согласно статистике, именно эти четыре этноса проявили наибольший героизм и среди них самое большое количество Героев Советского Союза. Во-вторых, лица у героев очень фактурные, такие сейчас нечасто встречаются; известно, что каждому времени свойственны свои выражения лиц, какие-то свои особенности, и по лицам, по выражениям на лице, можно определить, когда эти люди жили – на них на всех лежит обязательный отпечаток того, что называется “цайтгайст”, дух эпохи, а на евреях ещё и лежит “идишкайт”, такая некая еврейскость, что мы промеж себя деликатно называем “синайская печаль в глазах”.
Что ещё мне зашло, так это игра Владимира Веревочкина, которому было уже за тридцать, когда он играл главного героя лейтенанта Ивашова, которому, по сюжету, 25 лет. Это очень правильно, потому что восемьдесят лет назад молодые люди выглядели существенно старше своих лет – имеется в виду наше представление, как выглядеть нынче, чтоб внешне соответствовать своему календарному возрасту. И видно, что этот лейтенант Ивашов носит в себе какую-то глубину, какую-то тайну, какую-то трагедию. Верёвочкин очень выразительно сыграл сложносочинённого персонажа: лейтенанта Ивашова везут в трибунал, но он умён и наблюдателен, и догадывается, что застрявшая на пути его конвоя машина с военными – это немецкая разведывательная или диверсионная группа. Догадливость спасает жизнь и ему, и важному офицеру Красной Армии, благодаря ходатайству которого Ивашов поступает командиром к “Журавлям”. Там из-за чувства долга и смелости Ивашов упарывает косяк, из-за чего хороший человек теряет жизнь. К чести Ивашова, он не уклоняется от ответственности и не переводит стрелки, а признаёт, что это его дурь привела к гибели человека, и готов нести ответственность. Он со своим максимализмом сначала с трудом вписывается в это сборище отмороженных на всю голову головорезов, для которых каждый день – последний. Командовать ими – это всё равно, что пасти стадо диких кошек. Но благодаря мудрому зэку дяде Феде, всё же голос здравомыслия иногда простукивается в голове лейтенанта-максималиста, и это помогает как выполнять задания, так и сберегать вверенные ему жизни.
По ходу в фильме проворачивается и любовный треугольник – мединструктор Василькова крайне симпатизирует Ивашову, но тот влюбляется в случайно залетевшую к ним “ночную ведьму” и Героя Советского Союза капитана Гринёву; сближает их то, что они потеряли в войне супругов. Василькова же, вероятно, просто ведьма, потому что она проделывает магические обряды, заговаривая рюмашку с водой и расплёскивая её вослед уходящим на очередное задание “Журавлям”. Обыгрываются ещё две сугубо военные темы – тема сыновей полка и тема военно-полевых жён. А это глубоко человеческие темы, но человечность здесь особая, которая проявляется в экстремальных, крайне специфических обстоятельствах. “Журавли” приводят с собой мальчонку-сиротку, отмывают, отогревают, а потом им велено отправить дитё в тыловой детдом. А это разрыв по-живому, но человеческое одолевает дисциплинарное. И чтобы легализовать нарушение приказа и дисциплины, в бой за мальчонку вступает военно-полевая жена самого большого полкового начальника, тоже начальник, но медицинской службы. Она ловко подводит своего неофициального супруга к решению – раз уж ты на мне никогда не женишься, но у нас большая семья (подразумевается воинское подразделение), хоть оставь ребёнка в семье, не отдавай. И мальчик остаётся в семье, при “Журавлях”, а потом воспитывается дядей Федей как родной.
Приятно было посмотреть на военную технику, которую, как я подозреваю, взяли из коллекции Вадима Задорожного, владельца крупнейшего собрания военных артефактов в России и доброго ангела студии “Военфильм”, которая сняла “Позывной “Журавли”. Игорь Угольников, генеральный директор студии и продюсер картины, отдельно отметил, что без Вадима Задорожного картины бы не было. Мне зашёл больше всего немецкий танк Panzerkampfwagen III (если я только не ошибаюсь в определении модели), который вообще-то редкость, их как раз сняли с производства в 1943 году. Он отличим от более привычных нашему зрителю “Тигров” и “Пантер” благодаря не только общему силуэту, но короткоствольной пушкой. По сюжету, группа Ивашова этот танк угоняет. Потом на группу Ивашова присылают охотиться эсэсовцев. Насколько я уловил, этих охотников называют егерями. Я в эмоциональном напряжении не смог различить, из какой именно бригады СС приехали эти молодчики. На их формах сверху были надеты плащ-палатки, и на них я не увидел значков дивизии горных стрелков “Эдельвейс”, которые из всех душегубов эсэсовских были самыми мастеровыми. У их предводителя, к которому обращались как “господин капитан”, но такого звания в СС не было, это, судя по мельком различимым ромбам на петлице, был гауптманн. Он охотился на Ивашова со штурмовой винтовкой StG-44 “штурмгевер”, ставшей поступать на вооружение в 1942 году (если я не ошибаюсь, конечно), потому что в целом войска были вооружены пистолетом-пулемётом MP-40, который в России именуют “шмайсером” по фамилии конструктора, но при этом всем понятно, о чём идет речь. К оружию в фильме вопросов нет. Как и к другим вещам, по большому счёту, вопросов нет.
Мы привыкли считать эталонными фильмами про войну “Они сражались за Родину”. Но там снимались люди, бывшие на войне. И они рассказывали про войну тем языком. Нынешнее поколение осмысливает войну с позиций нынешних представлений о жизни. От этого рассказ не становится хуже или лучше. Просто он понятней тем, кто живёт сейчас, чтоб мы помнили и ценили тех, кто погибш за нас тогда.
28.04.2021. Фильм "Девятаев": новый ракурс понимания войны Тимуром Бекмамбетовым
В ночь с 27 на 28 апреля в необычном формате, в вестибюле московской станции метро "Парк Победы", в 2 часа ночи, Тимур Бекмамбетов представлял свой новый фильм "Девятаев", снятый соавторстве с Сергеем Трофимовым. Фильм был выпущен студией "Базилевс" при поддержке Фонда Кино и сенатора Сулеймана Керимова, и выйдет в прокат 29 апреля.
Без долгих размусоливаний, без нудных предысторий, без разжёвывания очевидного, Бекмамбетов запускает сразу три смысловые линии: верность долгу, верность себе и верность слову, данному вчерашнему другу, ставшим врагом. Одна смысловая линия: лётчик Михаил Девятаев, совершенно реальный персонаж, родившийся в 1917 году и доживший до 2002 года, сбит в воздушном бою, теряет сознание при попытке отстреляться и покончить с собой, попадает в плен, отказывается воевать за Третий рейх, переводится в концлагерь и бежит оттуда с группой таких же отчаянных товарищей, угоняя у фашистов самолёт с секретной документацией на ракеты Фау-2. Другая смысловая линия: в плену его вербует в лётчики его лучший друг детства Коля, который числится сбитым и погибшим лётчиком; Коля убеждает друга Мишу выбрать жизнь и небо, но воевать на другой стороне, потому что Советская Родина не прощает попавших в плен, считая это предательством и изменой. Но Девятаев выбирает муки и смерть, лелея надежду, что ему либо удастся переиграть обстоятельства, либо умереть с честью. Но он даёт слово Коле, что никогда не выдаст его тайну и предательство никому, особенно его отцу. И третья линия: несправедливые упрёки и унижения, которых так много нахлебались герои вроде Девятаева, Печерского, Рыбчинского, Цемкало и тысячи других военнопленных, организовывавших восстания и побеги в концлагерях.
Реалистичность картины крайне высокая, проработанность деталей скрупулезная, игра актёров достоверная, а погружение в событийный ряд полное, потому что воссоздано то, что было на самом деле по воспоминаниям самого Девятаева и его выживших после войны товарищей. Актёр Павел Прилучный, исполняющий главную роль, абсолютно органичен – его человеческую фактуру, сформированную боксом и рано обретённой самостоятельностью по жизни, образование актёра огранило, а образование режиссёра отшлифовало. В этой роли он так же безупречен, как шотландец Джерард Батлер в роли спартанского царя Леонида – того самого, что возглавлял отряд из 300 спартанцев, перекрывших при Фермопилах путь персам в Элладу.
Достоверность быта узников и порядки концлагеря показаны на таком высоком художественном уровне, что сам Спилберг не сделал лучше в своей картине "Список Шиндлера". Степень же изнурённости, измождённости, изношенности заключённых от голода, травм и непосильной работы просто документальная – полураздетые узники в состоянии алиментарной дистрофии поясняют зрителю весь ужас и безнадёжность своего положения одним своим чудовищным видом. И эти дистрофики, советские солдаты, находят в себе железную волю к чёткому планированию и реализации своих планов, невзирая на любые непредвиденные обстоятельства фактически необоримой силы.
Операторская работа создаёт полное ощущение присутствия как в кабине самолёта и в небе в моменты воздушных сражений, так и в бараках и на плацах концентрационных лагерей. В фильме звучит музыка, которая уместна и создаёт настроение, соответствующее происходящим событиям. Работа художников-постановщиков, гримёров, художников по костюмам – всё очень точно, все детали соответствуют эпохе, а собранные вместе создают эффект полной погруженности в ту военную эпоху.
Это фильм, за который не просто не стыдно, но который воссоздаёт утраченное в былые годы чувство национального достоинства и напоминает, что наши герои были не только героическими, но были куда круче, чем герои других народов, просто не всегда хватало таланта и умения про них рассказать. И вот теперь Тимур Бекмамбетов рассказал правдивую историю настолько мастерски и адекватно современной ментальности, что даже непуганому молодому поколению будет ясно, что за люди были наши деды и прадеды, и за что нам их не только любить, но и ими восхищаться и гордиться.
15.03.2021. Российского зрителя уже не обманешь
В последние годы росло количество фильмов и сериалов, но качество их в целом оставалось низким, за некоторым исключением. И даже на волне пандемии, когда росло число пользователей и доходы онлайн кинотеатров и платформ, конкуренция за зрителя не привела к росту качественного контента. Очевидно, дело в каких-то системных проблемах российского кинематографа, которые каким-то образом надо решать. Об этой ситуации рассказывает режиссёр, актёр театра и кино Сергей Лесогоров.
Какие основные проблемы стоят перед российским кинематографом, в том числе перед производством сериалов для телеканалов и платформ?
Основная проблема отечественной кинематографии в том, что художественные задачи отодвинуты на третий и следующий планы, по остаточному принципу. Если раньше говорили, что артист самая зависимая профессия, то сегодня режиссёр самая зависимая профессия, потому что актёрский цех как-то организовал свой профсоюз, равно как и продюсеры. Режиссёр же сегодня получает меньше, чем актеры и продюсеры. Сложилась ситуация, когда менять актера после начала съемок невозможно, а режиссёра очень даже запросто. Режиссер находится между молотом и наковальней, между продюсерами и артистами, и иногда продюсеры не дают денег на художника-постановщика, и снимайте, как есть, по остаточному принципу. У меня есть формулировка, мною когда-то придуманная: публика – дура, но не дурак. Публику не обманешь: она, с одной стороны, хочет обманываться. С другой стороны, когда она видит, что её держат за дурака, или, как говорил Штирлиц, за болвана в старом польском преферансе, то теряет интерес к тому, что происходит на экране кинотеатра или телевизора. Когда она видит дешевый кадр, видит кадр грязный, видит кадр художественно не продуманный, видит необязательный кадр, то сразу чувствует лажу и халтуру. Я, как профессионал, вижу, допустим, нитки – как портной с 20-летним стажем видит, как покроен и сшит чужой костюм. Ему не надо выворачивать пиджак наизнанку, он сразу видит качество работы и может описать, как и почему это пошито. Зритель всё чувствует на интуитивном уровне, он чувствует подсознательно, что как-то пиджачок не очень, хоть и пуговицы пришиты намертво, как у Райкина, и претензий к пуговицам нет. Но все остальное как-то не очень сидит и не очень в этом можно ходить, не очень-то в этом, особенно в зауженных брюках, комфортно и красиво ходить и сидеть, хотя на зауженные брюки ткани тратится в два раза меньше. Продюсеры зарабатывают на этой экономии, а потом говорят, что так теперь модно.
Почему российское кино в зрелищности так сильно проигрывает американскому – ведь у нас тоже очень талантливые люди делают кино?
Это финансовая причина – экономия на всём. Я говорю: давайте снимем общий план Трубной площади, а мне говорят, ты с ума сошел, знаешь, сколько стоит Трубная площадь и всё остальное? Раньше ставилась прежде всего художественная задача, и её защищал режиссёр перед Госкино, предлагал свой проект и говорил, что ему нужно снять Трубную площадь, потом нужно снять Эверест, а затем нужно снять в открытом море 10 военных кораблей, то собирались комиссии, и рассматривали, какую это будет иметь художественную ценность. Сегодня продюсер говорит режиссёру: ты с ума сошёл, это же дорого! Мы кораблики на компьютере нарисуем, Эверест тоже на хромокей снимем, если тебе Эверест так уж приспичил, но про Трубную площадь вообще забудь, а про Старую площадь тем более, потому что это не согласуется в инстанциях никогда. Вроде бы такие частности, но любое требование художественной задачи этим урезается или вообще отсекается. У нас кино стало продюсерским, и из-за этого мы попали в капкан. Потому что продюсерами, к моему большому сожалению, в массе своей становятся люди, которые на вступительных экзаменах в свой первый институт сдавали математику, условно говоря, и закончили доблестно свои институты, в которых эту математику дальше изучали, а потом почему-то решили заняться кино. Деньги-то они благодаря математике считать научились. Но в художественных вопросах и задачах разбираются слабо, если вообще разбираются. Может быть, у них в жизни были турпоходы с самодеятельными песнями под гитару у костра, и они подумали, что тем самым поняли всё про искусство, и вполне могут делать кино. Это страшная западня для творчества, которая сводится к рационализму – кадр становится излишне рационален, там нет иррационального, там нет волшебства, о котором говорили когда-то Чаплин и Эйзенштейн. Из кадра всё живое выхолощено, потому что оно не нужно продюсерам, но вот зритель не хочет такое кино смотреть. Причина в законах бизнеса, когда хочется поменьше вложить, но побольше выручить. Однако, и у нижней планки есть предел: нельзя всё снять на стеночку, причём, на ближайшую, за углом, бесплатно, в каких-то грязных гаражах, а потом пытаться выдать это за искусство и продавать за миллионы. Пару раз такое может проканать, даже пару лет на таком можно проехаться, но индустрия из-за этого падает вниз, катится по наклонной плоскости в никуда – потому что нет ни художественных задач, ни художественных решений. Артисты всё это чувствуют, понимают, что главный на площадке продюсер, а не режиссёр. Им уже не важно, есть ли вообще режиссёр на площадке или нет. Режиссёра они слушают постольку поскольку. Они понимают, что договоренности об их съемках заключены в других местах, и вовсе не на небесах. Посему они наизусть по очереди шпарят свой текст, у них пропадает определенный трепет перед кадром, они игнорируют включение в режиссерские задачи, в замысел режиссёра.
В связке «режиссёр-актёры» произошел большой сбой в последние 10 лет. Он начался раньше, но на сегодня уже выросло новое поколение артистов и режиссеров: артисты режиссера слушают вполуха, а режиссеры вообще не умеют работать с артистами, потому что их этому не учат. Я встречаю коллег, не имеющих актёрского образования, закончивших режиссуру в значимых киновузах страны, и они открыто говорят, что их не учили работать с артистами. Это большое упущение. Они говорят артисту: «быстрее!», «громче!», и такие антислова как «радостнее!», «мягче!», «грустнее!», «веселее!», «больше любви!» или «больше ненависти!» Подавать такие указания артистам по задачам просто антипрофессионально! Артисты понимают, что режиссер – неуч и дилетант, который мгновенно утрачивает уважение собственной съёмочной группы из-за некомпетентности. Артист начинает делать, как Бог на душу положит. Хорошо, если кто-то в театре подучился, тогда играют как-то получше.
Считается, что русская актёрская школа самая сильная в мире. В той же Америке, например, все актёры учатся либо по системе Михаила Чехова, либо по системе Константина Станиславского, и артисты в целом получаются неплохие и те и эти? В чем это отличие этих двух систем?
Скажу крамольную мысль – отличие такое же, как между, допустим, иудаизмом и двумя другими религиями, христианством и исламом, которые вышли из иудаизма. Все три религии относятся к авраамическим религиям, у них фундамент один и тот же. Чехов был учеником Станиславского. Просто он пошёл дальше. Овладеть школой Михаила Чехова, не зная Станиславского, это так же, как читать, допустим, Новый завет, не читая Ветхого завета. Это не две одновременно появившиеся системы, пошедшие врозь. Это одна из другой вытекающая история, которая, да, может претендовать на некую самостоятельность, как есть христианские течения, мусульманские течения, которые не отдают должное Ветхому завету, но мы их знаем как касты и секты, они не имеют продолжения именно потому, что они оторваны от фундамента. Всё равно система Станиславского учит актёра: увидел, оценил, действуй, и от этого никуда не денешься. Как это делать, как к этому технически подойти, как к этому артиста подвести, как артист должен сам себя к этому подготовить – вот для этого есть разные психофизические тренинги, которые позволяют артисту к этому как-то быть готовым. Я думаю, что тот способ, какой есть у Михаила Чехова, есть десятый способ репетирования, и это способ медитативный, и сам им лично Станиславским пользовался, судя по описанию, в своей жизни непосредственно, когда сам выходил на сцену, потому что никто из труппы не понимал, как он это делает. Он действительно был лучшим артистом, и все восхищались, и он как-то себе представлял, входил в определенное состояние. Сегодня это называется измененным состоянием сознания, а он пользовался этим по факту, и это он не сформулировал, а Михаил Чехов это сформулировал потом, позже, как один из способов репетирования.
Это в качестве примера, потому что у Станиславского всё это уже было заложено внутри его системы, внутри его этики, про которую, кстати, тоже все забыли. К тоненькой книжечке «Этика Станиславского» все пренебрежительно относятся, а там заложены базовые основания и сделано это очень толково, и заложены предпосылки к урегулированию взаимоотношений в театральном цеху и между цехами актёрскими, режиссёрскими и продюсерско-директорскими, да и всеми остальными цехами. Так или иначе, в некоторых театрах это хранится, там нет разницы, кто артист, кто гримёр, и все бегают одинаково и готовят спектакль, все работают на одно – должен открыться занавес, и все готовы помогать друг другу совершенно искренно. Я сам все видел своими глазами и сам все это делал, мебельщики что-то забыли, кто-то ещё чего-то, и я схватил какой-то станок большой вместе с народным артистом Советского Союза, вытащил этот станок на сцену, и мы только успели забежать за кулисы, как открылся занавес. Это мы сделали потому, что стояли рядом, и это был мой личный опыт, когда я работал в Ленкоме артистом. Я помню, как мебельщики и постановщики, которые стоят за кулисами и видят, как кто-то из артистов забыл текст, из-за кулис подсказывают слова, помимо помрежа, который тоже это делает – спектакль идёт в сотый раз и все знают его наизусть. Я такие случаем знаю очень много, это взаимовыручка, и в театре она есть. А в кино нет её, поскольку все собираются на месяц, два, на три.
Есть ли место для актёрской импровизации на современной съёмочной площадке?
Я как-то смотрел передачу, как два года готовились к съёмкам фильма и снимали год, это было про одно старое кино, как солдат вернулся с фронта, и этой ленте 50 лет, а она до сих пор смотрится как шедевр. Сегодня кино – это месяц подготовки и полтора месяца съемок, быстро, быстро и поехали, и это увеличение скорости. Нужно понимать, что скорость и пространство – вещи взаимосвязанные, и кто ездит на машине, тот понимает, что, если он едет 20 километров в час, то может разглядеть пейзаж справа и слева, а, если едет 120, то дерево от столба не отличит.
Соответственно, упускаются важные художественные вещи, которые могли бы быть ценны. Зритель видит, что как-то лихо пролетели и упустили что-то важное, потому что на такой скорости все акценты и нюансы актёрские упускаются, режиссёрские акценты опускаются; непонятно, про что это кино, о чём? Всё быстро, быстро, бегом, бегом, артисты рассказали свой текст, вроде информативный, но сегодня информацией текстовой мало кого удивишь. Тем паче, мы знаем 29 сюжетов, и, как не компилируй, они всё равно с конечной историей, и кино – это вопрос исполнения, игры, а не текста. Кино смотрят не из-за текста, а потому, что одни исполняют хорошо, и это цепляет зрителя за душу, а другие плохо, и зритель плюётся, а текст остаётся текстом. Текст – это как бы фундамент для всех. Раньше, когда я был совсем молодым помощником режиссёра в 19 лет, говорили, что сценарий – это повод, чтобы собраться. Нам всем надо было собраться, поговорить, что-то обсудить, обмозговать, прочувствовать, внести что-то от себя, и тогда как бы из этого что-то могло получиться интересное. Сегодня, в связи с законом об авторских правах, изменить порядок слов в сценарии практически невозможно, и я видел дикие скандалы, когда сценаристы выбегали на площадку и кричали на артистов, почему ты говоришь так, а не вот так, именно в том порядке слов. Мысль не потеряна, но надо сказать вот таким образом и никак иначе. Я видел непотребную ругань, весьма нехорошую, и связано это было с тем, что потом, после съёмок фильма, после эфира, пойдёт обратная связь, а текст вроде уже не авторский. А у нас авторы получают авторские права и имеют авторские отчисления – это касается авторов сценария и композиторов. Так было установлено лет 20-25 лет назад, что режиссёры не имеют и не могут иметь авторских прав по закону.