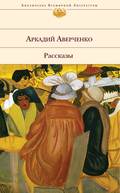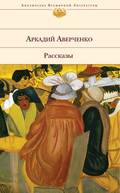Аркадий Аверченко
Хлопотливая нация (сборник рассказов)
Бельмесов
I
– Иван Демьяныч Бельмесов, – представила хозяйка.
Я назвал себя и пожал руку человека неопределенной наружности – сероватого блондина, с усами, прокопченными у верхней губы табачным дымом, и густыми бровями, из-под которых вяло глядели на божий мир сухие, без блеска, глаза, тоже табачного цвета, будто дым от вечной папиросы прокоптил и их. Голова – шишом, покрытая очень редкими толстыми волосами, похожими на пеньки срубленного, но не выкорчеванного леса. Все – и волосы, и лицо, и борода было выжжено, обесцвечено – солнцем не солнцем, а просто сам по себе человек уж уродился таким тусклым, невыразительным.
Первые слова его, обращенные ко мне, были такие:
– Фу, жара! Вы думаете, я как пишусь?
– Что такое?
– Вы думаете, как писать мою фамилию?
– Да как же: Бельмесов.
– Сколько «с»?
– Я полагаю – одно.
– Нет-с, два. Моя фамилия полуфранцузская. Бельмессов. В переводе – прекрасная обедня.
– Почему же русское окончание?
– Потому что я, все-таки, русский, как же! Ах, Марья Игнатьевна, – обратился он, всплеснув руками, к хозяйке. – Я сейчас только с дачи, и у нас там, представьте, выпал град величиной с орех. Прямо ужас! Я захватил даже с собой несколько градин, чтобы показать вам. Где, бишь, они?.. Вот тут в кармане у меня в спичечной коробке. Гм!.. Что бы это значило? Мокрая…
Он вынул из кармана совершенно размокшую спичечную коробку, брезгливо открыл ее и с любопытством заглянул внутрь.
– Кой черт! Куда же они подевались? Я сам положил шесть штук. Гм!.. И в кармане мокро.
– Очень просто, – засмеялась хозяйка. – Ваши градины растаяли. Нельзя же в такую жару безнаказанно протаскать в кармане два часа кусочки льду.
– Ах, как это жалко, – сказал Бельмесов, опечаленный. – А я-то думал вам показать.
Я взглянул на него внимательнее и сказал про себя: «Однако же, и хороший ты гусь, братец мой. Очень интересно, чем такой дурак может заниматься?»
Я спросил по возможности деликатно:
– У вас свое имение? Вы помещик?
– Где там, – махнул он костистой, с ревматическими узлами на пальцах рукой. – Служу, государь мой. Состою на службе.
Очень у меня чесался язык спросить: «На какой?», – но не хотелось быть назойливым.
Я взглянул на часы, попрощался и ушел.
II
О Бельмесове я совершенно забыл, но на днях, придя к Марье Игнатьевне, застал его за чаем, окруженного тремя стариками, которым он что-то оживленно рассказывал.
– Франция, Франция! Что мне ваша Франция! Да у нас в России есть такие капиталы, обретаются такие богачи, которые Франции и не снились. Только потому, что мы скромнее, никуда не лезем, ничего не кричим – о нас и не знают. А во Франции этот Ротшильд, что ли, все время на том и стоит, чтоб какую-нибудь штуку позаковыристее выкинуть. Купит тысячу каких-нибудь там белых собак, напишет краской на брюхе у каждой «Вив ля Франс!» да и выпустит на улицу. А парижане и рады. Или яхту купит, приделает к ней колеса да по Нотр-Даму и катается с неграми. Этак, конечно, всякий обратит внимание… А у нас народ тихий, без выдумки, без скандалу. Хе! Богачи, богачи… слышал ли, например, кто-нибудь из вас о таком волжском помещике – Щербакине?
– Нет, не слышали, – отозвался один из стариков. – А что?
– Да как же… Расскажу я вам такой случай: еду я пароходом по Волге. Проезжаем мы однажды, приблизительно, этак по Мамадышскому уезду. Выхожу я утром, умывшись и напившись чаю, на палубу, смотрю на берег, спрашиваю: «Чья земля?» – «Помещика Щербакина». Хорошо-с. Проходит этак часа два. Я уже успел позавтракать. Брожу по палубе, взглянул на берег: «Чья земля?» Отвечают тамошние волжские пассажиры: «Помещика Щербакина». Ого, думаю. Эк тебя разбросало. Сел я обедать, съел, что полагалось, выпил две рюмки водки, пошел для моциону бродить по пароходу. Спрашиваю: «Чья земля?» – «Помещика Щербакина». Что за черт, думаю. Очевидно, миллионер, а я о нем ничего не слышал. Спрашиваю: «Богатый?» «Нет, говорят, так… средней руки». Что ж вы думаете? И ночью я спрашивал: «Чья земля?» – и на другой день утром – все говорят: «Помещика Щербакина». И это у них называется «помещик средней руки»… Вот это – края! Какие же у них должны быть «помещики большой руки».
– Что ж, долго еще тянулись «земли помещика Щербакина»? – недоверчиво спросил я.
– Да до самого обеда следующего дня. Тут как раз другой пароход подошел, нас с мели снял, поехали мы – тут скоро щербакинские земли и кончились.
– А вы долго на мели просидели? – спросил рыжий старик.
– Да сутки с лишним. Чуть не два дня. Волга-то летом в некоторых местах так мелеет, что хоть плачь. Чуть пароход мелко сидит в воде – сразу же и сядет. Которые глубоко сидят в воде, тем легче…
– То есть, наоборот, – поправил рыжий.
– Ну да, то есть наоборот, которые мельче пароходы, тем труднее, а глубокие ничего… Да-с. Вот вам и Ротшильд!
Я встал, отозвал хозяйку в сторону и сказал:
– Ради бога! Откуда у нас появился этот осел? Марья Игнатьевна немного обиделась:
– Почему же осел? Человек как человек.
– Но ведь у него мозги чугунные.
– Не всем же быть писателями и сочинять рассказы, – сухо заметила она. – Во всяком случае, он приличный человек, хотя звезд с неба и не хватает.
Я пожал плечами, отошел от нее и подошел сейчас же к отбившемуся от компании старичку в вицмундире с какой-то белой звездой, выглядывавшей из-под лацкана вицмундира.
– Кто такой этот Бельмесов? – нетерпеливо спросил я.
– А как же! У нас же служит.
– Да кем? Что он делает?
– А как же. Инспектором у нас в уездном училище. Где я директором состою. Дока.
– Это он-то дока?
– Он. Вы бы посмотрели, как он на экзаменах учеников спрашивает. Любо-дорого посмотреть. Уж его не надуешь, не проведешь за нос. Ён, как говорится, достанет. Посмотрели бы вы, каким он орлом на экзамене…
– Много бы я дал, чтобы посмотреть! – вырвалось у меня.
– В самом деле хотите? Это можно устроить. Завтра у нас как раз экзамены – приходите. Посторонним, правда, нельзя, но мы вас за какого-нибудь почетного попечителя выдадим. Вы же, кстати, и пишете – вам любопытно будет… Среди учеников такие типы встречаются… Умора! Смотрите, только нас не опишите! Хе-хе! Вот вам и адресок. Право, приезжайте завтра. Мы гласности не боимся.
III
За длинным столом, покрытым синим сукном, сидело пятеро. Посредине любезный старик с белой звездой, а справа от него торжественный, свеженакрахмаленный Бельмесов, Иван Демьяныч. Я вскользь осмотрел остальных и скромно уселся сбоку на стул.
Солнце бегало золотыми зайчиками по столу, по потолку и по круглым, стриженым головенкам учеников. В открытое окно заглядывали темно-зеленые ветки старых деревьев и приветливо, ободрительно кивали детям: «Ничего, мол. Все на свете перемелется – мука будет. Бодритесь, детки…»
– Кувшинников, Иван, – сказал Бельмесов. – А подойди к нам сюда, Иван Кувшинников… Вот так. Сколько будет пятью шесть, Кувшинников, а?
– Тридцать.
– Правильно, молодец. Ну, а сколько будет, если помножить пять деревьев на шесть лошадей?
Мучительная складка перерезала загорелый лоб Кувшинникова Ивана.
– Пять деревьев на шесть лошадей? Тоже тридцать.
– Правильно. Но тридцать – чего? Молчал Кувшинников.
– Ну, чего же – тридцать? Тридцать деревьев или тридцать лошадей?
У Кувшинникова зашевелились губы, волосы на голове и даже уши тихо затрепетали.
– Тридцать… лошадей.
– А куда же девались деревья? – иронически прищурился Бельмесов. – Нехорошо, тёзка, нехорошо… Было всего шесть лошадей, было пять деревьев и вдруг – на тебе! – тридцать лошадей и ни одного дерева… Куда же ты их дел?! С кашей съел или лодку себе из них сделал?
Кто-то на задней парте печально хихикнул. В смехе слышалось тоскливое предчувствие собственной гибели.
Ободренный успехом своей остроты, Иван Демьяныч продолжал:
– Или ты думаешь, что из пяти деревьев выйдут двадцать четыре лошади? Ну, хорошо: я тебе дам одно дерево – сделай ты мне из него четыре лошади. Тебе это, очевидно, легко, Кувшинников, Иван, а? Что ж ты молчишь, Иван, а? Печально, печально. Плохо твое дело, Иван. Ступай, брат!
– Я знаю, – тоскливо промямлил Кувшинников. – Я учил.
– Верю, милый. Учил, но как? Плохо учил. Бессмысленно. Без рассуждения. Садись, брат Иван. Кулебякин, Илья! Ну… ты нам скажешь, что такое дробь?
– Дробью называется часть какого-нибудь числа.
– Да? Ты так думаешь? Ну, а если я набью ружье дробью, это будет часть какого числа?
– То дробь не такая, – улыбнулся бледными губами Кулебякин. – То другая.
– Откуда же ты знаешь, о какой дроби я тебя спросил? Может быть, я тебя спросил о ружейной дроби? Вот если бы ты был, Кулебякин, умнее, ты бы спросил, о какой дроби я хочу знать: о простой или арифметической?.. И на мой утвердительный ответ, что о последней, – ты должен был ответить: «Арифметической дробью называется – и так далее»… Ну, теперь скажи ты нам, какие бывают дроби?
– Простые бывают дроби, – вздохнул обескураженный Кулебякин, – а также десятичные.
– А еще? Какая еще бывает дробь, а? Ну, скажи-ка?
– Больше нет, – развел руками Кулебякин, будто искренне сожалея, что не может удовлетворить еще какойнибудь дробью ненасытного экзаменатора.
– Да? Больше нет? А вот если человек танцует и ногами дробь выделывает – это как же? По-твоему, не дробь? Видишь ли что, мой милый… Ты, может быть, и знаешь арифметику, но русского языка – нашего великого, разнообразного и могучего русского языка – ты не знаешь. И это нам всем печально. Ступай, брат Кулебякин, и на свободе кое о чем подумай, брат Кулебякин. Лысенко! Вот ты, Лысенко, Кондратий, скажешь нам, что тебе известно о цепном правиле? Ты знаешь цепное правило?
– Знаю.
– Очень хорошо-с. Ну, а цепное исключение тебе известно?
Лысенко метнул в сторону товарищей испуганным глазом и, повесив голову, умолк.
– Ну, что же ты, Лысенко? Ведь говорят же: нет правила без исключений. Ну, вот ты мне и ответь, есть в цепном правиле цепное исключение?
* * *
Стараясь не шуметь, я отодвинул стул, тихонько встал и, сделав общий поклон, направился к выходу.
Любезный директор с белой звездой тоже встал, догнал меня в передней и сказал, подмигивая на экзаменационную комнату:
– Ну как?.. Не говорил ли я, что дока? Так и хапает, так и режет. Орел! Да только жалко, не жилец он у нас… Переводят с повышением в Харьков. А жалко… Я уж не знаю, что мы без него и делать будем?.. Без орла-то!
Фат
Подслушивать – стыдно.
Отделение первого класса в вагоне Финляндской железной дороги было совершенно пусто.
Я развернул газету, улегся на крайний у стены диван и, придвинувшись ближе к окну, погрузился в чтение.
С другой стороны хлопнула дверь, и сейчас же я услышал голоса двух вошедших в отделение дам:
– Ну, вот видите… Тут совершенно пусто. Я вам говорила, что крайний вагон совсем пустой… По крайней мере, можем держать себя совершенно свободно. Садитесь вот сюда. Вы заметили, как на меня посмотрел этот черный офицер на перроне?
Бархатное контральто ответило:
– Да… В нем что-то есть.
– Могли бы вы с таким человеком изменить мужу?
– Что вы, что вы! – возмутилось контральто. – Разве можно задавать такие вопросы?! А в-третьих, я бы никогда ни с кем не изменила своему мужу!!
– А я бы, знаете… изменила. Ей-богу. Чего там, – с подкупающей искренностью сознался другой голос, повыше. – Неужели вы в таком восторге от мужа? Он, мне кажется, не из особенных. Вы меня простите, Елена Григорьевна!..
– О, пожалуйста, пожалуйста. Но дело тут не в восторге. А в том, что я твердо помню, что такое долг!
– Да ну-у?..
– Честное слово. Я умерла бы от стыда, если бы чтонибудь подобное могло случиться. И потом, мне кажется таким ужасным одно это понятие: «измена мужу!»
– Ну, понятие как понятие. Не хуже других. – И, помолчав, этот же голос сказал с невыразимым лукавством:
– А я знаю кого-то, кто от вас просто без ума!
– А я даже знать не хочу. Кто это? Синицын!
– Нет, не Синицын!
– А кто же? Ну, голубушка… Кто?
– Мукосеев.
– Ах, этот…
– Вы меня простите, милая Елена Григорьевна, но я не понимаю вашего равнодушного тона… Ну, можно ли сказать про Мукосеева: «Ах, этот»… Красавец, зарабатывает, размашистая натура, успех у женщин поразительный.
– Нет, нет… ни за что!
– Что «ни за что»?
– Не изменю мужу. Тем более с ним.
– Почему же «тем более»?
– Да так. Во-вторых, он за всеми юбками бегает. Его любить, я думаю, одно мученье.
– Да ежели вы к нему отнесетесь благосклонно – он ни за какой юбкой не побежит.
– Нет, не надо. И потом он уж чересчур избалован успехом. Такие люди капризничают, ломаются…
– Да что вы говорите такое! Это дурак только способен ломаться, а Николай Алексеевич умный человек. Я бы на вашем месте…
– Не надо!! И не говорите мне ничего. Человек, который ночи проводит в ресторанах, пьет, играет в карты…
– Милая моя! Да что же он должен дома сидеть да чулки вязать? Молодой человек…
– И не молодой он вовсе! У него уже темя просвечивает…
– Где оно там просвечивает… А если и просвечивает, так это не от старости. Просто молодой человек любил, жил, видел свет…
Контральто помедлило немного и потом, после раздумья, бросило категорически:
– Нет! Уж вы о нем мне не говорите. Никогда бы я не могла полюбить такого человека… И в-третьих, он фат!
– Он… фат? Миленькая Елена Григорьевна, что вы говорите? Да вы знаете, что такое фат?
– Фат, фат и фат! Вы бы посмотрели, какое у него белье, – прямо как у шансонетной певицы!.. Черное, шелковое – чуть не с кружевами… А вы говорите – не фат! Да я…
* * *
И сразу оба голоса замолчали: и контральто, и тот, что повыше. Как будто кто ножницами нитку обрезал. И молчали оба голоса так минут шесть-семь, до самой станции, когда поезд остановился.
И вышли контральто и сопрано молча, не глядя друг на друга и не заметив меня, прижавшегося к углу дивана…
Бритва в киселе
Глава I
Два раза в день из города Калиткина в Святогорский монастырь и обратно отправлялась линейка, управляемая грязноватым, мрачноватым, глуповатым парнем.
В этот день линейка приняла только двух, незнакомых между собой, пассажиров: драматическую артистку Бронзову и литератора Ошмянского.
Полдороги оба, по русско-английской привычке, молчали, как убитые, ибо не были представлены друг другу.
Но с полдороги случилось маленькое происшествие: мрачный, сонный парень молниеносно сошел с ума… Ни с того, ни с сего он вдруг почувствовал прилив нечеловеческой энергии: привстал на козлах, свистнул, гикнул и принялся хлестать кнутом лошадей с таким бешенством и яростью, будто собирался убить их. Обезумевшие от ужаса лошади сделали отчаянный прыжок, понесли, свернули к краю дороги, налетели передним колесом на большой камень, линейка подскочила кверху, накренилась набок и, охваченная от такой тряски морской болезнью, выплюнула обоих пассажиров на пыльную дорогу.
В это время молниеносное помешательство парня пришло к концу: он сдержал лошадей, спрыгнул с козел и, остановившись над поверженными в прах пассажирами, погрузился в не оправдываемую обстоятельствами сонную задумчивость.
– Выпали? – осведомился он.
Литератор Ошмянский сидел на дороге, растирая ушибленную ногу и с любопытством осматривая продранные на колене брюки. Бронзова вскочила на ноги и, энергично дернув Ошмянского за плечо, нетерпеливо сказала:
– Ну?!
– Что такое? – спросил Ошмянский, поднимая на нее медлительные ленивые глаза.
Тут же Бронзова заметила, что эти глаза очень красивы…
– Чего вы сидите?
– А что?
– Да делайте же что-нибудь!
– А что бы вы считали в данном случае уместным?
– О, Боже мой! Да я бы на вашем месте уже десять раз поколотила этого негодяя.
– За что?
– Боже ты мой! Вывалил нас, испортил вам костюм, я ушибла себе руку.
Облокотившись на придорожный камень, Ошмянский принял более удобную позу и, поглядывая на Бронзову снизу вверх, заметил с ленивой рассудительностью:
– Но ведь от того, что я поколочу этого безнадежного дурака, ваша рука сразу не заживет и дырка на моих брюках не затянется?
– Боже, какая вы мямля! Вы что, сильно расшиблись?
– О, нет, что вы!..
– Так чего же вы разлеглись на дороге?
– А я сейчас встану.
– От чего это, собственно, зависит?
– Я жду прилива такой же сумасшедшей энергии, как та, которая обуяла пять минут назад нашего возницу.
– Знаете, что вы мне напоминаете? Кисель! Ошмянский заложил руки за голову, запрокинулся и, будто обрадовавшись, что можно еще минутку не выходить из состояния покоя, спросил:
– Клюквенный?
– Это неважно. Выплеснули вас на дорогу, как тарелку киселя, – вы и разлились, растеклись по пыли. Давайте руку… Ну – гоп!
Он встал, отряхнулся, улыбнулся светлой улыбкой и спросил:
– А теперь что?
– О Боже мой! Неужели вы так и смолчите этому негодяю?! Ну, если у вас не хватает темперамента, чтобы поколотить его, – хоть выругайте!
– Сейчас, – вежливо согласился Ошмянский. Подошел к вознице и, свирепо нахмурив брови, сказал:
– Мерзавец. Понимаешь?
– Понимаю.
– Вот возьму, выдавлю тебе так вот, двумя пальцами, глаза и засуну их тебе в рот, чтобы ты впредь мог брать глаза в зубы. Свинья ты.
И оставив оторопевшего возницу, Ошмянский отошел к Бронзовой.
– Уже.
– Видела. Вы это сделали так, будто не сердце срывали, а неприятный долг исполнили. Кисель!
– А вы – бритва.
– Ну – едем? Или вы еще тут, на дороге, с полчасика полежите? Поехали.
Глава II
В Святогорском монастыре гуляли. Потом пили чай. Потом сидели, освещенные луной, на веранде, с которой открывался вид верст на двадцать. Говорили…
Какая внутренняя душевная работа происходит в актрисе и литераторе, когда они остаются вдвоем в лунный теплый вечер, – это мало исследовано… Может быть, общность служения почти одному и тому же великому искусству сближает и сокращает все сроки. Дело в том, что когда литератор взял руку актрисы и три раза поцеловал ее, рука была отнята только минут через пять.
Глава III
На другой день Ошмянский пришел к Бронзовой в гостиницу «Бристоль», № 46, где она остановилась. Пили чай. Разговаривали долго и с толком о театре, литературе.
А когда Бронзова пожаловалась, что у нее болит около уха и что она, кажется, оцарапалась тогда благодаря тому дураку о камень, Ошмянский заявил, что он освидетельствует это лично.
Приподнял прядь волос, обнаружил маленькую царапину, которую немедленно же и поцеловал.
Действенность этого, неизвестного еще в медицине средства могла быть доказана хотя бы тем, что в течение вечера разговоры были обо всем, кроме царапины.
Когда Ошмянский ушел, Бронзова, закинув руки за голову, прошептала:
– Милый, милый, глупый, глупый! И засмеялась.
– И однако он, кажется, порядочная размазня… Женщина из него может веревки вить.
Закончила несколько неожиданно:
– А оно, пожалуй, и лучше.
Глава IV
Прошло две недели. Гостиница «Бристоль».
На доске с перечислением постояльцев против № 46 мелом написаны две фамилии: «Ошмянский. Бронзова».
Глава V
В августе оба уезжали в Петроград. В купе, под убаюкивающее покачивание вагона, произошел разговор:
– Володя, – спросила Бронзова. – Ты меня любишь?
– Очень. А что?
– Ты обратил внимание на то, что некоторые фамилии, когда их произносишь, носят в себе что-то недосказанное… Будто маленькая комнатка в три аршина, в которой нельзя и шагнуть как следует… Только разгонишься и уже – стоп! Стена.
– Например, какая фамилия?
– Например, моя – Бронзова.
– Что же с этим поделать?..
– Есть выход: Бронзова-Ошмянская. Это будет не фамилия, а законченное художественное произведение. Не эскиз, не подмалевка, а ценная картина…
– Я тебя не понимаю.
– Володя… Я хочу, чтобы ты на мне женился.
– Что за фантазия?.. Разве нам и так плохо?
Его ленивые, сонные веки медленно поднялись, и он ласково и изумленно поглядел на нее.
– Если ты меня любишь, ты должен для меня сделать это…
– А ты не боишься, что это убьет нашу любовь?
– Настоящую любовь ничто не убьет.
– А ты знаешь, что я из мещанского звания? Приятно это будет?
– Если ты так говоришь, то ты не из мещанского звания, а из дурацкого. Ну, Кисель, милый Кися, говори: женишься на мне?
– Видишь ли, я лично против этого, я считаю это ненужным, но если ты так хочешь – женюсь.
– Вот сейчас ты не Кисель! Сейчас ты энергичный, умный мальчик.
Она поцеловала его, а вечером, причесывая на ночь волосы, счастливая, подумала: «Уж если я чего захочу – так то и будет. Милый, мой милый Кися…»
Глава VI
Бронзова впервые приехала к Ошмянскому в его петроградскую квартиру и пришла от нее в восторг:
– Всего три комнаты, а как мило, уютно…
Она подсела к нему ближе, подкрепила силы поцелуем и, гладя его волосы, спросила:
– Володя… А когда же наша свадьба?
– Милая! Да когда угодно. Вот только получу из Калиткинской управы документы – и сейчас же.
– А без них нельзя?
– Глупенькая, кто же станет венчать без документов? Там паспорт, метрическое…
– А зачем они лежат там?
– Документы-то? Паспорт для перемены отослал, а метрическое у тетки.
– Значит, ты это сделаешь?
– Она еще спрашивает! Чье это ушко?
– Нашего домохозяина.
– Ах, ты, мышонок………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….