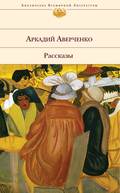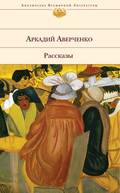Аркадий Аверченко
Хлопотливая нация (сборник рассказов)
Уники
Петербург. Литейный проспект. 1920 год. В антикварную лавку входит гражданин самой свободной в мире страны и, в качестве завсегдатая лавки, обращается к хозяину, потирая руки, с видом покойного основателя Третьяковской галереи, забредшего в мастерскую художника:
– Ну-ну, посмотрим… Что у вас есть любопытного?
– Помилуйте. Вы пришли в самый счастливый момент: уник на унике и уником погоняет. Вот, например, как вам покажется сия штукенция?
«Штукенция» – передняя ножка от массивного деревянного кресла.
– Гм… да! А сколько бы вы за нее хотели?
– Восемьсот тысяч!
– Да в уме ли вы, батенька!.. В ней и пяти фунтов не будет.
– Помилуйте! Настоящий Луи Каторз.
– А на черта мне, что он Каторз. Не на стенке же вешать. Каторз не Каторз – все равно, обед буду сегодня подогревать.
– По какому это случаю вы сегодня обедаете?
– По двум случаям, батенька! Во-первых – моя серебряная свадьба, во-вторых, достал полфунта чечевицы и дельфиньего жиру.
– А вдруг Чека пронюхает?
– Дудки-с! Мы это ночью все сварганим. Кстати, для жены ничего не найдется? В смысле мануфактуры?
– Ну, прямо-таки вы в счастливый момент попали. Извольте видеть – самый настоящий полосатый тик.
– С дачной террасы?
– Совсем напротив. С тюфячка. Тут на целое платьице, ежели юбку до колен сделать. Дешевизна и изящество. И для вас кое-что есть. Поглядите-ка: настоящая сатиновая подкладка от настоящего драпового пальто-с! Да и драп же! Всем драпам драп.
– Да что же вы мне драп расхваливаете, когда тут только одна подкладка?!
– Об драпе даже поговорить приятно. А это точно, что сатин. Типичный брючный материал.
– А вот тут, смотрите, протерлось. Сошью брюки, ан – дырка.
– А вы на этом месте карманчик соорудите.
– На колене-то?!!
– А что же-с. Оригинальность, простота и изящество. Да и колено – самое чуткое место. Деньги тащить будут – сразу услышите.
– Тоже скажете! Это какой же карман нужен, ежели я, выходя из дому, меньше двенадцати фунтов денег и не беру. Съедобного ничего нет?
– Как не быть! Изволите видеть: настоящая «Метаморфоза» – Перль-де-неж!
– Что же это за съедобное: обыкновенная рисовая пудра!
– Чудак вы человек: сами же говорите – рисовая, и сами же говорите – несъедобная. Да еще в 18-м году из нее такое печенье некоторые штукари пекли…
– Ну, отложите. Возьму. Да, позвольте, что же вы ее на стол высыпаете?!
– А коробочка-с отдельно! Уник. Настоящий картон и буквочки позолоченные. Не я буду, если тысяченок восемьсот за нее не хвачу.
– Вот коробочку-то я и возьму. Жене свадебный подарок. Бижутри, как говорится.
– Бумажным отделом не интересуетесь? Рекомендовал бы: предобротная вещь!
– Это что? Меню ресторана «Вена»? Гм… Обед из пяти блюд с кофе – рубль. А ну, что ели 17 ноября 1913 года? «Бульон из курицы. Щи суточ. Пирожки. Осетрина порусски. Индейка, рябчики, ростбиф. Цветная капуста. Шарлотка с яблоками». Н-да… Взять жене почитать, что ли…
– Берите. Ведь я вам не как меню продаю… Вы на эту сторону плюньте. А обратная-с… ведь это бристольский картон. Белизна и лак. На ней писать можно. Я вам только с точки зрения чистой поверхности продаю. И без Совнархоза сделочку завершим. Без взятия на учет.
Двести тысяченок ведь вас не разорят? А я вам в придачу зубочистку дам.
– Зачем мне? Все равно она безработная будет…
– Помилуйте, а перо! Кончик расщепите и пишите, как стальным.
– Да, вот, кстати, чтоб не забыть! Мне передавали, что у Шашина на Васильевском острове два стальных пера продаются № 86.
– Да правда ли? Может, старые, поломанные?
– Новехонькие. Ижицын ездил к нему смотреть № 86. Тисненые, сволочи, хорошенькие такие – глаз нельзя отвести. Вы не упускайте.
– Слушаю-с! Кроме – ничего не прикажете?
– Антрацит есть?
– Имеется. Сколько карат прикажете?
Этот рассказ написан мною вовсе не для того, чтобы рассмешить читателя для пищеварения после обеда.
Просто я, как добросовестный околоточный, протокол написал…
Находчивость на сцене
О своих первых шагах на сцене я рассказывал в другом месте. Но мои последующие шаги должны быть (я так полагаю) также интересны для читателя. Вот один из таких шагов.
* * *
Я уже три недели как играю на сцене. Вид у меня импозантный, важный, и на всех не играющих на сцене я смотрю с высоты своего величия.
Сидел я однажды с актерами в винном погребке за бутылкой вина и шашлыком и поучал своих старших товарищей, как нужно толковать роль Хлестакова, не смущаясь тем, что задолго до меня мой коллега Гоголь гораздо тщательнее и тоньше объяснил актерам эту роль.
Худощавый молодой господин с белыми волосами и истощенным вечной насмешкой лицом подошел к нам и принялся дружески пожимать руки актерам:
– Здравствуйте, Гаррики![17] Нас познакомили.
– Вы тоже актер? – снисходительно спросил я.
– Что вы! – возразил он, оскаливая зубы. – Как это вы можете по первому впечатлению так дурно судить о человеке?! Я не актер, но в вашем деле кое-что понимаю. Вы давно на сцене?
Я погладил свои бритые щеки:
– Порядочно. Завтра будет три недели!
– Ого! Значит, через восемь дней можно уж и юбилей праздновать. Хе-хе… Воображаю, как вы волнуетесь на сцене!
– Кто? Я? Ни капельки.
– Ну да, знаем мы! Конечно, если роль вызубрили, да под суфлера идете, да окружены опытными товарищами – тогда ничего. А представьте себе: на сцене какаянибудь неожиданность, что-нибудь такое, что не предусмотрено ни автором, ни режиссером, – воображаю вашу растерянную физиономию и трясущиеся колени…
– Ну, – усмехнулся я. – Меня не легко смутить.
– На сцене-то? Да бывают такие случаи, когда и Варламова[18] с Давыдовым[19] можно, что называется, угробить!
– Меня не угробите.
– Люблю скромных молодых людей! – вскричал он. Потом задумался, искоса на меня поглядывая. У меня было такое впечатление, что я действую ему на нервы…
– Что у вас идет завтра в театре?
– «Колесо жизни» Рахимова. Сам автор обещал завтра прийти посмотреть, как я играю Чешихина.
– Ах, вы играете Чешихина? И вы говорите, что вас невозможно на сцене смутить, сбить с толку?
– Да. По-моему, это гнилая задача.
Он зловеще улыбнулся. Протянул костлявую руку:
– Хотите заклад? На шесть бутылок кахетинского, на шесть шашлыков.
– Не хочу.
– Почему?!
– Мало. По десяти того и другого плюс кофе с бенедиктином.
– Молодой человек! Вы или далеко пойдете, или… плохо кончите. Согласен!
Таким образом состоялось это странное пари.
* * *
Шел второй акт «Колеса жизни». У меня только что кончилась бурная сцена с любимой девушкой, которая заявила мне, что любит не меня, а другого.
– Кто этот другой? – спросил я крайне мрачно.
– Это вас не касается, – гордо ответила она, выходя за двери.
Свою роль я хорошо знал. После ухода любимой девушки я должен схватиться за голову, поскрежетать зубами, уткнуться головой в диванную подушку, а потом вынуть из кармана револьвер и приставить к виску. В этот момент хозяйка дома, которая тайно любит меня, а я ее не люблю – выбегает, хватает меня за руку и, рыдая на моей груди, признается в своем чувстве… Такие пьесы, скажу по секрету, играть не трудно, а еще легче – писать.
Я уже схватился за голову, уже, по авторскому замыслу, поскрежетал зубами и только что подскочил к дивану, чтобы «уткнуться головой в подушку» – как боковая дверь распахнулась, и худой молодец с белыми волосами – тот самый, который взял подряд как бы то ни было смутить меня на сцене, – этот самый парень вышел на первый план самым непринужденным образом.
С двух сторон я услышал два шипения: впереди – суфлера, из боковой кулисы – помощника режиссера. Из директорской ложи глянуло на нас остолбенелое лицо автора.
– Здравствуйте, Чешихин! – развязно сказал беловолосый, протягивая мне руку. – Не ожидали? Я на огонек завернул.
Впереди я слышал шипенье, сбоку за кулисой отчаянное проклятие.
– Здравствуй, Вася, – мрачно сказал я. – Только ты сейчас зашел не вовремя. Мне не до тебя. Может быть, завернешь в другой раз, а? Мне нужно быть одному…
– Ну, вот еще глупости! – засмеялся беловолосый нахал, развалившись на диване. – Посидим, поболтаем.
Публика ничего не замечала, но за кулисами зловещий шум все усиливался.
Я задумчиво прошелся по сцене.
– Вася! – сказал я значительно. – Ты знаешь Лидию Николаевну?
Он покосился на меня и, незаметно подмигнув, проронил:
– Конечно, знаю. Преаппетитная девчонка.
– А-а! – вскричал я в неожиданном порыве бешенства. – Так это, значит, ты тот, из-за которого она отказала мне?! (Суфлерская будка вдруг опустела, но я от этого почувствовал себя еще увереннее и легче.) Ты?! Отвечай, негодяй!
«Вася» поглядел испуганно на мои сжатые кулаки и сказал примирительным тоном:
– Бросьте… поговорим о чем-нибудь другом…
– О другом?! – заревел я, торжествующе поглядывая на автора, который метался в директорской ложе, как лошадь на пожаре. – О другом? Ты меня довел почти до смерти и теперь хочешь говорить о другом?! Отвечай! – Я бросился на него, стал ему коленом на грудь и стал колотить головой об спинку дивана. Отвечай – как у вас далеко зашло?!
«Вася» побледнел как смерть и прошептал:
– Пустите меня, медведь! Вы так задушите! Шуток не понимаете, что ли?
– Ты сейчас умрешь! – прорычал я. – Другой раз тебе будет неповадно!
Он глядел на меня умоляющими глазами.
Потом прошептал:
– Ну, я проиграл пари, какого черта вам еще нужно? Пустите, я уйду.
– Смерть тебе! – вскричал я со злобным торжеством – и так стукнул его голову о спинку дивана, что он крякнул и свалился на пол.
– Неужели я убил его?! – вскричал я, театрально заламывая руки. – Воды, воды этому несчастному!
Я схватил графин с водой и вылил щедрую струю на корчившееся тело «Васи». Он испуганно закричал.
– Очнулся! – обрадовался я. – А теперь иди, несчастный, и постарайся на свободе обдумать свое поведение!
Я взял его в охапку и почти вышвырнул в боковую дверь. Схватился за голову. Прислушался. По мягким звукам ударов и по заглушённым стонам за кулисами я понял, что передал неудачливого Васю в верные руки.
– Итак, вот кто ее избранник! – вскричал я страдальчески. – Нет! Лучше смерть, чем такое сознание.
Дальше все пошло как по маслу: я вынул револьвер, приставил к виску, из средних дверей выбежала любящая женщина, упала на грудь – одним словом, я опять стал на рельсы, с которых меня попробовали стащить так неудачно.
«Колесо жизни» завертелось: в будке показался суфлер, в ложе – успокоенный автор.
* * *
После спектакля мне подали в уборную записку:
«Жрите сегодня ваше вино и шашлык без меня. Я все оплатил. Иду домой сохнуть и расправляться. Будьте вы прокляты!»
Роковой выигрыш
Больше всего меня злит то, что какой-нибудь читательбрюзга, прочтя нижеизложенное, сделает отталкивающую гримасу на лице и скажет противным, безапелляционным тоном:
– Не может быть такого случая в жизни! Читатель, конечно, способен спросить:
– А чем вы это докажете?
Чем я докажу? Чем я докажу, что такой случай возможен? О Боже мой! Да очень просто: такой случай возможен потому, что он был в действительности.
Надеюсь, другого доказательства не потребуется?
Прямо и честно глядя в читательские глаза, я категорически утверждаю: такой случай был в действительности, в августе месяце в одном из маленьких южных городков! Ну-с?
Да и что здесь такого необычного?.. Устраиваются на общедоступных гуляньях в городских садах лотереи? Устраиваются. Разыгрывается в этих лотереях в виде главной приманки живая корова? Разыгрывается. Может любой человек, купивший за четвертак билет, выиграть эту корову?
Может!
Ну вот и все. Корова – это ключ к музыкальной пьесе. Понятно, что в этом ключе и должна разыгрываться вся пьеса, или ни я, ни читатель ничего не понимаем в музыке.
* * *
В городском саду, раскинувшемся над широкой рекой, было устроено, по случаю престольного праздника, «большое народное гулянье с двумя оркестрами музыки, состязаниями на ловкость (бег в мешках, бег с яйцом и пр.), а также вниманию отзывчивой публики будет предложена лотерея-аллегри с множеством грандиозных призов, среди которых – живая корова, граммофон и мельхиоровый самовар».
Гулянье имело шумный успех, и лотерея торговала вовсю.
Писец конторы крахмальной фабрики Еня Плинтусов и мечта его полуголодной убогой жизни Настя Семерых пришли в сад в самый разгар веселья. Уже пробежали мимо них несколько городских дураков, путаясь ногами в мучных мешках, завязанных выше талии, что, в общем, должно было знаменовать собой увлечение отраслью благородного спорта – «бега в мешках». Уже пронеслась мимо них партия других городских дураков, с завязанными глазами, держа на вытянутой руке ложку с сырым яйцом (другая отрасль спорта: «бег с яйцом»); уже был сожжен блестящий фейерверк; уже половина лотерейных билетов была раскуплена…
И вдруг Настя прижала локоть своего спутника к своему локтю и сказала:
– А что, Еня, не попробовать ли нам в лотерею… Вдруг да что-нибудь выиграем!
Рыцарь Еня не прекословил.
– Настя! – сказал он. – Ваше желание – форменный закон для меня!
И ринулся к лотерейному колесу.
С видом Ротшильда бросил предпоследний полтинник, вернулся и, протягивая два билетика, свернутых в трубочку, предложил:
– Выбирайте. Один из них мой, другой ваш.
Настя, после долгого раздумья, выбрала один, развернула, пробормотала разочарованно: «Пустой!» – и бросила его на землю, а Еня Плинтусов, наоборот, издал радостный крик:
– Выиграл! – И тут же шепнул, глядя на Настю влюбленными глазами: – Если зеркало или духи – дарю их вам.
Вслед за тем он обернулся к киоску и спросил:
– Барышня! Номер 14 – что такое?
– 14? Позвольте… Это корова! Вы корову выиграли.
И все стали поздравлять счастливого Еню, и почувствовал Еня тут, что действительно бывают в жизни каждого человека моменты, которые не забываются, которые светят потом долго-долго ярким, прекрасным маяком, скрашивая темный, унылый человеческий путь.
И – таково страшное действие богатства и славы – даже Настя потускнела в глазах Ени, и пришло ему в голову, что другая девушка – не чета Насте – могла бы украсить его пышную жизнь.
– Скажите, – спросил Еня, когда буря восторгов и всеобщей зависти улеглась. – Я могу сейчас забрать свою корову?
– Пожалуйста. Может быть, продать ее хотите? Мы бы ее взяли обратно за 25 рублей.
Бешено засмеялся Еня.
– Так, так! Сами пишете, что «корова стоимостью свыше 150 рублей», а сами предлагаете 25?.. Нет-с, знаете… Позвольте мне мою корову, и больше никаких!
В одну руку он взял веревку, тянувшуюся от рогов коровы, другой рукой схватил Настю за локоть и, сияя и дрожа от восторга, сказал:
– Пойдемте, Настенька, домой, больше нам здесь нечего делать…
Общество задумчивой коровы немного шокировало Настю, и она заметила несмело:
– Неужели вы с ней будете так… таскаться?
– А почему же? Животное как животное, да и не на кого ее же здесь оставить!
* * *
Еня Плинтусов даже в слабой степени не обладал чувством юмора. Поэтому он ни на одну минуту не почувствовал всей нелепости вышедшей из ворот городского сада группы: Еня, Настя, корова.
Наоборот, широкие, заманчивые перспективы богатства рисовались ему, а образ Насти все тускнел и тускнел…
Настя, нахмурив брови, пытливо взглянула на Еню, и ее нижняя губа задрожала…
– Слушайте, Еня… Значит, вы меня домой не проводите?
– Провожу. Отчего же вас не проводить?
– А… корова?
– Чем же корова вам мешает?
– И вы воображаете, что я через весь город пойду с такой погребальной процессией? Да меня подруги засмеют, мальчишки на нашей улице проходу не дадут!!
– Ну, хорошо… – после некоторого раздумья сказал Еня. – Сядем на извозчика. У меня еще осталось тридцать копеек.
– А… корова?
– А корову привяжем сзади. Настя вспыхнула.
– Я совершенно не знаю: за кого вы меня принимаете? Вы бы еще предложили мне сесть верхом на вашу корову!
– Вы думаете, это очень остроумно? – надменно спросил Еня. – Вообще, меня удивляет: у вашего отца четыре коровы, а вы одной даже боитесь, как черта.
– А вы не могли ее в саду до завтра оставить, что ли? Украли бы ее, что ли? Сокровище какое, подумаешь…
– Как угодно, – пожал плечами Еня, втайне чрезвычайно уязвленный. – Если вам моя корова не нравится…
– Значит, вы меня не провожаете?
– Куда ж я корову дену? Не в карман же спрятать!..
– Ах, так? И не надо. И одна дойду. Не смейте завтра к нам приходить.
– Пожалуйста, – расшаркался обиженный Еня. – И послезавтра к вам не приду, и вообще могу не ходить, если так…
– Благо нашли себе подходящее общество!
И, сразив Еню этим убийственным сарказмом, бедная девушка зашагала по улице, низко опустив голову и чувствуя, что сердце ее разбито навсегда.
Еня несколько мгновений глядел вслед удаляющейся Насте.
Потом очнулся.
– Эй, ты, корова… Ну, пойдем, брат.
Пока Еня и корова шли по темной, прилегающей к саду улице, все было сносно, но едва они вышли на освещенную многолюдную Дворянскую, как Еня почувствовал некоторую неловкость. Прохожие оглядывали его с некоторым изумлением, а один мальчишка пришел в такой восторг, что дико взвизгнул и провозгласил на всю улицу:
– Коровичий сын свою маму спать ведет.
– Вот я тебе дам по морде, так будешь знать, – сурово сказал Еня.
– А ну дай! Такой сдачи получишь, что кто тебя от меня отнимать будет?
Это была чистейшая бравада, но мальчишка ничем не рисковал, ибо Еня не мог выпустить из рук веревки, а корова передвигалась с крайней медленностью.
На половине Дворянской улицы Еня не мог больше выносить остолбенелого вида прохожих. Он придумал следующее: бросил веревку и, отвесив пинка корове, придал ей этим самым поступательное движение. Корова зашагала сама по себе, а Еня, с рассеянной миной, пошел сбоку, приняв вид обыкновенного прохожего, не имеющего с коровой ничего общего…
Когда же поступательное движение коровы ослабевало и она мирно застывала у чьих-нибудь окон, Еня снова исподтишка давал ей пинка, и корова покорно брела дальше…
Вот Енина улица. Вот и домик, в котором Еня снимал у столяра комнату… И вдруг, как молния во тьме, голову Ени осветила мысль:
«А куда я сейчас дену корову?»
Сарая для нее не было. Привязать во дворе – могут украсть, тем более что калитка не запирается.
«Вот что я сделаю, – решил Еня после долгого и напряженного раздумья. – Я ее потихоньку введу в свою комнату, а завтра все это устроим. Может же она одну ночь простоять в комнате…»
Потихоньку открыл дверь в сени счастливый обладатель коровы и осторожно потянул меланхолическое животное за собой:
– Эй, ты. Иди сюда, что ли… Да тиш-ше! Ч-черт! Хозяева спят, а она копытами стучит, как лошадь.
Может быть, весь мир нашел бы этот поступок Ени удивительным, вздорным и ни на что не похожим. Весь мир, кроме самого Ени да, пожалуй, коровы: потому что Еня чувствовал, что другого выхода не представлялось, а корова была совершенно равнодушна к перемене своей службы и к своему новому месту жительства.
Введенная в комнату, она апатично остановилась у Ениной кровати и тотчас же стала жевать угол подушки.
– Кш!! Ишь ты, проклятая, – подушку грызет! Ты что… есть, может, хочешь? или пить?
Еня налил в тазик воды и подсунул его под самую морду коровы. Потом крадучись вышел во двор, обломал несколько веток с деревьев и, вернувшись, заботливо сунул их в тазик же…
– На, ты! Как тебя… Васька! Ешь! Тубо!
Корова сунула морду в тазик, лизнула языком ветку и вдруг, подняв голову, замычала довольно густо и громко.
– Цыц ты, проклятая! – ахнул растерявшийся Еня. – Молчи, чтоб тебя… Вот анафема!..
За спиной Ени тихо скрипнула дверь. В комнату заглянул раздетый человек, закутанный в одеяло, и, увидев все происходящее в комнате, с тихим криком ужаса отступил назад.
– Это вы, Иван Назарыч? – шепотом спросил Еня. – Входите, не бойтесь… У меня корова.
– Еня, с ума вы сошли, что ли? Откуда она у вас?
– Выиграл в лотерею. Ешь, Васька, ешь!.. Тубо!
– Да как же можно корову в комнате держать? – недовольно заметил жилец, усаживаясь на кровать. – Узнают хозяева – из квартиры выгонят.
– Так это до завтра только. Переночует, а потом сделаем что-нибудь с ней.
«М-м-му-у!» – заревела корова, будто соглашаясь с хозяином.
– А, нету на тебя угомону, проклятая!! Цыц! Дайте одеяло, Иван Назарыч, я ей голову закутаю. Постой. Ну, ты! Что я с ней сделаю – одеяло жует! У-у, черт!
Еня отбросил одеяло и хватил изо всей силы кулаком корову между глаз… «М-мму-у-у!..»
– Ей-богу, – сказал жилец, – сейчас явится хозяин и прогонит вас вместе с коровой.
– Так что же мне делать?! – простонал Еня, приходя в некоторое отчаяние. – Ну, посоветуйте.
– Да что ж тут советовать… А вдруг она будет кричать целую ночь. Знаете что? Зарежьте ее.
– То есть… как это зарезать?
– Да очень просто. А завтра мясо можно продать мясникам.
Можно было сказать с уверенностью, что мыслительные способности гостя в лучшем случае стояли на одном уровне с мыслительными способностями хозяина.
Еня тупо поглядел на жильца и сказал, после некоторого колебания:
– А что же мне за расчет?
– Ну как же! В ней мяса пудов двадцать… По пяти рублей пуд продадите – и то сто рублей. Да шкура, да то, да се… А за живую вам все равно не больше дадут.
– Серьезно? А чем же я ее зарежу? Есть столовый нож и тот тупой. Ножницы еще есть – больше ничего.
– Что ж, если ножницы вонзить ей в глаз, чтобы дошло до мозга…
– А вдруг она… станет защищаться… Подымет крик…
– Положим, это верно. Может, отравить ее, если…
– Ну, вы тоже скажете… Сонного порошка ей вкатить бы, чтоб заснула, да откуда его сейчас возьмешь?..
«Му-у-у-у!..» – заревела корова, поглядывая глупыми круглыми глазами на потолок.
За стеной послышалась возня. Кто-то рычал, ругался, отплевывался от сна. Потом послышалось шарканье босых ног, дверь в Енину комнату распахнулась, и перед смятенным Еней предстал сонный, растрепанный хозяин.
Он взглянул на корову, на Еню, заскрипел зубами и, не вдаваясь ни в какие расспросы, уронил сильное и краткое:
– Вон!
– Позвольте вам объяснить, Алексей Фомич…
– Вон! Чтобы духу твоего сейчас же не было. Я покажу вам, как безобразие заводить!
– То, что я вам и говорил, – сказал жилец таким тоном, будто все устроилось как нужно; закутался в свое одеяло и пошел спать.
* * *
Была глухая, темная летняя ночь, когда Еня очутился на улице с коровой, чемоданом и одеялом с подушкой, навьюченными на корову (первая осязательная польза, приносимая Ене этим неудачным выигрышем).
– Ну, ты, проклятая! – сказал Еня сонным голосом. – Иди, что ли! Не стоять же тут…
Тихо побрели…
Маленькие окраинные домики кончились, раскинулась пустынная степь, ограниченная с одной стороны каким-то плетеным забором.
– Тепло, в сущности, – пробормотал Еня, чувствуя, что он падает от усталости. – Посплю здесь у изгороди, а корову к руке привяжу.
И заснул Еня – это удивительное игралище замысловатой судьбы.
* * *
– Эй, господин! – раздался над ним чей-то голос. Было яркое, солнечное утро.
Еня открыл глаза и потянулся.
– Господин! – сказал мужичонка, пошевелив его носком сапога. – Как же это возможно, чтобы руку к дереву привязывать. Это к чему ж такое?
Вздрогнув как ужаленный, вскочил Еня на ноги и издал болезненный крик: другой конец привязанной к руке веревки был наглухо прикреплен к низкорослому, корявому дереву.
Суеверный человек предположил бы, что за ночь корова чудесной силой превратилась в дерево, но Еня был просто глупо-практичным юношей.
Всхлипнул и завопил:
– Украли!!
…………………………………………………………………
– Постойте, – сказал участковый пристав. – Что вы мне все говорите – украли да украли, корова да корова!.. А какая корова?
– Как какая? Обыкновенная.
– Да какой масти-то?
– Такая, знаете… Коричневая. Но есть, конечно, и белые места.
– Где?
– Морда, кажется, белая. Или нет! Сбоку белое… На спине тоже… Хвост такой же тоже… бледный. Вообще, знаете, как обыкновенно бывают коровы.
– Нет-с! – решительно сказал пристав, отодвигая бумагу. – По таким спутанным приметам я разыскивать не могу. Мало ли коров на свете!
И побрел бедный Еня на свой крахмальный завод… Все тело ломило от неудобного ночлега, а впереди предстоял от бухгалтера выговор, так как был уже первый час дня…
И призадумался Еня над тщетой всего земного: вчера у Ени было все: корова, жилище и любимая девушка, а сегодня все потеряно: и корова, и жилище, и любимая девушка.
Странные шутки шутит над нами жизнь, а мы все – ее слепые, покорные рабы.