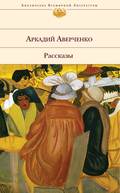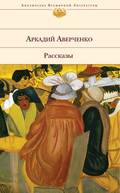Аркадий Аверченко
Хлопотливая нация (сборник рассказов)
На «Французской выставке за сто лет»
– Посмотрим, посмотрим… Признаться, не верю я этим французам.
– Почему?
– Так как-то… Кричат: «Искусство, искусство!» А что такое искусство, почему искусство? – никто не знает.
– Я вас немного не понимаю, – что вы хотите сказать словами: «Почему искусство»?
– Да так: я вот вас спрашиваю – почему искусство?
– То есть как – почему?
– Да так! Вот небось и вы даже не ответите, а то французские какие-то живописцы. Наверное, все больше из декадентов.
– Почему же уж так сразу и декаденты? Ведь декаденты недавно появились, а эта выставка за сто лет.
– Ну, половина, значит, декадентов. Вы думаете, что! Им же все равно.
– Давайте лучше рассматривать картины.
– Ну, давайте. Вы рассматривайте ту, желтую, а я эту.
– Что ж тут особенного рассматривать – вот я уже и рассмотрел.
– Нельзя же так скоро. Вы еще посмотрите на нее.
– Да куда ж еще смотреть?! Все видно как на ладони: стол, на столе яблоки, апельсины, какая-то овощь. Интересно, как она называется?
– А какой номер?
– Сто двадцать седьмой.
– Сейчас… Гм! Что за черт! В каталоге эта картина называется «Лесная тишина». Как это вам понравится?! У этих людей все с вывертом… Он не может прямо и ясно написать: «Стол с яблоками» или «Плоды». Нет, ему, видите ли, нужно что-нибудь этакое почуднее придумать! Лесная тишина! Где она тут? А потом возьмет он, нарисует лесную тишину и подпишет: «Стол с апельсином». А я вам скажу прямо: такому молодцу не на выставке место, а в сумасшедшем доме!
– Ну, может быть, это ошибка. Мало ли что бывает: типографщик напился пьяный и допустил ошибку.
– Допустим. Пойдем дальше. А это что за картина? Ну… голая женщина – это еще ничего. Искусство там, натура, как вообще… Какая-нибудь этакая Далила или Семирамида. Какой номер? Двести восемнадцать? Посмотрим. Вот тебе! Я ж говорю, что у этих людей вместо головы коробка от шляпы! И это называется «новым искусством»! Новыми путями! Может, скажете – опять типографская ошибка? Нарисована голая женщина, а в каталоге ее называют: «Вид с обрыва»! Нет-с, это не типографская ошибка, а тенденция! Как бы почудней, как бы позабористее на голову стать. Эх вы! Просвещенные мореплаватели!
– Это не англичане, а французы.
– Я и говорю. И я уверен, что вся выставка в стиле «О, закрой свои голубые ноги». Это что? Четыреста одиннадцатый? Лошадки на лугу пасутся. Как оно там? Ну конечно! Они это называют «Заседание педагогического совета»!
– А знаете – это мне нравится. Тут есть какая-то сатира… Гм! Ненормальная постановка дела высшего образования в России. Проект Кассо…
– Нет! Нет! Вы посмотрите! Тут нормальному человеку можно с ума сойти! Я бы за это новое искусство в Сибирь ссылал! Вы видите? Нарисован здоровенный мужчинище с бородой, а под этим номером творец сего увража в каталоге пишет: «Моя мать»… Его мать! Да я б его… Нет, не могу больше! Я им сейчас покажу, как публику обманывать. Ты, милый мой, хоть и декадент, а тюрьма и для декадентов и для недекадентов одинаковая! Эй, кто тут! Вы капельдинер? Билеты отбираете? За что? Может, и у вас новое течение? Посмотрите вашими бесстыдными глазами – кто это может допустить?! Это какой номер? Девяносто пятый? Мужчина с бородой? А в каталоге что? Девяносто пятый – «Моя мать»? Мать с бородой? Юлия Пастрана? Или зарвавшаяся наглость изломанных идиотов, которым все прощается? Я вас спрашиваю! Что вы мне на это скажете?
– Что я скажу? Позвольте ваш каталог… Вы сейчас откуда?
– Мы, миленький мой, сейчас из такого места, которое не вам чета! Там художники хранят святые старые традиции! Одним словом – с академической выставки, которая…
– Вы бы, господин, если так экономите, то уж не кричали бы, – ведь у вас каталог-то не нашей, а чужой выставки.
Быт
Однажды, вскоре после того как я приехал в Петербург искать счастья (то было четыре года тому назад), мне вздумалось зайти закусить в один из самых больших и фешенебельных ресторанов.
Об этом ресторане до сих пор я знал только понаслышке. И вошел я в его монументальный огромный зал с некоторым трепетом.
И когда сел за столик, сразу на меня пахнуло суровостью и враждебностью незнакомого места. Было как-то холодно, страшно и неуютно… Официанты казались слишком необщительными, замкнутыми, метрдотель слишком величественным, а публика слишком враждебной и неприветливой.
«Господи! – подумал я. – Как мало в человеческих отношениях простоты, сердечности и уюта. Ведь они все такие же люди, как я; почему же они все так накрахмалены?! Так холодны? Чужды? Страшны?»
– Что прикажете? – сухо спросил метрдотель.
– Мне бы позавтракать.
– Простите, завтраков нет. Только до трех часов. А сейчас четверть четвертого.
– А вот те едят же, – смущенно кивнул я головой.
– Те заказали раньше, – ледяным тоном ответил метрдотель.
– Значит, что же выходит: что у вас мне не дадут есть?
– Почему же-с. Можно порционно. Но долго придется ждать: пока закажут, пока сделают.
– Тогда… ничего мне не надо, – сказал я, густо покраснев от сознания своего глупого положения. – Если у вас такие нелепые порядки – я уйду.
Я встал и, понурив голову, обескураженный, ушел, давая себе слово никогда больше в этот суровый ресторан не заглядывать.
* * *
Как это случилось – не знаю, но теперь это мой излюбленный ресторан.
Я в нем каждый день завтракаю, почти каждый день обедаю и часто ужинаю.
Швейцар на подъезде высаживает меня с извозчика и говорит:
– Здравствуйте, Аркадий Тимофеевич! Снимая с меня пальто, другой швейцар замечает:
– Снежком-то вас как, Аркадий Тимофеевич, занесло… Погодка – прямо беда! А вас тут спрашивали Анатолий Яковлевич.
– Он ушел?
– Ушли-с. А Николай Николаевич здесь. Они с господином Чимарозовым сидят.
Я вхожу в зал.
Полный, вальяжный официант дает мне лучший столик, подсовывает карточку с тайной ласковостью, радуясь, что может ввернуть такое словцо, говорит:
– Бульонерши, конечно? Традиционно?
– Традиционно, – улыбаюсь я.
И действительно традиционно. Все традиционно… Буфетчик у буфета, наливая мне рюмку лимонной водки, сообщает, что «были Николай Николаевич и о вас справлялись», не спрашивая, поливает шофруа из утки соусом кумберленд и, не спрашиваясь, выдавливает на икру пол-лимона.
А сбоку подходит француз-метрдотель и говорит, мило грассируя:
– Вот, Аркадий Тимофеевич, говорят: заграница, заграница! А вы посмотрите, какие мы получили мандарины из Сухума – в десять раз лучше заграничных! Я вам пришлю отведать.
И все, что окружает меня в этом ресторане, дышит таким уютом, таким теплом и прочной лаской, что чувствуешь себя как дома, как в своей собственной маленькой столовой.
Когда меня впервые оштрафовали за какую-то заметку, я пережил несколько очень тягостных, неприятных часов.
Так было странно и неуютно, когда утром пришел околоточный и, несмотря на то что я еще спал, потребовал, чтобы его провели ко мне.
– Да барин еще спит.
– Ну, все равно я подожду: посижу здесь, в приемной.
– Да он, может быть, еще часа два будет спать…
– Ну, что же делать. А я его должен подождать. Дело срочное.
А когда я, наскоро одевшись, вышел к нему, меня поразил его неприветливый, гранитный вид.
– Что такое?
– Здравствуйте. Тут вот с вас нужно штраф взыскать… По распоряжению администрации.
– Да что вы говорите! Какой штраф? За что?!
– А вот тут сказано: за статью «Триумф октябристов».
– Позвольте! Да статья совсем безобидная!
– Не знаю-с. Меня не касается. Мне приказано взыскать деньги нынче же.
– Ну… а если я не уплачу?
– Тогда я обязан доставить вас в участок на предмет ареста.
Боже ты мой, как сухо, как официально. Ни одной сердечной нотки… ни одного знака сочувствия.
Стоишь перед холодной гранитной стеной, которая не сдвинется, не пошевелится, хотя бы облить ее целыми ручьями слез человеческих.
– А завтра уплатить можно?
– Не могу-с. Циркуляр. Мы отсрочить не имеем права. И вспомнился мне тот величественный метрдотель, который категорически отказал в завтраке только потому, что было на пятнадцать минут больше трех.
Суровый, безжизненный, холодный гранит! Угрюмый, замкнутый в своем величии мавзолей!
* * *
Как это случилось, не знаю, но теперь я в полиции свой человек.
Околоточный входит ко мне утром в спальню (он милый человек, и я его не стесняюсь), потирает руки и делает несколько веских замечаний о погоде:
– Собачья погода. Снегом совсем запорошило. Теперь в наряде стоять – одна мука. Здравствуйте, Аркадий Тимофеевич!
– А! Мое почтение, Семен Иванович. Ну, что? Он улыбается.
– Традиционно!
Говорит он это вкусно-звучащее слово совсем так, будто бы за ним должен последовать «бульон-ерши».
Я уже не испытываю тягостного, неприятного чувства живого человека перед мертвой гранитной скалой. У нас тепло, дружба, уют.
– За что это они, Семен Иванович?
– А вот я номерок захватил. Поглядите. Вот, видите?
– Господи, да за что же тут?
– За что! Уж они найдут, за что. Да вы бы, Аркадий Тимофеевич, послабже писали, что ли. Зачем так налегать… Знаете уж, что такая вещь бывает, – пустили бы пожиже. Плетью обуха не перешибешь.
– Ах, Семен Иванович, какой вы чудак! «Полегче, полегче!» И так уж розовой водицей пишу. Так нет же, и это для них нецензурно.
– Да уж… тяжеленька ваша должность. Такой вы хороший человек, и так мне неприятно к вам с такими вещами приходить… Ей-богу, Аркадий Тимофеевич.
– Ну, что делать… Стаканчик чаю, а?
– Нет, уж я папироску выкурю и побегу. Дома-то у меня такая неприятность, жена кипятком руку обварила.
– А вы тертый картофель приложите: чудесно действует. Или чернилами обваренное место помажьте.
– Делали уж; и чернилами и картофельную муку прикладывали.
– Ну, даст Бог, пройдет. А Афансий Петрович по-прежнему чертит?
– Да уж… горбатого могила исправит. Ну, я пойду. С деньгами как – традиционно? До завтра?
– Да, конечно. Я к Илье Константиновичу часа в три загляну. Всего хорошего.
В три часа я у Ильи Константиновича.
– А, господин анархист, – весело встречает он меня. – Традиционно? Садитесь! Я знаю, вы моих не курите, так я вам эти предложу, был Петр Матвеевич и забыл их у меня на столе. Курите контрабанду. Хе-хе.
– У Петра Матвеевича папироски хорошие, – соглашаюсь я, закуривая. – Марфу Илларионовну давно видели?
– Позавчера. В театре были. Потом поехали компанией ужинать и очень жалели, что вас не было.
– Да, да, очень жаль. Кстати, там у вас есть насчет меня предписание… четыреста рублей, так я…
– Знаю! Завтра, конечно, Аркадий Тимофеевич. А я те книжки, что вы мне дали, уже прочел. Следующий раз с Семеном Ивановичем их передам.
О «следующем разе» мы оба говорим так же хладнокровно, как о завтрашнем дне, который все равно, неизбежно наступит…
Однажды я, по обыкновению, разогнался в свой излюбленный ресторан, и вдруг швейцар остановил меня на пороге:
– Сегодня, Аркадий Тимофеевич, закрыто: по случаю начала ремонта.
Я заглянул в залу, и сердце мое сжалось: не было привычных столов, покрытых белоснежными скатертями, мягкого красного ковра и зелени трельяжей.
– Э, черт! Какого же дьявола вы не объявили раньше!
Однажды утром ко мне явился околоточный Семен Иванович.
Он обругал погоду и сообщил о нескольких новых штрихах в облике неуравновешенного Афанасия Петровича.
– Садитесь, – сказал я. – За какую статью? Сколько?
– Нисколько. Я зашел, чтобы вы подписали протокол по делу о столкновении моторов. Вы свидетелем были.
Чем-то чужим, неуютным пахнуло на меня… Будто бы взору моему вместо привычного вида трех рядов столов, покрытых скатертями и украшенных цветами, предстала суровая, чуждая картина голых стен и обнаженного от мягкого ковра пола.
И разговор на этот раз не вязался. Мы были выбиты из привычной колеи…
Когда нет быта, с его знакомым уютом, с его традициями – скучно жить, холодно жить…
Рассказ о колоколе
На случай, который я расскажу ниже, могут существовать только две точки зрения: автору можно поверить или не верить.
Автору очень хочется, чтобы ему поверили. Автор думает, что читателя тронет это желание, потому что обыкновенно всякому автору в глубокой степени безразлично – верит ему читатель или нет. Писатель палец о палец не ударит, чтобы заслужить безусловное доверие читателя.
Автор же нижеописанного – в отдельном абзаце постарается привести некоторые доказательства тому, что весь рассказ не выдумка, а действительный случай.
Именно – автор дает честное слово.
Глава I
Однажды, в конце великого поста, в наш город привезли новый медный колокол и повесили его на самом почетном месте в соборной колокольне.
О колоколе говорили, что он невелик, но звучит так прекрасно, что всякий слышавший умиляется душой и плачет от раскаяния, если совершил что-нибудь скверное.
Впрочем, и не удивительно, что про колокол ходили такие слухи: он был отлит на заводе по предсмертному завещанию и на средства одного маститого верующего беллетриста, весь век писавшего пасхальные и рождественские рассказы, герои которых раскаивались в своих преступлениях при первом звуке праздничных колоколов. Таким образом, писатель как бы воздвиг памятник своему кормильцу и поильцу – и отблагодарил его.
Глава II
Едва запели певчие в Великую ночь: «Христос воскресе из мертвых…», как колокол, управляемый опытной рукой пономаря, вздрогнул и залился негромким радостным звоном.
Семейство инспектора страхового общества Холмушина сидело в столовой в ожидании свяченого кулича, потому что погода была дождливая и никто, кроме прислуги, не рискнул пойти в церковь.
Услышав звук колокола, инспектор поднял голову и сказал, обращаясь к жене:
– Да! Забыл совсем тебе сказать: ведь я нахожусь в незаконной связи с гувернанткой наших детей, девицей Верой Кознаковой. Ты уж извини меня, пожалуйста!
Сидевшая тут же гувернантка прислушалась к звону колокола, вспыхнула до корней волос и возразила:
– Хотя это, конечно, и правда, но я должна сознаться, что, в сущности, не люблю вас, потому что вы старый и ваши уши поросли противным мохом. А вступила с вами в близкие отношения благодаря деньгам. Должна сознаться, что мне больше нравится ваш делопроизводитель Облаков, Василий Петрович. О, пощадите меня!
– Могу ли я вас обвинять, – пожала плечами жена Холмушина, – когда мой средний сын Петичка не мужний, а от доктора Верхоносова, с которым я встречалась во время оно в Москве.
– Очевидно, доктор Верхоносов был большой мошенник? – прислушиваясь к звуку колокола и покачивая головой, прошептал Петенька, гимназист четвертого класса.
– Почему?
– Вероятно, я в него удался: можете представить, в третьей четверти у меня поставлены две единицы, а я переправил их на четыре да и показал отцу.
– Дитё! – снисходительно улыбнулась старая нянька. – Сколько я у вас, господа вы мои, сахару перетаскала за все время, так это и пудами не сосчитать. Анадысь банку с вареньем выела, а потом разбила да на Анюточку и свалила: будто она разбила.
– Ничего! – махнула рукой маленькая Аня. – За банку мне только два подзатыльника и попало, а того, что я вчера в папином кабинете фарфорового медведя разбила, – никто и не знает.
Инспектор встал, потянулся и сказал:
– Пойти разве в кабинете написать в правление нашего общества заявление, что я третьего дня застраховал безнадежно чахоточного, подсунув вместо него доктору для осмотра здоровяка, кондуктора конки.
– Как же вы пошлете это заявление, – возразила горничная Нюша, – если я вчера из коробки на вашем письменном столе все почтовые марки покрала.
– Жаль, – сказал инспектор. – Ну, все равно – поеду к полицейскому, заявлю ему, потому что это дело – уголовное.
Глава III
Инспектор оделся и вышел на улицу. Колокол звонил… Нищий подошел к нему и укоризненно сказал:
– Вы мне уже третий год даете то две, то три копейки при каждой встрече. Где у вас глаза-то были?
– А что?
– Да я в сто раз, может быть, богаче вас: у меня есть два дома на Московской улице.
Какой-то запыхавшийся человек с размаху налетел на них и торопливо спросил:
– Где тут принимают заявления о побеге с каторги?
– Пойдем вместе, – сказал инспектор. – Мне нужно заявить тоже об уголовном дельце.
– И я с вами, – привязался нищий. – Ведь я один-то дом нажил неправильным путем – обошел сиротку одну. Лет двадцать как это было – да уж теперь заодно заявить, что ли?
Все трое зашагали по оживленной многолюдной улице, по которой сновала одинаково настроенная публика. Кто шел на участок, кто к прокурору, а один спешил даже к любовнице, чтобы признаться ей, что любит жену больше, чем ее.
Все старательно обходили купца, стоявшего на коленях без шапки посреди улицы. Купец вопил:
– Покупатели! Ничего нет настоящего у меня в магазине – все фальшивое! Мыло, масло, табак, икра – даже хлеб! Как это вы терпели до сих пор – удивляюсь.
– Каяться вы все мастера, – возразил шедший мимо покупатель, – а того, что я тебе вчера фальшивую сторублевку подсунул, – этого ты небось не знаешь. Эй, господин, не знаете, какой адрес прокурора?
Глава IV
В участке было шумно и людно.
Пристав и несколько околоточных сортировали посетителей по группам – мошенников отдельно, грабителей отдельно, а мелких жуликов просто отпускали.
– Вы что? Ограбление? Что? Вексель подделали! Так чего же вы лезете? Ступайте домой, и без вас есть много поважнее. Это кто? Убийца? Ты, может, врешь! Свидетели есть? Господа! Ради Бога, не все сразу – всем будет место. Сударыня, куда вы лезете с вашим тайным притоном разврата?! Не держите его больше – и конец. Ты кто? Конокрад, говоришь? Паспорт! Вы что? Я сказал вам уже – уходите!
– Господин пристав! Как же так уходите? А что у меня два года фабрика фальшивых полтинников работает – это, по-вашему, пустяки?
– Ах ты, Господи! Сейчас только гравера со сторублевками выгнал, а тут с вашими полтинниками буду возиться.
– Да ведь то бумага, дрянь – вы сами рассудите. А тут металл! Работа по металлу! Уважьте!
– Ступайте, ступайте. Это что? Что это такое в конвертике? Больше не беру. Ни-ни!
Полицмейстер вышел из своего кабинета и крикнул:
– Это еще что за шум! Вы мешаете работать. Я как раз подсчитывал полученные от… Эй, гм! Кто там есть! Ковальченко, Седых! Это, наконец, невозможно! Бегите скорее к собору, возьмите товарищей, остановите звонаря и снимите этот несносный колокол. Да остерегайтесь, чтобы он не звякнул как-нибудь нечаянно.
Глава V
Колокол сняли…
Он долго лежал у задней стены соборной ограды; дожди его мочили, и от собственной тяжести он уже наполовину ушел в землю. Изредка мальчишки, ученики приходского училища, собирались около него поиграть, тщетно совали внутрь колокола ручонки с целью найти язык – язык давно уже, по распоряжению полицмейстера, был снят и употреблен на гнет для одной из бочек с кислой капустой, которую полицмейстер ежегодно изготовлял хозяйственным способом для надобностей нижних чинов пожарной команды.
Долго бы пришлось колоколу лежать в бездействии, уходя постепенно в мягкую землю, – но приехали однажды какие-то люди, взвалили его на ломовика, увезли и продали на завод, выделывавший медные пуговицы для форменных мундиров.
* * *
Теперь, если вы увидите чиновничий или полицейский мундир, плотно застегнутый на пуговицы, – блестящие серебряные пуговицы, – знайте, что под тонким слоем серебра скрывается медь.
Пуговицы хорошие, никогда сами собою не расстегиваются, а если об одну из них нечаянно звякнет орденок на груди, то звук получается такой тихий, что его даже владелец ордена не расслышит.
Святые души
Бывают такие случаи в жизни, в которых очень трудно признаться.
I
Сегодня утром я, развернув газету и пробегая от нечего делать отдел объявлений, наткнулся на такую публикацию:
«Натурщица – прекрасно сложена, великолепное тело, предлагает художникам услуги по позированию».
Хи-хи, – засмеялся я внутренне. – Знаем мы, какая ты натурщица. Такая же, как я художник…
Потом я призадумался. Поехать, что ли? Вообще я человек такой серьезный, что мне не мешало бы повести образ жизни немного полегкомысленней. Живут же другие люди, как бабочки, перепархивая с цветка на цветок. Самые умные, талантливые люди проводили время в том, что напропалую волочились за женщинами. Любовные истории Бенвенуто Челлини, фривольные похождения гениального Байрона, автора глубоких, незабываемых шедевров, которые останутся жить в веках.
– Извозчик!!
В глубине большого мрачного двора я отыскал квартиру номер седьмой и позвонил с некоторым замиранием сердца.
Дверь открыла угрюмая горничная – замкнутое в себе существо.
– Что угодно?
– Голубушка… Что, натурщица, вообще… здесь?
– Здесь. Вы художник? Рисовать?
– Да… я, вообще, иногда занимаюсь живописью. Вы скажите там… Что, вообще, мол, все будет как следует.
– Пожалуйте в гостиную.
Через минуту ко мне вошла прекрасно сложенная, красивая молодая женщина в голубом пеньюаре, который самым честным образом обрисовывал ее формы. Она протянула мне руку и приветливо сказала:
– Вы насчет позирования, да? Художник?
«Пора переходить на фривольный тон», – подумал я.
– Художник? Ну что вы! Хе-хе! Откуда вы могли догадаться, что я художник?
Она засмеялась.
– Вот тебе раз! А зачем бы вы тогда пришли, если не художник? В академии?
– Нет, не в академии, – вздохнул я. – Не попал.
– Значит, в частной мастерской. У кого? Я общительно погладил ее руку.
– Какая вы милая! А вот догадайтесь!
– Да как же можно догадаться… Мастерских много. Вы можете быть и у Сивачева, и у Гольдбергера, и у Цыгановича. Положим, у Цыгановича скульптура… Ну, еще кто есть?.. Перепалкин, Демидовский, Стремоухов… У Стремоухова, да? Вижу по вашим глазам, что угадала.
– Именно, у Стремоухова, – подтвердил я. – Конечно, у него.
Она оживилась.
– А! У Василия Эрастыча! Ну, как он поживает?
– Да ничего. Пить начал, говорят.
– Начал? Да он, кажется, лет двадцать, как пьет.
– Ну? Эх, Стремоухов, Стремоухов! А я и не знал. Думал сначала: вот скромник.
– Вы ему от меня кланяйтесь. Я его давно не видала… С тех пор, как он с меня «девушку со змеей» писал. Я ведь давно позирую.
– Да? Вы серьезно позируете? – печально спросил я.
– То есть как – серьезно? А как же можно иначе позировать?
– Я хотел сказать: не устаете?
– О нет! Привычка.
– И неужели совсем раздеваетесь?
– Позвольте… А то как же?
– Как же? Я вот и говорю: не холодно?
– О, я позирую только дома, а у меня всегда 16 градусов. Если хотите, мы сейчас можем поработать. Вам лицо, бюст или тело?
– Да, да! Конечно!! С удовольствием. Я думаю – тело. Без сомнения, тело.
– У вас ящик в передней?
– Какой… ящик?
– Или вы с папкой пришли? Карандаш?
– Ах, какая жалость! Ведь я забыл папку-то. И карандаш забыл.
Я помедлил немного и сказал, обращая мысленно взоры к своим патронам: Байрону и Бенвенуто Челлини:
– Ну, да это ничего, что с пустыми руками… Я…
– Конечно, ничего, – засмеялась молодая женщина. – Мы это сейчас устроим. Александр! Саша!
Дверь, ведущая в соседнюю комнату, скрипнула… Показалось добродушное лицо молодого блондина; в руке он держал палитру.
– Вот, познакомьтесь: мой муж. Он тоже художник. Саша, твой рассеянный коллега пришел меня писать и забыл дома не только краски и холст, но и карандаш и бумагу. Ох уж эта богема! Предложи ему что-нибудь…
Я испугался:
– Да что вы! Мне неловко… Очень приятно познакомиться… Я уж лучше домой сбегаю. Я тут… в трех шагах. Я… как это называется…
– Да зачем же? Доска есть, карандаши, кнопки, бумага. Впрочем, вы, может быть, маслом хотите?
– Маслом. Конечно, маслом.
– Так пожалуйста! У меня много холстов на подрамниках. По своей цене уступлю. Катя, принеси!
Эта проклятая Катя уже успела раздеться, без всякого стеснения, будто она одна была в комнате. Сложена она была действительно прекрасно, но я почти не смотрел на нее. Шагала она по комнате как ни в чем не бывало. Ни стыда у людей, ни совести.
Тяжесть легла мне на сердце и придавила его.
«Поколотит он меня, этот художественный назойливый болван, – подумал я печально. – Подумаешь, жрецы искусства!»
Катя притащила ящик с красками, холст и еще всякую утварь, в которой я совершенно не мог разобраться.
Муж ее развалился на диване и, глядя в потолок, закурил папироску, а она отошла к окну.
– Поставьте меня, – сказала эта бесстыдница.
– Сами становитесь, – досадливо проворчал я. Она засмеялась.
– Я же не знаю, какая вам нужна поза.
– Ну, станьте так.
Я показал ей такую позу, приняв которую она через минуту должна была замертво свалиться от усталости. Но эта Катя была выкована из стали. Она стала в позу и замерла…
II
– Что вы делаете? – удивленно сказал муж Саша. – Вы не из того конца тюбика выдавливаете краску.
– Вы уверены? – нагло засмеялся я. – Покойный профессор Якоби советовал выдавливать краску именно отсюда. Тут она свежее.
– Да ведь краска будет сохнуть!
– Ничего. Водой после размочим.
– Водой?.. Масляную краску?!
– Я говорю «водой» в широком смысле этого слова. Вообще жидкостью… Вот странная вещь, – перебил я сам себя. – Все краски у вас есть, а телесного цвета нет.
– Да зачем вам телесный цвет? Такого и не бывает.
– Вы так думаете? В… художественных письмах Александра Бенуа прямо указывается, что тело лучше всего писать телесным цветом!
– Позвольте… Да вы писали когда-нибудь масляными красками?
– Сколько раз! Раз десять, если не больше.
– И вы не знаете смешения красок?
– Я-то знаю, но вы, я вижу, не читали многотомного труда члена дрезденской академии искусств барона Фукса «Искусство не смешивать краски».
– Нет, этого я не читал.
– То-то и оно. А что же тут нет кисточки на конце? Одна ручка осталась и шишечка…
– Это муштабель. Неужели вы не знаете, что это такое?
– Я-то знаю, но вы, наверное, не читали «Записок живописца» Шиндлера-Барнай, в которых… Впрочем, не будем отрываться от работы.
– Подвигается? – спросил Саша.
– Да… понемногу. Тише едешь – дальше будешь, как говорится.
Саша встал и взглянул из-за моего плеча на холст.
– Гм!
– Что? Нравится?
– Это… очень… оригинально. Я бы сказал – даже не похоже.
– Бывают разные толкования, – успокоил я. – Золя сказал: «Жизнь должна преломляться сквозь призму мировоззрения художника».
– Так-то оно так… Но вы замечаете, что у нее грудь – на плече?
– Так на своем же, – резонно возразил я.
– Странный ракурс.
– Вы думаете? Этот? Я его сделаю пожелтее.
– При чем тут «желтее»? Ракурс от цвета не зависит.
– Не скажите. Покойный Куинджи утверждал противное.
– Гм! Может быть, может быть… Вы не находите, что на левой ноге один палец немного… лишний?..
– Где? Ну что вы! Раз, два, три, четыре, пять… шесть… А! Это тень. Это я тень так сделал… Впрочем, можно ее и стереть.
– Конечно, можно. Только вы напрасно все тело пишете индейской желтой.
«Вот осел-то, – подумал я. – Телесной краски, говорит, нету, а потом сам же к цвету придирается».
– Я вижу, – саркастически заметил я, – что вам просто моя работа не нравится.
– Помилуйте, – деликатно возразил Саша. – Я этого не говорю. Чувствуется искание… новых форм. Рисунок, правда, сбит, линия хромает, но… Теперь вообще ведь всюду рисунок упал. – И он с неожиданной откровенностью закончил: – Сказать вам откровенно: сколько я ни наблюдаю – живопись теперь падает. Мою жену часто приходят писать художники. Вот так же, как вы. И что же! У меня осталось несколько их карандашных рисунков, по которым вы смело можете сказать, что живописи в России нет. Мне это больно говорить, но это так! Поглядите-ка сюда!
Он вытащил из угла огромную папку и стал показывать мне лист за листом.
– Извольте видеть. С самого первого дня, как жена поместила объявление о своем позировании – к нам стали являться художники, но что это все за убожество, бездарность и беспомощность в рисунке! О колорите я уже не говорю! Полюбуйтесь! И эти люди – адепты русского искусства, призванные насаждать его, развивать художественный вкус толпы. Один молодец – вы видите – рисует левую руку на поларшина длиннее правой. И как рисует! Ни чувства формы, ни понятия о ракурсе! Так, ей-богу, рисуют гимназисты первого класса! У этого голова сидит не на шее, а на плече, живот спустился на ноги, а ноги – найдите-ка вы, где здесь колено? Вы его днем с огнем не сыщете. И ведь пишут не то что зеленые юноши! Большею частью люди на возрасте или даже старики, убеленные сединами. Как они учились? Каков их художественный багаж? Вы не поверите, как все это тяжело мне. Мы с женой искренно любим искусство, но разве это – искусство?!
Действительно, никогда мне не приходилось видеть большего количества уродов, нарисованных беспомощной рукой пьяного или ребенка: искривленные ноги, вздутые животы, глаза, вылезшие на лоб, и губы, тянущиеся наискось от уха к подбородку.
Бедная Катя!
Я бросил косой взгляд на свой этюд, вздрогнул и сказал с тайным ужасом:
– Ну, я пойду… Докончим это когда-нибудь… после…
Саша ушел в свою комнату. Катя закуталась в халатик, подошла к моему этюду и вдруг… залилась слезами.
– Что с вами, милая?! Что такое?
– Я не понимаю: зачем он меня успокаивает, зачем деликатничает!
– Кто?
– Саша. Я сама вижу, я все время, на всех рисунках вижу, какая я отвратительная, безобразная. А он говорит: «Нет, нет – ты красива, а только тебя не умеют рисовать». Ну, предположим, один не умеет, другой, третий, но почему же – все?!!