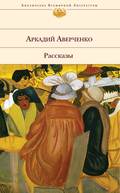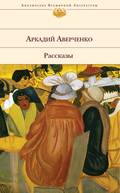Аркадий Аверченко
Черным по белому (сборник)
Случай из жизни
Некоторые критики упрекают меня в том, что я никогда не описываю действительной жизни, а «выдумываю из головы» сюжеты своих рассказов.
Ну, хорошо.
Ну, вот этот рассказ я, наконец, решил написать не «из головы»; я решил добросовестно передать все, ничего не преувеличивая, не преуменьшая, – всю ту адски перепутанную нить действительной жизни, рассмотрением которой я был занят вчера.
Да и сегодня тоже занят (вот – пишу).
I
Едва я спустился вчера, в 3 часа дня, в низок кавказского ресторанчика, как сразу же увидел толстого смуглолицего человека, сидевшего в углу с понуренным видом.
Мы узнали друг друга.
– Ага! – улыбнулся я. – Живы, здоровы? Вы меня помните?
– Еще бы! Если бы не вы, до сих пор пришлось бы мне сидеть «за въезд в магазин на автомобиле через оконное стекло». Что говорить – шофер я плохой.
Я познакомил пришедшего со мной товарища с «шофером», и мы, усевшись за соседним столиком, дружески разговорились.
– Со мной всегда какие-нибудь дурацкие истории случаются, – с невыразимо печальным видом признался этот человек. – То я на автомобиле в магазин въеду, то меня в театре ночью забудут и запрут, то я прыгаю в реку, чтобы спасти гладильную доску, похожую, по моему мнению, на погибающего.
Он огляделся и наклонился к нам с загадочным видом.
– А теперь… Вы знаете что? Ко мне покойник стал являться.
– Ну? – удивились мы, тоже понизив голос до шепота. – Является? Ночью?
– Да нет, не ночью. Днем.
– Что вы говорите! – удивился я. – Что за странное существо! Днем пугать человека…
– Да он меня не пугает. Он триста рублей требует.
– Какая меркантильность! За что же это он?
– За гроб и за ногу. Никакой у людей благодарности.
Мы из деликатности постеснялись начать расспросы, но он сам спросил, вздыхая:
– Рассказать?
– Конечно, конечно. Это очень… любопытно. Настоящий покойник, являющийся днем…
– Да он, как бы сказать… не настоящий. Был, действительно, покойник, а потом… Прямо-таки сущая чепуха!
– Ну? Ну?
– Вы знаете, где я служил последнее время?
– Вероятно, при посольстве? – высказал вежливое предположение мой товарищ.
– Да, как же! Держите карман шире… То есть так мне не повезло, так не повезло, что просто ужас. Подумать: учился я в свое время в гимназии, окончил три класса и дошел до того, что последнее время служил вагоновожатым трамвая!!
– Какая трагедия! – вздохнул мой товарищ. – Ну?
– Видите ли, я больше привык к интеллигентному труду. Шофер я плохой и вагоновожатый был препаршивый. Вместо того чтобы следить за своим делом, я считал количество окон в домах, старался обгонять, ради спорта, экипажи или читал вывески наоборот.
– Как это? – заинтересовался мой товарищ.
– А так: написано, например, «магазин Бурцева», а наоборот читаешь: «Авецруб низагам».
– Авецруб низагам, – прошептал я. – Это действительно замечательно. Забавно! Онвабаз…
– Чего?
– Онвабаз! Забавно.
– Да, да. Так вот я и говорю: вместо того чтобы дело делать, я ворон считал. Ну, вот… Недавно еду – вдруг из-за угла погребальная процессия. Эх, думаю, успею проскочить – трах! Что же вы думаете?! Вагон мой налетает на катафалк, гроб с покойником летит на рельсы, вагон наскакивает на гроб – и не успевает никто оглянуться, как гроб – на куски, а покойнику колесом кусочек ноги отхватило… Да вот, не он ли это сюда ковыляет?
Мы в ужасе вскочили и обернули лица к дверям, в которые кто-то вошел.
– Нет, не он! Да уж вы не беспокойтесь… Он явится проклятый! И здесь меня найдет. Притащится!
– Амус лешос, – сказал я своему другу, из деликатности затемнив фразу.
Но опытное ухо бывшего вагоновожатого уловило смысл этих слов.
– Ничего я не сошел с ума. Вот увидите – явится! Слушайте же, что дальше было. Едва только колесо наехало на лапу покойника, как он зашевелился, задергал руками и – ну орать что есть мочи! Эти дураки доктора так и не разглядели, что усопший-то спал в летаргическом сне.
– Изумительный случай! – ахнули мы.
– Ничего не изумительный. Самый обыкновенный. Говорю же я вам: со мной каждый день что-нибудь подобное случается.
– Что же дальше было?
– Ничего хорошего. Факельщики, разумеется, удрали, лошади с катафалком умчались вскачь – потеха!
– А родственники этого летаргического на меня же набросились и давай меня костить, как самого последнего человека.
– За что же? – удивился мой товарищ. – Ведь вы, прямо-таки воскресили мертвеца!
– То-то и оно. Я говорю то же самое. А он ко мне потом пристал: зачем гроб поломал? Зачем ногу попортил?
Вагоновожатый погладил усы и свесил голову на грудь с видом злейшего меланхолика.
– Теперь вот ходит ко мне. Триста рублей требует. Трамвайное общество отвертелось с помощью своих адвокатов… а у меня адвокатов-то нет. Что я теперь буду делать? Ходит и ходит этот колченогий. Каждый день ходит. Я, говорит, через тебя трудоспособность потерял.
– А вы бы ему указали на то, что, если бы не вы – так бы его живого и закопали в могилушку.
– Да говорил я ему! Уперся как бык: не твое дело, говорит. Может быть, я и без тебя бы, когда речи над гробом начали говорить, – проснулся бы. И ноги, говорит, были бы целы. Я, говорит… А чтоб тебя на том свете так таскало! Слышите? Идет! Я уж по костылю слышу. Пронюхал, что я здесь! Опять будет тут нюнить, падаль этакая!
Действительно, со стороны входа до нас донесся отчетливый стук костыля о каменный пол.
Он приближался и приближался…
II
Покойник выглядел еще не старым мужчиной, с желтым лицом и брезгливо выдвинутой нижней губой. Под мышкой он держал костыль. Голос имел скрипучий, ворчливый.
– А! Вот оно что! Вы тут вина распиваете, шашлыками закусываете – лучше бы денежки мои отдали. А приятелей шашлыками пичкать можете тогда, когда свободные деньги будут.
– Эй вы там – потише! – грубо крикнул я. – Чего вы пристаете к этому почтенному человеку? Что вам надо?
– А это вы видели? – указал он на ногу. – Тоже они мастера людей зря калечить.
– «Людей», – презрительно расхохотался вагоновожатый. – Тоже человек выискался! В гробу по улицам раскатывает.
– Все равно, брат! Давить никого не полагается.
– Если вы покойник, так нечего ко мне приставать, а если не покойник, то сами могли бы лошадьми править. Небось, я звонки-то давал.
– Ну так что ж, что давал?
– А вы разлеглись и в ус не дуете. Трамвая нужно остерегаться.
Последнюю фразу вагоновожатый произнес крайне нравоучительно.
– Вы, братец мой, рассуждаете, как глупый человек: если бы я мог сам править катафалочными лошадьми, кто бы, какой бы дурак повез меня на кладбище.
– Ну а если вы покойник, то и нечего было просыпаться!
– Я не виноват, что у меня летаргический сон. А вы уж обрадовались, думаете – всякого летаргического можно трамваем давить?
– «Триста рублей», – пожал плечами вагоновожатый. – А то, что меня со службы выгнали и жалованье в штраф удержали – это кто мне заплатит?
– Виноват, – перебил мой товарищ, очень рассудительный человек. – Скажите, господин вагоновожатый, а если бы вы налетели на настоящего покойника, вас бы тоже уволили?
– В том-то и дело, что тогда бы не уволили! Мало ли какой человек на погребальную процессию наехать может. А тут уволили за то, что живого человека изувечил. Все-таки – скандал, разговоры!
– В таком случае, милостивый государь, – серьезно сказал мой товарищ, обращаясь к покойнику. – Вы сами виноваты во всем происшедшем. Вам не нужно было просыпаться. Вы сами понимаете – не большая беда, если покойника немножко изувечат. А вы сделали очень некрасиво – к рельсам подъехали, крадучись, втихомолку, как покойник, а потом, когда вас, так сказать, вышибли из седла, вы подняли крик, подчеркнув этим, что пострадали, как живой человек. Неудобно-с.
– Ну, хорошо. Если даже так, – согласился покойник после долгого размышления. – А гроб-то он все-таки поломал? Гроб-то тоже денег стоил?
– Но ведь он вам сейчас не нужен?!
– Да ведь когда-нибудь понадобится?
– Тогда он вам его и купит.
Бывший покойник обернулся к вагоновожатому.
– Купишь?
– С удовольствием!
– Ну, то-то. Ты хоть бы вином-то меня угостил. А то одни от тебя только неприятности.
– Сделайте одолжение!
Восхищенный красноречием моего товарища, покойник развеселился, и даже легкое подобие улыбки – как солнце сквозь облака – прорезало его лицо.
– За здоровье новорожденного! – провозгласил мой товарищ.
– Ногу он мне только попортил – вот жалко!
– Ничего! Одни появляются на свет Божий без зубов и волос – другие без ноги – такова воля Зиждителя.
– Ура! – крикнул вагоновожатый.
Было весело.
Между моим товарищем и покойником наметился уже легкий абрис будущей дружбы.
Когда мы, расплатившись, неуверенно брели по узенькой улице, я сказал вагоновожатому на его обратном языке:
– Акчиниокоп иламолу! Ех-ех!
– Обисапс, – с чувством ответил вагоновожатый, пожимая мне руку…
___________________________
Вот вам и жизнь!
Ей-богу, ни одного слова не прибавил, не убавил. Честное слово.
О детях
(Материал для психологии)
У детей всегда бывает странный, часто недоступный пониманию взрослых уклон мыслей. Мысли их идут по какому-то своему пути; от образов, которые складываются в их мозгу, веет прекрасной дикой свежестью.
Вот несколько пустяков, которые запомнились мне.
I
Одна маленькая девочка, обняв мою шею ручонками и уютно примостившись на моем плече, рассказывала:
– Жил-был слон. Вот однажды пошел он в пустыню и лег спать… И снится ему, что он пришел пить воду к громадному-прегромадному озеру, около которого стоят сто бочек сахару. Больших бочек. Понимаешь? А сбоку стоит громадная гора. И снится ему, что он сломал толстый-претолстый дуб и стал разламывать этим дубом громадные бочки с сахаром. В это время подлетел к нему комар. Большой такой комар – величиной с лошадь…
– Да что это, в самом деле, у тебя, – нетерпеливо перебил я. – Все такое громадное: озеро громадное, дуб громадный, комар громадный, бочек сто штук…
Она заглянула мне в лицо и с видом превосходства пожала плечами:
– А как же бы ты думал. Ведь он же слон?
– Ну так что?
– И потому что он слон, ему снится все большое. Не может же ему присниться стеклянный стаканчик, или чайная ложечка, или кусочек сахара.
Я промолчал, но про себя подумал:
«Легче девочке постигнуть психологию спящего слона, чем взрослому человеку – психологию девочки».
II
Знакомясь с одним трехлетним мальчиком крайне сосредоточенного вида, я взял его на колени и, не зная, с чего начать, спросил:
– Как ты думаешь: как меня зовут?
Он осмотрел меня и ответил, честно глядя в мои глаза:
– Я думаю – Андрей Иваныч.
На бессмысленный вопрос я получил ошибочный, но вежливый, дышащий достоинством ответ.
III
Однажды летом, гостя у своей замужней сестры, я улегся после обеда спать.
Проснулся я от удара по голове, такого удара, от которого мог бы развалиться череп.
Я вздрогнул и открыл глаза.
Трехлетний крошка стоял у постели с громадной палкой в руках и с интересом меня разглядывал.
Так мы долго молча смотрели друг на друга.
Наконец он с любопытством спросил:
– Что ты лопаешь?
Я думаю, этот поступок и вопрос были вызваны вот чем: бродя по комнатам, малютка забрался ко мне и стал рассматривать меня, спящего. В это время я во сне, вероятно, пожевал губами. Все, что касалось жевания вообще, и пищи в частности, очень интересовало малютку. Чтобы привести меня в состояние бодрствования, малютка не нашел другого способа, как сходить за палкой, треснуть меня по голове и задать единственный вопрос, который его интересовал:
– Что ты лопаешь?
Можно ли не любить детей?
Фабрикант
– Знаю, знаю я, зачем ты на дачу едешь.
– Да ей-богу, отдохнуть!
– Знаем мы этот отдых.
– Заработался я.
– Знаю, как ты заработался! Будешь там за всеми дачницами волочиться.
Писатель Маргаритов сделал серьезное лицо, но потом махнул рукой и беззаботно засмеялся.
– А ей-богу же, буду волочиться. Чего мне!
– Вот видишь, я говорил. За кем же, ты думаешь?
– За всеми.
– Послушай… а я?
Маргаритов рассеянно скользнул глазами по лицу писателя Пампухова.
– Ты? А ты как знаешь. Ведь ты раньше меня едешь?
– Раньше, – сказал Пампухов.
– Ну и устраивайся как знаешь.
* * *
Это было превосходное дачное убежище. В некоторых местах было море, в некоторых сосны, в некоторых песок. Море шумело, сосны шумели, и только песок лежал смирно.
Дачников было много, но так как песку, сосен и моря было еще больше – все были довольны.
Маргаритов приехал через три дня после Пампухова и сейчас ориентировался. Познакомился с соседкой и, расхвалив ей какой-то морской уголок, которого он до этого и в глаза не видал, повлек несчастную к этому таинственному уголку.
– Вот, – сказал он, беря дачницу за руку и усаживая ее на песок. – Вот, будем тут слушать Бога.
– Как слушать Бога?
– Мы сейчас перед лицом Сущего. Он во всем – в прибое морском, в шелесте сосен и в ваших глазах. Положите мне руку на голову. Вот так. Положите мою голову к себе на колени и спойте колыбельную песенку. Я устал.
Дачница рассмеялась, но исполнила желание Маргаритова.
– Чему вы сейчас смеялись?
– Так, – ответила дачница.
– Вы не видите звезд?
– Нет. Теперь же день.
– А я их вижу. Моя звезда и твоя – мерцают рядом. Как хорошо чувствовать себя частичкой космоса… Что значим мы, две пылинки, среди миллионов…
Неожиданно дачница сбросила голову Маргаритова на песок, повалилась около и залилась таким ужасным раскатистым смехом, которого Маргаритов никогда не слыхивал. Она смеялась длинной заливчатой фразой «ха-ха-ха-ха-хха-а!», потом ей перехватывало горло, она делала коротенькое «гг-а-а!» и, опять вздохнув, низвергалась в глубокую пучину: «ах-ха-ха-ха-ха-а-а!»
Маргаритов, потрясенный, стоял над нею и спрашивал:
– Что такое? Что случилось?
– Гга-а-а! Ахха-ха-ха-а!
– А ну вас, – сердито сказал Маргаритов. – Если вам так весело – веселитесь в одиночестве.
– Ах-ха-ха-а…
Отойдя от нее, Маргаритов подумал с досадой:
«Ничего не понимает. Наверное, дура».
* * *
В тот же день Маргаритов свел знакомство с другой дачницей – прехорошенькой докторшей.
– Часто бываете у моря? – хитро спросил он.
– Не особенно.
– Хотите, я покажу вам один чудесный уголок. О нем никто почти не знает. Пойдемте.
Когда писатель и дачница пришли на то место, где еще оставалось углубление в песке от тела хохотавшей давеча собеседницы Маргаритова, Маргаритов уселся у ног своей новой знакомой и мечтательно сказал:
– Тут так хорошо… Здесь можно слушать Бога.
– Почему?
Он устало покачал головой.
– Боже мой! Но ведь мы теперь лицом к лицу с Неведомым… Неведомый притаился всюду – его шум слышится в прибое соленой волны, в шелесте могучих сосен, Он глядит на меня из ваших глаз. Положите мне руку на голову. Я устал.
– Может быть, вы хотите положить свою голову ко мне на колени? – благодушно спросила дачница.
Маргаритов опасливо взглянул на нее, подивился немного и нерешительно положил голову ей на колени.
– Баю-баюшки, – сказала дачница. – Не спеть ли вам колыбельную песенку?
Маргаритов поднял голову.
– Откуда вы… знаете?
– Что?
– Ничего, ничего…
– Нет, что я знаю?
– Вот то, что я… хотел, чтобы вы мне спели колыбельную песенку?
– Догадалась, – рассмеялась дачница. – Сердце сердцу весть подает. Вы звездочек не видите? Вон две наших звездочки мерцают. Дальше как? Космос, что ли? Постойте, куда же вы? Вы еще не сказали насчет двух жалких пылинок среди миллиарда. Это очень хороший трюк: женщина, узнав, что вы с ней две такие пустяковые пылинки среди миллиардов, подумает: «Эх, изменю-ка я мужу. Все равно крошечная измена растворится среди огромного космоса!» Ах, Маргаритов, Маргаритов! Ведь вы писатель. Ну как же вам не стыдно, а?
– Послушайте… Скажите мне правду, – убитым тоном спросил Маргаритов. – Это Пампухов… разболтал?
– Ну конечно же! Он уже два дня ходит всюду и проповедует: «Женщины, скоро приедет Маргаритов – остерегайтесь его. Он будет стоять с вами перед лицом природы, потом положит вашу руку к себе на голову, потом эту голову положит к вам на колени, потом будет жалоба на усталость, просьба колыбельной песни и разговор о звездах, о космосе. Потом…»
– Довольно! – с горечью сказал Маргаритов. – Прощайте. Вы злы и жестоки.
– До свиданья. Всего хорошего. Кланяйтесь Пампухову.
* * *
Усталый, разбитый возвращался бедный Маргаритов к себе на дачу. Он брел, натыкаясь на стволы сосен и спотыкаясь о корни.
Он был печален, рассеян и зол.
Но как он ни был рассеян, звук двух голосов, доносившихся со стороны лужайки, где лежало старое сваленное бурей дерево, остановил его.
Разговаривали мужчина и женщина, Маргаритов прислушался и проворчал:
– Ну конечно, это проклятый Пампухов разговаривает! Чтоб ему язык проглотить.
Вопреки этому желанию, Пампухов действовал языком легко и свободно.
– Я в этом отношении рассуждаю, как дикарь. Захотелось мне вас поцеловать – я хватаю вас и целую. Это мое право. Захотелось вам ударить меня за это хлыстом или выстрелить из пистолета – бейте, стреляйте. Это уже ваше право.
– Ну хорошо, – сказал женский голос. – А если я ни бить, ни стрелять в вас не буду, а просто скажу, что вы мне противны. Тогда что?
– Не говорите этого слова, – яростно вскричал Пампухов. – Я себе лучше разобью голову!
И он действительно хватился головой о поваленный ствол дерева.
«Ишь проклятый, – завистливо подумал Маргаритов. – Без приемов работает. Как Бог на душу положит!»
– Сумасшедший! – вскричала женщина. – Вы себе голову разобьете!
– И разобью, – вдохновенно-упрямо сказал Пампухов.
– Смотрите, какое красное пятно на виске…
– И пусть. Любите меня?
– Не знаю, – нерешительно сказала женщина. – Я, кажется, вообще не могу любить.
– Пусть я подохну, – простонал Пампухов.
Он задыхался от гнева и муки. Поглядел на женщину воспаленными глазами, схватил себя за воротник и бешено дернул. Воротник затрещал, галстук лопнул и безжизненно свис на сторону.
– Что вы делаете, дикарь? Ведь вам придется возвращаться домой.
– Пусть! – прохрипел бедный Пампухов. – Пусть! Любишь меня? Скажи…
– Не знаю… Зачем вы меня на «ты» называете?
– О, ччерт! Придешь сегодня ночью к мостику?
– Не делайте моей руке больно… Не знаю, может быть.
– Нет, скажи наверное…
– Наверное сказать никогда нельзя… А вдруг умру.
– О, Бож-же! – заревел Пампухов. – Она меня не любит! Она мной играет! Пропадай все.
Он схватил свою трость, в ярости переломил ее пополам и, отбросив далеко от себя обе половинки, убежал в лес.
– Пампухов, – крикнула дачница. – Вернитесь! Пампу-у-ухов! Где вы, сумасшедший! Сережа-а! Ну, вернись, ну, я тебя люблю. Я пошутила!
Очевидно, сумасбродный Пампухов был далеко, потому что не отозвался на этот ласковый призыв. Дачница села на поваленное дерево и, подперев подбородок рукой, стала смотреть затуманенным слезой взором в ту сторону, куда умчался неистовый Пампухов.
Подождав немного, Маргаритов засвистел песню и смело направился к дачнице, обойдя ее с другой стороны.
– Ай, кто тут?!
– Это я, – сказал, раскланиваясь, Маргаритов.
– Позвольте представиться, Маргаритов. Бродя по лесу, услышал женский крик и, думая, что кому-нибудь нужна помощь, поспешил сюда.
– А вы слышали, – смущенно спросила дачница, – что я кричала?
– Странно, но мне показалось, что женский голос кричит знакомое имя – Пампухов!
– А вы его… знаете?
– Сережу Пампухова? Как самого себя. Страшный ловелас.
– Ну что вы!
– А ей-богу. Наверное, уже успел признаться вам в любви…
– Почему вы думаете?
– Таков его характер. У него есть и система своя. Да вот, например: говорил он вам, что он дикарь и делает что хочет и что женщина может поступать тоже как хочет: или ответить на поцелуй, или ударить ножом.
– Нет, не ножом, а хлыстом или револьвером.
– Ну, все равно.
Он оглядел дачницу и спросил небрежно деловым тоном:
– Голову разбивал?
– Что-о?
– Голову. У него такая система: после дикаря биться головой обо что-нибудь.
Дачница вскочила.
– Послушайте! Неужели он притворялся? А я-то, глупая…
– Да, он ловко это проделывает.
– Но ведь он не шутя бился головой. У него было тут красное пятно…
– Сударыня! Это делается очень просто: он ловко хлопает ладонью о дерево, а потом уже головой бьется о руку. Получается сильный звук, а не больно.
– А красное пятно?!
– Вы обращали когда-нибудь внимание на отворот его пиджака? Нет? Обратите. У него на всякий случай за отворотом нашит кусок коленкора с намазанной на него красной гримировальной краской. Ударившись головой о руку, этот продувной парень хватается за отворот и, намазав палец краской, переносит ее на лицо. Поняли?
– Боже, какая гадость…
– Да уж… Хорошего мало. Воротничок рвал?
– Рвал…
– С галстуком?
– Д…да…
– У него две дюжины старых воротничков с собой из города привезены. Для подобных случаев. Как только воротничок у него забахромится – сейчас же откладывает: «Э, говорит, это мне для свиданья еще пригодится». А галстуки у него специально так сделаны, что не рвутся, а просто сзади расстегиваются.
– О, Боже, Боже!.. Какие мы, женщины, дуры.
– Ну, почему же уж и дуры?! Просто вы так благородны, что не замечаете этих ухищрений. Палку ломал?
– Ломал.
Маргаритов задумчиво покачал головой.
– Новый прием. Перед отъездом он у разносчика купил десяток палок за пять рублей. «На что тебе, – спрашиваю я, – эта дрянь?» Смеется. «В лом, – говорит, – покупаю для некоторых случаев».
– Но объясните мне, зачем же он так поступает?
– Зачем? Потому что он на любовь смотрит как фабрикант на свое производство. Если бы у него был один роман, а то ведь он завязывает сразу десять. А для такого обширного производства требуется уже штамп, раньше какой-нибудь Бенвенуто Челлини трудился над одним бокалом или ларчиком целый год, и это было подлинное художественное произведение; а теперь на берлинских фабриках делают эти вещи по тысяче в день. Ясно, что все они делаются одним и тем же способом, штампуются на один фасон. Так и ваш Пампухов. Зная вообще его прием, его фабричную марку, я всегда могу по ней предсказать весь процесс его оптовой работы.
– Какая гадость! Какая трясина! О, если он мне только встретится… У меня голова болит. Не проводите ли вы меня домой?
– С удовольствием. Но знаете что? Не лучше ли нам пойти посидеть немного у моря? Море так успокаивает. Там стоишь лицом к лицу с неведомым. С тем, кто шелестит изумрудом соленых волн, темной хвоей мрачных сосен…
– Как вы хорошо говорите!.. Пойдемте!
* * *
– Неведомый всюду. Сейчас он глядит из ваших темных глаз… Какая у вас теплая, ласковая рука! Положите ее мне на голову. А голову положите к себе на колени… Вот так. Чувствуешь себя маленьким, маленьким мальчиком. Убаюкайте меня. О, как хорошо!.. Я вижу звезды… Твоя и моя… Космос…
– Дорогой мой мальчик…
– Ну, еще! Еще поцелуй меня. Две пылинки космоса… среди миллиона… билли… биллиарда пылинок…