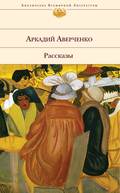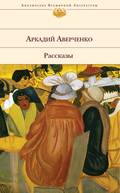Аркадий Аверченко
Черным по белому (сборник)
II
– Что вы делаете? – удивленно сказал муж Саша. – Вы не из того конца тюбика выдавливаете краску.
– Вы уверены? – нагло засмеялся я. – Покойный профессор Якоби советовал выдавливать краску именно отсюда. Тут она свежее.
– Да ведь краска будет сохнуть!
– Ничего. Водой после размочим.
– Водой?.. Масляную краску?!
– Я говорю «водой» в широком смысле этого слова. Вообще – жидкостью… Вот странная вещь, – перебил я сам себя. – Все краски у вас есть, а телесного цвета нет.
– Да зачем вам телесный цвет? Такого и не бывает.
– Вы так думаете? В… Художественных письмах Александра Бенуа прямо указывается, что тело лучше всего писать телесным цветом!
– Позвольте… Да вы писали когда-нибудь масляными красками?
– Сколько раз! Раз десять, если не больше.
– И вы не знаете смешения красок?
– Я-то знаю, но вы, я вижу, не читали многотомного труда члена дрезденской академии искусств барона Фукса «Искусство не смешивать краски».
– Нет, этого я не читал.
– То-то и оно. А что же тут нет кисточки на конце? Одна ручка осталась и шишечка…
– Это муштабель. Неужели вы не знаете, что это такое?
– Я-то знаю, но вы, наверное, не читали «Записок живописца» Шиндлера-Барнай, в которых… Впрочем, не будем отрываться от работы.
– Подвигается? – спросил Саша.
– Да… понемногу. Тише едешь – дальше будешь, как говорится.
Саша встал и взглянул из-за моего плеча на холст.
– Гм!
– Что? Нравится?
– Это… очень… оригинально. Я бы сказал – даже не похоже.
– Бывают разные толкования, – успокоил я. – Золя сказал: «Жизнь должна преломляться сквозь призму мировоззрения художника».
– Так-то оно так… Но вы замечаете, что у нее грудь – на плече?
– Так на своем же, – резонно возразил я.
– Странный ракурс.
– Вы думаете? Этот? Я его сделаю пожелтее.
– При чем тут «желтее»? Ракурс от цвета не зависит.
– Не скажите. Покойный Куинджи утверждал противное.
– Гм! Может быть, может быть… Вы не находите, что на левой ноге один палец немного… лишний?..
– Где? Ну, что вы! Раз, два, три, четыре, пять… шесть… А! Это тень. Это я тень так сделал… Впрочем, можно ее и стереть.
– Конечно, можно. Только вы напрасно все тело пишете индийской желтой.
«Вот осел-то, – подумал я. – Телесной краски, говорит, нет, а потом сам же к цвету придирается».
– Я вижу, – саркастически заметил я, – что вам просто моя работа не нравится.
– Помилуйте, – деликатно возразил Саша. – Я этого не говорю. Чувствуется искание… новых форм. Рисунок, правда, сбит, линия хромает, но… Теперь вообще ведь всюду рисунок упал.
И он с неожиданной откровенностью закончил:
– Сказать вам откровенно: сколько я ни наблюдаю – живопись теперь падает. Мою жену часто приходят писать художники. Вот так же, как вы. И что же! У меня осталось несколько их карандашных рисунков, по которым вы смело можете сказать, что живописи в России нет. Мне это больно говорить, но это так! Поглядите-ка сюда!
Он вытащил из угла огромную папку и стал показывать мне лист за листом.
– Извольте видеть. С самого первого дня, как жена поместила объявление о своем позировании, к нам стали являться художники, но что это все за убожество, бездарность и беспомощность в рисунке! О колорите я уже не говорю! Полюбуйтесь! И эти люди – адепты русского искусства, призванные насаждать его, развивать художественный вкус толпы. Один молодец – вы видите – рисует левую руку на пол-аршина длиннее правой. И как рисует! Ни чувства формы, ни понятия о ракурсе! Так, ей-богу, рисуют гимназисты первого класса! У этого голова сидит не на шее, а на плече, живот спустился на ноги, а ноги – найдите-ка вы, где здесь колено? Вы его днем с огнем не сыщете. И ведь пишут не то что зеленые юноши! Большею частью люди на возрасте или даже старики, убеленные сединами. Как они учились? Каков их художественный багаж? Вы не поверите, как все это тяжело мне. Мы с женой искренно любим искусство, но разве это – искусство?!
Действительно, никогда мне не приходилось видеть большего количества уродов, нарисованных беспомощной рукой пьяного или ребенка: искривленные ноги, вздутые животы, глаза, вылезшие на лоб, и губы, тянущиеся наискось от уха к подбородку.
Бедная Катя!
Я бросил косой взгляд на свой этюд, вздрогнул и сказал с тайным ужасом:
– Ну, я пойду… Докончим это когда-нибудь… после…
Саша ушел в свою комнату. Катя закуталась в халатик, подошла к моему этюду и вдруг – залилась слезами.
– Что с вами, милая?! Что такое?
– Я не понимаю: зачем он меня успокаивает, зачем деликатничает!
– Кто?
– Саша. Я сама вижу, я все время, на всех рисунках вижу, какая я отвратительная, безобразная. А он говорит: «Нет, нет – ты красива, а только тебя не умеют рисовать». Ну, предположим, один не умеет, другой, третий, но почему же – все?!!
Желтая простыня
I
Настоящий купальный сезон еще не начинался, но, несмотря на это, весь пляж, окруженный с трех сторон кабинками, был усеян ленивыми, полузасыпанными песком фигурами, которые, как ящерицы на солнце, замерли в каменной неподвижности.
Курорт был итальянский, и поэтому купальщики лениво перекликались между собою на немецком, английском, польском и французском языках – на всех языках, кроме итальянского.
Где купаются итальянцы, и купаются ли они вообще – совершенно неизвестно.
Эта мысль занимала меня не менее часу, потому что голова, припекаемая солнцем, работает вяло, медленно и вообще отвратительно.
Думаю, что я дремал.
Неожиданно уха моего коснулась чистейшая русская речь.
Разговаривали две фигуры, закутанные с головой в купальные халаты и простыни, – два бесформенных безголовых тела.
– Славный мальчишка! – прогудел голос из-под желтой простыни.
– Это вы о котором говорите? О том, что сейчас возится с няней на песке? В синем полосатом костюмчике?
– Да, да. Превосходный мальчишка!
– Тот, что сейчас посыпает себе голову песком из ведерка? – переспросила точная белая простыня.
– Ну да! Этот самый.
– Да, знаете ли, – удовлетворенно согласилась белая простыня. – Я должен им гордиться. Ха-ха!
– Почему вы… должны гордиться?
– Потому что этот мальчишка – дело рук моих.
– Черт подери! Не хотите ли вы сказать, что это ваш сын?
– Это бы не штука! Дело не в этом. Он физический сын своего законного отца с матерью, но настоящий его творец все-таки – я!
– Не случился ли с вами солнечный удар?.. А?
– Вот вам и удар. История презабавная – хотите, расскажу?
– До завтрака управимся?
– С головой. Слушайте!
II
Года четыре тому назад пришлось мне болтаться на этом же курорте. Было прескучно, и, если бы не товарищ, который разделял со мной это заточение, какой-нибудь крюк давно бы уже гнулся под моей тяжестью…
Однажды сидим мы с ним после обеда на террасе, потягиваем какое-то здешнее пойло – я и спрашиваю, оторвавшись от соломинки:
– Отчего ты не женился до сих пор?
– Не судьба.
– Что-о?
– Не судьба!
Я говорю нравоучительно:
– He судьба должна управлять человеком, а человек судьбой.
– Никак, – говорит, – это невозможно. Без судьбы ничего быть не может.
– А если я сейчас вдруг схвачу тебя и брошу с террасы вниз, в кусты… Это что?
– Тоже судьба.
– А если не схвачу и не сброшу?
– Тоже судьба!
– Да какая же это судьба, если мой поступок зависит от моей же воли?!
– Пусть зависит. А твоя воля зависит от судьбы.
– Тьфу! Ну, хочешь, я тебе докажу чем угодно, что по своей воле выкину штуку, до которой судьбе никогда бы и не додуматься?
– Это, – говорит приятель, – положим, тоже натяжка, потому что всякая штука твоя от судьбы зависит. Но – идет. Согласен.
– Прекрасно. Сочини что-либо трудное, нелепое, и я это проведу без всякой судьбы. У судьбы, милый мой, много дела и без нас – нечего ее по пустякам затруднять. Гоп!
Мой друг обвел глазами столики и сказал:
– Видишь ты ту молоденькую венгерку, которая сидит с пожилой дамой, очевидно, с матерью?
– Вижу.
– Ну-с… хочу я, значит, чтобы у нее был ребенок… Хм… От кого бы?
Он осмотрел рассеянно все столы, и взгляд его задержался на каком-то господине, одиноко сидевшем в дальнем углу.
– Вот от этого худосочного русского молодца! У него или слишком мало радостей, или очень много печали. Наградим его венгеркой, а?
Я пожал плечами.
– Венгерка так венгерка. Но слушай: как честный человек, за одно только не могу поручиться…
– Именно?
– За пол будущего отпрыска русско-венгерской фамилии. Ты сам, конечно, понимаешь…
– Для судьбы ты слишком многословен. Я предпочитаю видеть работу.
III
Я закурил папиросу, встал и приблизился к одинокому русскому.
– Простите, что, не будучи знаком, обращаюсь к вам с одним вопросом: сколько времени идет письмо до Петербурга? Эти бестолковые итальянцы ничего не знают.
– Письмо? Четыре дня.
– Весьма вам признателен. Вы надолго в эту дыру?
– Нет… Так, недели на две. Не присядете ли?
– Merci. Вы что же, – спросил я, опускаясь на стул, – в одиночестве тут? Без жены?
– Да я и не женат совсем.
– Ну?! Вот-то она обрадуется! Ах… простите… я, кажется, сказал лишнее.
– А что такое? Кто обрадуется? О ком вы это говорите «она обрадуется»?
– Не знаю, – смущенно засмеялся я. – Говорить ли вам… Это будет, пожалуй, разбалтыванье чужого секрета. Хи-хи…
– Нет, уж вы, пожалуйста, скажите. Это будет между нами. Ну, скажите! Ведь я любопытен, как женщина.
– Хи-хи… И сам не знаю, как это я проговорился. Ну, ладно… Если вы даете честное слово, что это между нами… Видите вы ту венгерку, около седой дамы? Красавица, не правда ли?
У венгерки было самое ординарное, миловидное лицо, но мой восторг заразил и бедного форестьера.
– О, да! Очень красивая.
– Ну вот… Так знаете ли, что у этой красавицы, у этой поразительной, изумительно прекрасной девушки вы с языка не сходите?!
Мой собеседник вспыхнул и конфузливо и радостно засмеялся, будто его щекотали.
– Ну, что вы говорите! Да неужели?! Нет, нет! Вы шутите… Это было бы прямо-таки… удивительно!
– Честное слово! Она меня прямо измучила вопросами… Кто такой, да что, да не женат ли? Все о росте вашем сегодня щебетала…
– А… что? – опасливо спросил мой собеседник, вероятно, не раз огорчавшийся, сравнивая свою мизерную, низкорослую фигуру с фигурами своих ближних.
– Да, многое она говорила. И что терпеть она не может высоких мужчин, и что ваша фигура приводит ее в восторг, и что, если бы… Впрочем, нет, я, кажется, слишком разболтался…
– Так она меня заметила? – переспросил мой собеседник, с трудом сохраняя рассеянно-задумчивый вид.
– Она-то? Да она околдована.
Я помолчал и вдруг решил махнуть рукой на всякий здравый смысл:
– Вчера, нашла, что в вашем лице есть много общего с Наполеоном.
– Ну, что вы говорите!
– Ей-богу. В таких людях, говорит, таятся великие, огромные силы. Счастлива, говорит, та родина, которая может назвать такого человека своим сыном. Спрашивала, не поете ли вы? С таким, говорит, голосом, который звучит, как музыка…
– Вы меня представите ей? – быстро спросил он, без сожаления расставаясь со своим задумчивым видом.
– Сколько угодно! Подойду сейчас к ней, попрошу разрешения – и пожалуйте! Кстати, вы чем занимаетесь?
– Отец у меня купец, мануфактурщик. А что?..
– Да ничего. Ну, сидите тут и ждите…
IV
Я приблизился к венгеркам, снял перед ними почтительно шляпу и сказал по-немецки:
– Тысячу извинений! Простите мою навязчивость и то, что я, не будучи знаком, обращаюсь к вам… Но узнать мне больше не у кого – эти итальянцы так бестолковы. Не знаете ли вы – сколько времени идет отсюда письмо до Будапешта?
– Двое суток, – приветливо сказала старуха.
– А у вас есть знакомые в Будапеште?
– О, да… Кое-кто.
– Гезу Матаки знаете?
– Гезу?! О, Боже! Да мы большие приятели. Ну, как он… все там же живет?
– Там. Значит, вы и семью Панони знаете?
– Ну, как же! Вообще… Гм… А я, сударыня, должен вас кое за что пожурить…
– Меня? – удивилась молоденькая венгерка.
– Да-с, вас. Можно человека ранить, но зачем насмерть, а?
– Что вы такое говорите!
– Видите вы вон того русского, который там в углу сидит. Красивый такой…
– Ну, разве он красивый?
– Сударыня! Один из первых красавцев восточной России. Прозван «Тополь Великороссии»! Сотни русских девушек и женщин сходят по нем с ума. И что же! Этот счастливчик сидит сейчас угрюмый, как вурдалак, завядший, как розовый куст в засуху. Видите! Сидит и глаз с вас не сводит!
Венгерка смущенно усмехнулась.
– Я… ему нравлюсь?
– Вы? Да у него сейчас вся жизнь в глазах, которыми он на вас смотрит. Нашел где-то портрет королевы Марии-Антуанетты и носит его на своей груди, осыпая поцелуями и вздыхая над ним…
– Почему же… Марии-Антуанетты?..
– Он говорит, что вы очень похожи на нее… В повороте головы у вас есть – что-то царственное… И одеваетесь вы, говорит он, как герцогиня. Да… Уменье носить платье это… это… Кстати, вы в самом Будапеште живете?
– В предместье. У нас там свой домик. Отец мой судебный чиновник. А кто этот русский, скажите?
– О! Его отец мануфактурный король. Это богатейшая фамилия черноземной полосы России. Самые быстроходные пароходы бороздят великую нашу многоводную Волгу! Амбары ломятся. Тысячи людей возносят свои молитвы. Это не человек. Это орел. Больницы и прочее. В Москве, например, есть Третьяковская картинная галерея. Вы даже не поверите! Честное слово. Вы разрешите представить вам моего друга… Этого «гордого лебедя матушки России», как прозвали его наши женщины?
– О, пожалуйста! Я буду очень рада.
Я расшаркался, вернулся к своему новому другу и потрепал его по плечу.
– Бредит вами! Сплошной бред!
– А кто она такая?
– Она? Когда вы будете в Венгрии, около Будапешта – спросите у старожилов, чей это замок так гордо высит в небо свои грозные, непокорные башни, зубцы которых четко вырисовываются в недвижном, притихшем вечернем воздухе? Посмотрим, что вам ответят старожилы. Ха-ха! Предки ее были суровыми рыцарями, вояками, отец же отдал дань нашему более культурному времени и, мирно служа венгерской короне, железной рукой закона поддерживает силу и мощь современной Венгрии.
– Вот здорово! Неужели с ней можно познакомиться?
– Хоть сейчас! Замечательная женщина. Венгерки вообще… Недаром говорит венгерская пословица: «Женись на венгерке – плакать не будешь».
– Ну, пойдем же, пойдем скорее!
V
В последующие дни я только и делал, что, бегая от одного к другой, энергично подогревал состряпанное мною кушанье.
Ей я сообщил, что две русские дамы, жившие в соседнем отеле, осаждают его письмами и делают тысячу безумств ради того только, чтобы увидеть его с улицы из-за решетки сада нашего отеля.
Ему намекнул, что один венгерский граф поклялся добиться ее благосклонности и осыпал ее морем цветов (вчера я действительно послал ей букетик ценою в 3 лиры), но что она эти цветы выбрасывает (выбросила: они к вечеру совершенно завяли).
Моя стряпня закипела и забурлила. Мутная накипь ревности поднялась кверху, и мне нужно было зорко следить за тем, чтобы вовремя снимать эту отвратительную накипь.
Утром венгерка устроила русскому сцену, в обед он ей; а вечером в парке при отеле у них состоялось первое свидание, на котором они преотчаянно целовались. (Я видел это в бинокль из окна моей комнаты.)
Красавица итальянская ночь, пряная, душная, и бродячие сладкоголосые музыканты с гитарами были моими надежнейшими помощниками.
Поверите ли вы: через месяц они уже обвенчались, эти люди, которые без меня так бы и прошли свой жизненный путь, даже не подозревая о существовании друг друга… А через полтора года исполнилось и то, к чему я вел их под диктовку моего друга – апологета и поклонника судьбы. Именно – у этих двух людей родился ребенок – вот этот самый мальчишка, которым вы давеча так восхищались. Ну, не прав ли я был, говоря, что я – настоящий создатель этого голубоглазого существа?!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Молчавшая все время в продолжение рассказа желтая простыня шевельнулась и спросила:
– О каком это вы мальчишке говорите?
– Да о том самом! В синем полосатом костюмчике-то.
– О том, который сейчас сует себе в рот сачок для крабов?
– Ну да!
– Которого полька сейчас дернула за ухо?
– Ну да же!
– Угу, – неопределенно промычало что-то под желтой простыней. – Так знаете ли, что я скажу вам: напрасно вы совались на амплуа судьбы – вершительницы всех дел человеческих. Не по плечу это вам!
– О Господи! Почему?
– Вам можно доверить кое-что? Умеете вы держать язык за зубами?
– Ну?!
– Этот ребенок не мужний, а мой. От меня. Через три месяца после свадьбы «венгерка», как вы ее называете, охладела к своему худосочному супругу и подарила своею любовью меня. Вот вам и судьба!..
– Вы даете честное слово?
– Даю честное слово.
И обе фигуры погрузились после этого в безмолвие – и та, что под белой простыней, и та, что под желтой. Замерли под зноем, даже не пошевельнувшись.
Я в это время успел уже одеться и ушел, так и не увидев никогда больше людей под простынями – ни самоуверенного заместителя судьбы, ни его соперника на этом скользком поприще.
Боже мой! Может быть, если бы я и поднял эти две простыни – желтую и белую – под ними бы ничего не оказалось, кроме бесформенных груд песку, насыпанного подвижным отпрыском многолюбивой венгерки, потому что мало ли что может пригрезиться расплавленному свирепым солнцем мозгу…
Скептик
I
Восемь лет тому назад мне пришлось прожить около двух недель в одном из небольших городков Харьковской губернии – именно в Змиеве.
Жить пришлось у сиделицы казенной винной лавки, бойкой, расторопной женщины, которая делала десяток дел сразу – успевая продавать меланхоличным змиевским пьяницам водку, готовить мне обед и, кроме того, в промежутках ругательски ругать своего сына Стешу.
Стеша был молодец девятнадцати лет, всю свою недолгую жизнь пробродивший из угла в угол, самоуглубленный дурень, ленивый, как корова, и прожорливый, как удав.
С утра, восстав от сна, он умывался, аккуратно напивался чаю и опять ложился на диван – неофициально, – как он говорил. Так, лежа на диване и перелистывая «Ниву» за 1880 год, – ждал обеда.
– Ты хоть бы чем-нибудь занялся! – кричала сиделица винной лавки, выглядывая изредка из дверей.
– А чем я займусь там, – возражал Стеша хриплым голосом.
– О, Господи! Другие люди как люди! Служат, дело делают, а этот, как колода!.. Нислимо ли это – здоровый молодой человек – и целыми днями диваны протирает!
– «Нислимо!» – сурово сипел Стеша. – Говорить бы как следует по-русски выучились!
– Убирайся отсюда, с дивана! Это что еще такое за моду выдумал – по диванам разлеживаться. Все соседы с тебя смеются!..
– «Соседы»! Не умеете говорить, так молчали бы.
– То-то вот нам, неумеющим, и приходится кормить вас, умеющих-то! Профессор какой! Пошел прочь с дивана!
Подбоченившись, она наступала на Стешу. Когда же слова не помогали, она схватывала его за руку и сбрасывала с дивана на пол.
Он тяжело шлепался, вставал, забирал свою «Ниву» и, мурлыча какой-то бессмысленный мотив, хладнокровно переходил на крылечко, выходившее на засоренный, залитый помоями двор.
– Хоть бы за что-нибудь ты взялся, чучело ты разнесчастное. И как это так человек жить может?
– Тюр-лю-лю, пам-пам-пам, – тянул лениво Стеша перелистывая осточертевшую и ему самому, и окружающим «Ниву» за 1880 год.
Перелистав «Ниву», Стеша съедал кусок черного хлеба с салом, выпивал чудовищную жестяную кружку воды и заходил ко мне «поговорить».
– Что скажете, молодой человек? – спрашивал я его откладывая начатое письмо или книгу.
Он садился верхом на стул, шлепая для развлечения ладонью по спинке его и изредка поглядывая на меня с той сосредоточенностью, которая была ему свойственна.
– А что, – спрашивал он меня после долгого молчания, – правда, что в Петербурге пешком по улицам нельзя ходить?
– Почему?
– Такое там движение на улицах, что сейчас же задавят.
– Это верно, – подтверждал я. – Там даже на каждой улице ящики такие устроены…
– Для чего?
– А чтоб задавленных складывать, пока родственники не разберут.
– Да ну?
– Уверяю вас.
– Да ведь дорого…
– Что дорого?
– На извозчиках все время ездить.
– Что ж делать. Кому дорого, того и давят.
Похлопывая ладонью по спинке стула, он принимался тянуть свой непонятный мотив: «тюр-лю-лю, пам-пам-пам»…
– А правда, что в Петербурге в театрах совсем голых женщин показывают?
– Правда.
– Да как же так полиция позволяет?
– А ей-то что? Это здесь только и то стыдно, и это стыдно. А там в столице на это смотрят спустя рукава.
– Да ну?
– Вот вам и «ну».
– Тюр-лю-лю, пам-пам-пам! А скажите, правда вот, что, говорят, в ресторане там, если поужинать – так рублей сорок за это берут.
– Сорок? Слишком вы дешевы, молодой человек… И триста заплатите, если не все пятьсот.
– Да ну? Зато там и жалованье получают небось большое?
– Да уж… Конечно, маленький писец получает пустяки, рублей двести – триста в месяц… А кто повыше – восемьсот, и тысячу, и две. Нищему меньше рубля не дают. Зато и нищие есть, которые на Невском по три дома имеют.
Получив на все свои вопросы точные, обоснованные ответы, юноша Стеша, без всякого признака удивленья на лице, уходил, волоча ноги и напевая «тюр-лю-лю, пам-пам-пам!». Заходил в винную лавку и торопил мать насчет обеда.
Однажды он пришел ко мне и, вместо того чтобы расспрашивать меня о Петербурге, разоткровенничался сам:
– А я вчера анекдот слышал: один жид пришел по делам к помещику, а тот схватил ружье и говорит: «Плавай, жидовская морда, а то застрелю!» Ну, жид, конечно, испугался, упал на землю и сделал вид, будто плавает. А потом помещик засмеялся и сказал: «Благодари Бога, что я тебя нырять еще не заставил!» Здорово, а?
Я пожал плечами.
– Серо!
– Как вы говорите?
– Серо.
Стеша удивленно взглянул на меня и умолк. Я заговорил о чем-то другом, но он перебил меня:
– Так как вы сказали? «Серо»? Ха-ха!
– Да уж… неважный ваш анекдотец.
– «Серо», значит? Здорово… Ха-ха!
Он потрепал меня по плечу и ушел, волоча за собой громадные, в тяжелых сапогах ноги.
На другой день я уехал.