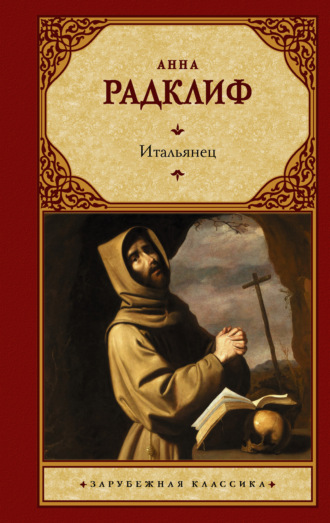
Анна Радклиф
Итальянец, или Исповедальня Кающихся, Облаченных в Черное
Речь его прервал глухой стон, показавшийся его расстроенному воображению стоном умирающего. Пауло тоже вздрогнул; оба напряженно прислушались в тягостном ожидании.
– А! – проговорил наконец Пауло. – Это всего-навсего ветер.
– Больше ничего не слышно… Продолжай, Пауло.
– И вот с тех самых пор, после той необычной исповеди, – возобновил рассказ Пауло, – отец Ансальдо уже не был сам собой; он…
– Не сомневаюсь, что он сам был причастен к преступлению, открытому на исповеди, – заметил Вивальди.
– Нет-нет, синьор, я ни о чем подобном не слышал: события, которые позже последовали, свидетельствовали об обратном. Спустя месяц – или около того – одним душным вечером, когда монахи возвращались с последней службы…
– Тише! – прервал его Вивальди.
– Я слышу, кто-то шепчется… – Пауло сам перешел на шепот.
– Не шевелись! – приказал Вивальди.
Оба настороженно вслушались: тишину нарушал невнятный ропот, похожий на отдаленное бормотание; нельзя было сказать с уверенностью, откуда доносились приглушенные голоса – из смежного помещения или же из склепа, находившегося внизу, под полом. Речи то стихали, то делались громче: те, кто переговаривался между собой, очевидно, старались беседовать возможно тише, как будто боялись, что их услышат. Вивальди пребывал в нерешительности, не зная, что лучше – затаиться или просить о помощи.
– Примите во внимание, синьор, – заметил Пауло, – что мы легко можем умереть с голоду, ежели только нам недостанет духу окликнуть этих людей – или кем бы они там ни оказались.
– Недостанет духу! – вскричал Вивальди. – Мне ли, несчастнейшему из смертных, бояться кого-то? О Эллена, Эллена!
Вивальди тотчас же принялся громко звать тех, чьи голоса слышал; в этом ему усердно помогал Пауло, однако их продолжительные возгласы остались втуне: на их призывы никто не откликнулся – и даже неясные звуки, достигавшие их слуха, совершенно прекратились.
Изнуренные бесплодными усилиями, пленники растянулись на полу темницы, отказавшись от всех дальнейших попыток обрести свободу раньше того времени, когда на помощь им придет утренний свет.
Вивальди утратил всякое желание просить Пауло докончить рассказ. Едва ли не отрешившись от всех надежд, он не мог проникнуться особым интересом к судьбам незнакомцев: ему уже стало ясно, что повествование никак не касается Эллены и нового о ней он ничего не узнает; да и Пауло, надорвав голос до хрипоты, рад был возможности помолчать.
Глава 8
О, кто она – в лучах заката тихо
Ступающая к келье монастырской,
Нечаянно вуаль с лица откинув,
Что святости исполнено высокой?
В первые дни пребывания Эллены в монастыре Сан-Стефано ей не разрешали покидать комнату. Дверь была заперта, и никто не приходил к ней, кроме монахини – той самой, что в первый день ввела ее в покои аббатисы; она и приносила Эллене скудную еду.
На четвертый день – когда, по-видимому, сочли, что воля сломлена заточением и страхом перед страданиями, которые выпадут на ее долю, если она вздумает сопротивляться, – Эллену вызвали в приемную аббатисы. Аббатиса была одна и встретила узницу с самым суровым видом, только укрепившим в Эллене готовность к терпению.
После речи об отвратительном деянии, ею совершенном, и о необходимости принять самые жестокие меры, дабы защитить покой и достоинство благородного семейства, аббатиса уведомила Эллену о том, что та должна сделать выбор – либо принять монашеский постриг, либо выйти замуж за человека, которого маркиза ди Вивальди, по великой своей милости, назначила ей в супруги.
– Вы в неоплатном долгу перед маркизой, – заявила аббатиса, – и никогда не сможете достойно отблагодарить ее за проявленное ею великодушие, ибо вам предоставлено право самой определить свою судьбу. После того оскорбления, какое вы дерзнули нанести маркизе и всему знатному роду Вивальди, вы никак не могли рассчитывать на подобное снисхождение. Естественно было предположить, что маркиза подвергнет вас самой строгой каре, однако вместо этого она дозволяет вам вступить в наше сообщество; если же вы слишком слабы душой и не в силах принудить себя отречься от греховного света, она разрешает вам вернуться в мир и доставляет вам подходящего спутника в трудах и заботах – спутника жизни, гораздо более отвечающего вашим обстоятельствам, нежели тот, на кого вы осмелились поднять взор.
Эти грубые слова больно задели гордость Эллены; она покраснела и замкнулась в презрительном молчании. Она искренне негодовала при виде несправедливости в одеждах милосердия и жесточайшего произвола, выдаваемого за кроткую благостыню. Разоблачение злых замыслов, против нее направленных, не слишком потрясло Эллену: с первой же минуты пребывания в монастыре она приготовилась к самому худшему, дабы стоически выдержать любое страшное испытание, – ей верилось, что неколебимость ее воли истощит ярость недругов и восторжествует в конце концов над злым роком. Только мысли о Вивальди лишали ее спокойствия, и испытываемые ею горести казались непереносимыми.
– Так вам угодно молчать? – выдержав паузу, бросила аббатиса. – Неужели же вы способны на неблагодарность по отношению к великодушной маркизе? Вероятно, сейчас вы просто не в состоянии оценить ее доброту к вам – и я не воспользуюсь вашим неблагоразумием, не сыграю на вашей неучтивости: я все еще предоставляю вам свободу выбора. Можете удалиться к себе; поразмыслите и примите решение. Но помните: данного вами слова вы обязаны придерживаться неукоснительно, и иной путь, кроме двух названных, исключается. Если вы отвергаете постриг, вы должны принять предлагаемого вам супруга.
– Мне незачем удаляться к себе для раздумий и решений, – произнесла Эллена со спокойным достоинством. – Решение мною уже принято. Я отвергаю предложенную мне альтернативу. Я никогда не приму монашеского обета и не обреку себя на неминуемое прозябание, которым грозит мне супружество. Высказав вам это в лицо, я готова претерпеть любые муки, какие вам будет угодно мне причинить, но знайте, что сама я никогда не скреплю согласием унизительные для меня условия: сердце мое исполнено ненасытной жаждой справедливости – и это стремление вдохнет в меня бесстрашие, подкрепленное пониманием того, какая участь приличествует моему внутреннему складу. Теперь вам известны мои взгляды и мои намерения – повторяться я не стану.
Аббатиса, в продолжение всей речи Эллены взиравшая на нее в немом гневе, сумела наконец вымолвить:
– Где только вы набрались подобной непочтительности и разнузданной дерзости? Как смеете вы оскорблять вашу настоятельницу, блюстительницу религии, и не где-нибудь, а в ее святилище?
– Святилище уже поругано, – кротко, но с достоинством отозвалась Эллена, – оно превращено в тюрьму. Настоятельница монастыря навлекает на себя непочтительность только в том случае, если сама попирает священные заповеди религии, которой служит, – а религия заповедует справедливость и великодушие. Чувство, побуждающее нас почитать милосердные и благодетельные наказы, заставляет нас одновременно отвергать нарушителей их; повелевая мне чтить религию, вы толкаете меня к осуждению вас самих.
– Уходите! – вскричала аббатиса, порывисто приподнявшись в кресле. – Ваше предупреждение, столь кстати высказанное, не будет забыто.
Эллена охотно повиновалась и была отведена в свою келью, где спокойно могла предаться размышлениям над тем, как она держалась во время недавней беседы. Она с удовлетворением отметила про себя, что открыто заявила о своих правах, и радовалась твердости, с которой бросила упрек женщине, не постыдившейся требовать уважения от жертвы собственного беззакония. Эллена тем более одобряла такое поведение, что ни разу за все время разговора не уронила свое достоинство, не позволив себе ни вспышек, ни трусливой слабости. В полной мере оценив низость аббатисы, Эллена перестала ее стесняться: для нее существовал только суд людей добрых, и она была так же трепетно восприимчива к их порицанию, как глуха к нелестным суждениям людей порочных.
Утвердившись в своих решениях, Эллена отныне вознамерилась избегать, насколько удастся, повторения подобных сцен и на любые обиды отвечать молчанием. Она знала, что обречена страдать, и решила терпеть. Из трех уготованных ей испытаний заточение, несмотря на все его тяготы, представлялось менее суровым, чем насильственный брак или пострижение в монахини; в обоих случаях она должна была сама, по собственной воле, обречь себя на горе до конца жизни. Поэтому Эллене нетрудно было выбрать: дальнейший путь виделся ей совершенно ясно. Если она сможет спокойно претерпеть бедствия, бремя их будет вдвое легче; поэтому она изо всех сил стремилась обрести силу духа, необходимую для внутреннего равновесия.
Почти неделю после встречи с аббатисой Эллену держали в строгом заточении, но на пятый день ей разрешили присутствовать на вечерней службе. Идя по саду к часовне, она – после долгого заключения в четырех стенах – наслаждалась благами, даруемыми природой всякому смертному: чистотой свежего воздуха, яркой зеленью деревьев и кустарников. Вслед за монахинями она вошла в часовню, где обычно справлялись обряды, и заняла место среди послушниц. Торжественность службы – и в особенности та часть ее, которая сопровождалась музыкой, – сильно подействовала на Эллену, возвысив и укрепив ее дух.
Прислушиваясь к пению хора, Эллена особенно приметила один голос, поразивший ее необыкновенным звучанием: он отличался от других проникновенностью чувства и веры; в нем таилась печаль сердца, давно отринувшего мирские соблазны. Возвышался ли он под мощные раскаты органа или истаивал в стихавших гармониях хора – Эллене мнилось, будто ей сродни все переживания души, из которой этот голос изливался; она взглянула на галерею, где находились монахини, желая отыскать глазами лицо, гармонировавшее с голосом и выражавшее ту же тонкую восприимчивость. Посторонние в часовню не допускались, и потому некоторые из сестер откинули покрывала с лиц: среди них Эллена не встретила ничего особенно примечательного; но зато внимание ее привлекла фигура монахини, опустившейся на колени в дальнем углу галереи – подле лампы, которая освещала ее сбоку; облик этой монахини всецело соответствовал мысленно созданному Элленой образу, да и голос, казалось, доносился именно оттуда. Лицо монахини скрывала черная вуаль – достаточно прозрачная, впрочем, чтобы увериться в ее миловидности; однако не только голос, но и набожная поза (более никто из сестер не преклонил колени) убедительно свидетельствовали о глубокой искренности покаяния и пылком благочестии.
Пение смолкло; женщина поднялась с колен и откинула вуаль: при ярком свете лампы взору Эллены представилась внешность, полностью утвердившая ее в первоначальном предположении. На ангельски кротком лице монахини запечатлена была смиренная отрешенность от земного, но проступавшая бледность указывала на затаенную скорбь, исчезавшую только тогда, когда прилив благочестия возносил ее в горние сферы, наделяя вдохновенностью серафима. В такие мгновения глаза женщины, устремленные к небесам, преисполнялись преданнострастным обожанием и возвышенным пылом, напоминавшим изображения Гвидо; в ушах Эллены звучал тогда очаровавший ее голос.
Эллена разглядывала монахиню столь пристально, что не замечала окружающего; ей показалось, что спокойствие в ее манере держаться вызвано скорее отчаянием, нежели смирением; уходя мыслями от службы, девушка устремляла в пространство взор, сосредоточенность которого казалась слишком страстной для обычного страдания или для строя ума, совместимого с полным смирением. В нем было, однако, много такого, что вызвало сочувствие Эллены, и многое, казалось, говорило о сродстве чувств между ними. Эллена не только успокоилась, но даже утешилась, взирая на инокиню; этот эгоистический порыв, вероятно, был извинителен: ведь она теперь знала, что хоть одно существо в монастыре способно проявить к ней жалость и готовность утешить ее. Эллена попробовала встретиться с ней глазами, дабы без слов высказать свое восхищение – и отчаяние, однако монахиня, целиком поглощенная молитвой, не заметила ее взгляда.
По окончании службы монахиня прошла мимо Эллены, и та, открыв лицо, обратила к ней взор столь красноречиво умолявший, что монахиня остановилась и, в свою очередь, пристально вгляделась в новую обитательницу с любопытством, к которому примешивалось участие. На щеках ее заалел слабый румянец; казалось, ее охватило замешательство – и она с большой неохотой отвела взгляд от Эллены: необходимо было присоединиться к процессии; попрощавшись с ней невыразимо сострадающей улыбкой, монахиня проследовала во двор и вскоре исчезла за порогом покоев аббатисы. Эллена не переставала о ней размышлять, пока, в сопровождении надзирательницы, не оказалась у дверей собственной кельи, и только там отвлеклась от своих мыслей достаточно, чтобы спросить имя незнакомой монахини.
– Должно быть, вы подразумеваете сестру Оливию, – услышала она в ответ.
– Она очень красива, – заметила Эллена.
– У нас таких немало, – буркнула Маргаритоне с уязвленным видом.
– Разумеется, – согласилась Эллена, – но у нее очень трогательное лицо, исполненное искренности, благородства и отзывчивости; во взгляде ее сквозит нежная печаль, которая не может не привлечь внимание всякого, кто ее видит.
Эллена настолько увлеклась заинтересовавшей ее монахиней, что совершенно забыла, к кому обращается с восторженным описанием: очерствелое сердце ее спутницы было глухо к любой внешности (за исключением властного облика настоятельницы); для этой особы перечисленные Элленой достоинства были не более внятны, чем какая-то арабская надпись.
– Первое цветение ее юности уже позади, – продолжала Эллена, желая добиться понимания, – но она сохраняет всю прелесть молодости вместе с достоинством, присущим…
– Если вы говорите, что она пожилая, – раздраженно перебила ее Маргаритоне, – то наверняка имеете в виду сестру Оливию: она старше нас всех.
При этих словах Эллена невольно вскинула глаза на собеседницу: сестра Маргаритоне, судя по ее желтому исхудалому лицу, уже не менее полувека обреталась в земной юдоли; внутренне Эллена не могла не подивиться жалкому тщеславию, еще тлевшему в золе погасших страстей, и не где-нибудь, а под сенью монастыря. Маргаритоне, ревниво выслушавшая хвалебные слова Эллены об Оливии, отвергла все дальнейшие расспросы и, впустив Эллену в келью, заперла ее на ночь.
На следующий день Эллене вновь дозволили присутствовать на службе; по пути к часовне ее окрыляла надежда снова увидеться с понравившейся ей монахиней. Та появилась на прежнем месте галереи и, как ранее, при свете лампы преклонила колени в неслышной молитве еще до начала службы.
Эллена подавляла нетерпеливое желание высказать монахине свое восхищение и добиться внимания с ее стороны, пока та не кончила молиться. Когда монахиня поднялась с колен и увидела Эллену, она откинула вуаль и устремила на девушку вопрошающий взгляд; лицо ее озарилось улыбкой, полной такого сочувствия и понимания, что Эллена, забыв о приличествовавших месту условностях, встала ей навстречу – ей почудилось, будто душа, которая сияла в улыбке неизвестной, давным-давно знакома с ее душой. Но не успела она сделать и нескольких шагов, как Оливия опустила вуаль в знак укоризны; Эллена, тут же спохватившись, вернулась на свою скамью, однако в продолжение всей службы мысли ее были сосредоточены на Оливии.
По окончании службы, когда монахини покидали часовню, Оливия прошла мимо не оглянувшись, и Эллена с трудом удержалась от слез; у себя в келье она предалась глубокому унынию. Расположение Оливии было для нее не просто отрадой, оно казалось необходимым для самого ее существования – и Эллена с упоением вспоминала беспрестанно улыбку, так много сказавшую ей и пролившую луч утешения в безотрадный мрак ее темницы.
Из печальной задумчивости Эллену вывел легкий шорох шагов: щелкнул отпираемый замок, дверь кельи распахнулась – и перед ней предстала Оливия. Эллена взволнованно поднялась ей навстречу, а Оливия пылко пожала протянутую руку.
– Вы не привыкли быть в заточении, – печально произнесла Оливия, приседая и ставя на стол корзинку с провизией, – а наша грубая еда…
– Я понимаю вас, – отозвалась Эллена, взглядом выразив свою признательность. – Ваше сердце исполнено сострадания, хотя вы и живете в этой обители; вы тоже немало претерпели на своем веку, вам знакомо отрадное чувство, переживаемое теми, кто в силах облегчить муки ближнего и выказать знак внимания, свидетельствующий о вашем сочувствии. О, смогу ли я выразить, как меня это трогает!
Слезы помешали Эллене договорить. Оливия стиснула ей руку, пристально глядя в лицо: ее тоже охватило волнение, но вскоре она справилась с ним и, улыбаясь, сказала:
– Вы верно угадали мои чувства к вам, сестра, и догадались о том, как много мне пришлось пережить. Сердце мое не закрыто ни для жалости, ни для вас, дитя мое. Вы были предназначены для счастья, которое в этих стенах немыслимо!
Оливия вдруг замолчала, словно позволила себе сказать лишнее, а потом добавила:
– Но вы сумеете, может быть, обрести душевный покой; если вас утешает мысль о близком присутствии друга – верьте в мою дружбу, но только молча, про себя. Я буду навещать вас, когда мне разрешат, но сами обо мне не спрашивайте; и если посещения мои окажутся недолгими – не уговаривайте меня задерживаться.
– Как это прекрасно! – воскликнула Эллена прерывавшимся голосом. – Как чудесно! Вы будете приходить ко мне… Вы питаете ко мне жалость…
– Тише! – взмолилась Оливия. – Ни слова больше, иначе нас услышат. Покойной вам ночи, сестра, да будет мирен ваш сон!
Сердце Эллены упало. Ей не хватало сил попрощаться, но глаза ее, наполненные слезами, были красноречивы. Монахиня поспешно отвела взгляд и, безмолвно пожав Эллене руку, покинула келью. Эллена, невозмутимо сохранявшая твердость духа перед оскорблявшей ее аббатисой, теперь, тронутая до глубины души добротой друга, дала волю слезам. Слезы принесли облегчение ее истерзанному сердцу, и она даже не пыталась их удерживать. Впервые с тех пор, как она рассталась с виллой Альтьери, Эллена могла думать о Вивальди более спокойно: в груди у нее начала оживать надежда, хотя рассудок не мог ничем оправдать ее.
Наутро Эллена обнаружила, что дверь ее кельи не заперта. Она тотчас же поднялась с постели и, не без надежды на свободу, торопливо перешагнула порог. Келью Эллены, обособленную от прочих, с главным зданием связывал небольшой коридор, упиравшийся в запертую дверь; по существу, Эллена оставалась пленницей, как и прежде. Очевидно было, что Оливия не повернула ключ в замке, желая дать ей больше свободы передвижения, и Эллена была ей очень благодарна за такую заботу. Признательность ее еще более возросла, когда в конце коридора она заметила узкую винтовую лестницу, которая, видимо, вела к другим помещениям.
Эллена поспешила подняться по ступеням и обнаружила, что они подходят к двери в небольшую комнату, которая казалась ей ничем не примечательной до тех пор, пока она не приблизилась к окнам: оттуда открывался вид на необозримый простор – вплоть до самого горизонта, а от расстилавшейся внизу грандиозной картины у нее перехватило дыхание. Вглядываясь в величественный пейзаж, она забыла о том, что томится в неволе. Эллена поняла, что находится внутри угловой башни монастыря, словно бы парившей в воздухе над изломами и уступами громадной гранитной скалы, составлявшей часть горы, на которой стоял монастырь. Причудливые утесы громоздились в живописном беспорядке, нависая над крутыми обрывами, начинавшимися у самых монастырских стен. Замирая от сладостного трепета, Эллена озирала мощные склоны, густо заросшие лиственницами и осененные огромными соснами; глаза ее отдыхали на расположенных ниже темных каштановых рощах; далее местность постепенно выравнивалась – и эти рощи казались плавным переходом от первозданной дикости вершин к разнообразно возделанным полям на равнине. Просторные долины замыкались вдалеке бесчисленными пиками и хребтами, восхищавшими Эллену по дороге к Сан-Стефано; купы оливковых и миндальных деревьев перемежались с обширными лугами, где летом на душистой траве пасутся мирные стада, а с наступлением зимы спускаются в укрытые от ветров логовины Тавольере.
Слева виднелось грандиозное ущелье, которое Эллена миновала на пути к монастырю; издали доносился до слуха смутный гул водопадов. Зрелище исполинских островерхих гор, стиснувших мрачный провал, из башенного окна казалось еще более величественным, чем само ущелье.
Доступ в башню, нечаянно обнаруженную Элленой, значил для нее очень многое: ведь она обладала способностью находить в картинах природы и утешение, и величие. Теперь она сможет бывать здесь и, с отрадой созерцая распахнутый перед ней простор, набираться спокойствия, необходимого для того, чтобы мужественно противостоять всем грозящим ей бедам. Здесь она сможет вбирать сердцем потрясающие воображение картины дикой природы, благоговейно прозревая внутренним взором, словно сквозь завесу, внушающую священный трепет, тайные черты Божества, сокрытые от глаз земных созданий; здесь, в средоточии самых царственных Его творений будет живее ощущаться непосредственное Его присутствие; здесь ее прозревшей мысли мелкими и ничтожными покажутся все мирские страдания и заботы! Сколь убого хваленое человеческое могущество, если один-единственный скатившийся с крутизны обломок способен навлечь гибель на тысячи приютившихся у подножия горы жителей! Чем поможет им готовность к междоусобным битвам, спасет ли их масса смертоносного оружия, накопленного изощренными умельцами? Существо, с дерзостью титана заточившее несчастную пленницу в темницу, сравняется для нее с крошечным гномом. Она была уверена: никто на свете, никто из тех, кто лишен добродетелей, не сможет наложить оковы на ее душу.
Тут внимание Эллены отвлекли чьи-то шаги, послышавшиеся из галереи, затем раздался лязг ключа в замке. Испугавшись, что это сестра Маргаритоне, которая, разумеется, воспретила бы ей искать утешения у окна башни, Эллена с бьющимся сердцем спустилась по лестнице; перед ней и в самом деле стояла монахиня – удивленная и разгневанная; она сурово потребовала от Эллены объяснить, каким образом ей удалось отпереть дверь и где она была.
Эллена без всяких увиливаний ответила, что нашла дверь незапертой и побывала в башне наверху; высказать пожелание вернуться туда она побоялась, рассудив, что тем самым наверняка лишит себя этой возможности на будущее. Маргаритоне, резко отчитав пленницу за самовольство, поставила на стол завтрак и по уходе тщательно заперла дверь кельи. Так Эллена в один миг утратила, едва успев обрести, то невиннейшее утешение, каким являлась для нее башня.
В последующие дни Эллена виделась только со своей строгой надзирательницей, и одиночество ее скрашивали лишь посещения вечерней службы. В часовне, однако, за ней неусыпно следили, и она опасалась не то что заговорить с Оливией, но даже встретиться с ней глазами. Оливия часто устремляла на нее пристальный взор, значение которого Эллена, когда ей случалось взглянуть на монахиню, никак не могла вполне разгадать. Во взоре Оливии сквозило не одно сострадание – в нем угадывалось и тревожное любопытство, смешанное со страхом. Иногда на щеках ее вспыхивал румянец, сменявшийся вдруг смертельной бледностью; лицо выражало томление, какое обычно предшествует обмороку, но усердная молитва возвращала ей бодрость, вселяя в нее мужество и надежду.
По окончании службы Эллена в тот вечер с Оливией более уже не встречалась; наутро же Оливия явилась к ней в келью с завтраком. Черты ее лица омрачала какая-то особенная печаль.
– О, как я рада тебя видеть! – воскликнула Эллена. – Как мне было грустно, что тебя так долго нет! Мне пришлось постоянно помнить о твоем наказе – не пытаться разузнать о тебе.
– Я пришла к тебе по настоятельному требованию аббатисы, – с грустной улыбкой проговорила Оливия, садясь рядом с Элленой на убогий матрас.
– Против своего желания? – Голос Эллены дрогнул.
– Нет-нет, совсем наоборот, – заверила ее Оливия, – однако… – Тут она запнулась.
– Чем же вызвана твоя нерешительность?
Оливия молчала.
– Ты принесла мне дурные вести? – вскричала Эллена. – Ты боишься меня огорчить?
– Ты угадала, – был ответ Оливии. – Медлить меня заставляет боязнь причинить тебе боль: у тебя наверняка слишком много привязанностей в мирской жизни – и новость, которую я должна тебе сообщить, повергнет тебя в удручение. Мне велено подготовить тебя к принятию обета; коль скоро ты отвергла назначенного тебе супруга, ты обязана постричься в монахини; предполагается возможно более упростить обряд – черное покрывало будет возложено на тебя немедленно после белого.
Оливия прервала свою речь, и Эллена проговорила:
– Ты возвестила мне жестокий приговор вопреки собственной воле, и мой ответ предназначен только для преподобной настоятельницы; я заявляю, что никогда в жизни не приму ее предписаний; силой меня еще можно вынудить приблизиться к алтарю, однако ничто на свете не заставит меня произнести обет, ненавистный моему сердцу; и если меня вынудят предстать перед алтарем, я во всеуслышание буду протестовать против деспотизма и против обряда, который позволит ей добиться своего.
Твердость Эллены, по-видимому, нашла у Оливии сочувствие, и на лице ее выразилось удовлетворение.
– Не смею хвалить твою решимость, – проговорила она, – но не стану ее осуждать. Отречение от мира, где у тебя, без сомнения, много связей, превратит твою жизнь в истинную муку. У тебя ведь есть родственники, друзья, разлука с которыми была бы непереносима?
– Ни единой души, – со вздохом сказала Эллена.
– Неужто? Возможно ли? И однако, ты так не хочешь стать монахиней?
– У меня есть только один друг – и именно его они хотят у меня отнять.
– Дорогая моя, прости мне внезапность моих вопросов, – произнесла Оливия, – но, испрашивая у тебя прощения, я не удержусь от новой дерзости: назови мне свое имя.
– На этот вопрос я охотно тебе отвечу. Меня зовут Эллена ди Розальба.
– Как-как? – задумчиво переспросила Оливия. – Эллена ди…
– Ди Розальба, – повторила девушка. – Скажи мне, почему тебе это так интересно: тебе знаком кто-нибудь из тех, кто носит эту фамилию?
– Нет, – опечаленно отозвалась Оливия. – Просто твои черты немного напоминают мне одну мою прежнюю подругу.
С этими словами она, явно взволнованная, поднялась с места:
– Мне нельзя долее задерживаться, иначе мне запретят тебя навещать. Что я должна передать аббатисе? Если ты решилась отклонить монашеский постриг, позволь мне посоветовать тебе: постарайся как можно более смягчить свой отказ; мне ведь лучше известен нрав настоятельницы… О сестра моя, я не допущу, чтобы ты весь век томилась в этой одинокой келье.
– Как я обязана тебе, – воскликнула Эллена, – за заботу о моем благополучии, за бесценные твои советы! Облеки мой отказ аббатисе в должную форму – и помни только об одном: решение мое бесповоротно; остерегись ввести аббатису в заблуждение, дабы она не приняла кротость за нерешительность.
– Доверься мне: я буду осторожна во всем, что тебя касается, – заявила Оливия. – Прощай! Постараюсь, если удастся, заглянуть к тебе вечером. Пока что дверь останется незапертой – воспользуйся случаем: у тебя будет больше воздуха и простора. По той лестнице можно попасть в очень приятную комнату.
– Я уже побывала там благодаря тебе, – пояснила Эллена, – и признательна тебе за доброту. Вид из окна вселяет покой в мою душу; а если бы со мной оказалась книга или рисовальные принадлежности, я, наверное, почти забыла бы о своих горестях.
– И вправду забыла бы? – с ласковой улыбкой переспросила Оливия. – Прощай! Попытаюсь увидеться с тобой вечером. Если вернется сестра Маргаритоне, смотри не спрашивай обо мне и никогда не проси ее о том скромном удовольствии, которое я тебе разрешила.
После ухода Оливии Эллена направилась в башню – и забыла все свои горести, созерцая величественный горный пейзаж.
В полдень, заслышав шаги Маргаритоне, Эллена поспешила к себе в келью; она очень удивилась, что ее отсутствие на сей раз не навлекло на нее никакого выговора. Маргаритоне ограничилась только уведомлением, что по милости аббатисы Эллене дозволено обедать вместе с послушницами за одним столом, куда ей и препоручено сопроводить узницу.
Новость ничуть не обрадовала Эллену: она предпочла бы остаться в одиночестве, нежели оказаться под испытующими взорами незнакомок; уныло последовала она за Маргаритоне через многие переходы и коридоры в трапезную. Еще более смутило и поразило Эллену в поведении юных обитательниц монастыря полное отсутствие воспитанности, за скромными проявлениями которой скрывается изящество, столь необходимое женщинам; так вуаль еще более оттеняет достоинство и нежность лица. Едва только Эллена вступила в зал, как глаза всех собравшихся немедленно обратились к ней; девушки принялись хихикать и перешептываться, нимало не скрывая, что новоприбывшая служит предметом пересудов – причем самого неодобрительного свойства. Никто не встал ей навстречу, никто не пожелал ободрить, никто не пригласил к столу и не оказал ни единого знака предупредительности, которыми великодушные и тонкие натуры поддерживают застенчивых и незадачливых.
Эллена молча заняла свое место; поначалу развязные повадки соседок повергли ее в замешательство, однако постепенно сознание собственной невинности позволило ей вновь обрести чувство достоинства, заставившее дерзких насмешниц умолкнуть.
Впервые Эллена с охотой вернулась к себе в комнату. Маргаритоне оставила ключ в замке, однако предусмотрительно заперла дверь в коридор; впрочем, даже столь незначительную поблажку она делала неохотно, повинуясь против воли приказу начальницы. Как только она ушла, Эллена поспешила на башню; там, после пережитого в чуждом ей обществе послушниц, она еще более полно испытала прилив благодарности к милой ее сердцу монахине за ее отзывчивость. Оливия, как оказалось, побывала в комнате, пока она отсутствовала: сюда были принесены стул и стол, на котором лежали книги и охапка душистых цветов. Эллена не смогла удержаться от слез благодарности; глубоко растроганная великодушием Оливии, она некоторое время не прикасалась к книгам, не желая нарушить строй своих чувств.
Перелистав книги, Эллена увидела, что по большей части это мистические трактаты; их она разочарованно отложила в сторону, однако здесь же нашлись сборники лучших итальянских поэтов, а также два тома истории Гвиччардини. Эллену несколько удивило то обстоятельство, что поэты проторили себе тропу в библиотеку монахини, однако радость ее была так велика, что она не стала об этом задумываться.


