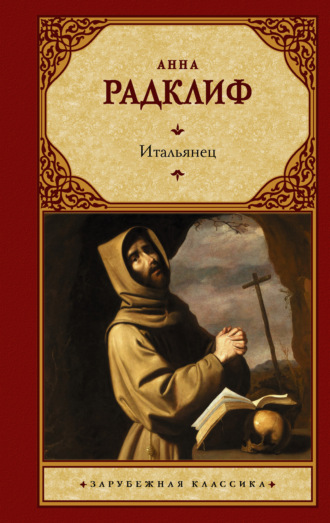
Анна Радклиф
Итальянец, или Исповедальня Кающихся, Облаченных в Черное
Скедони не был любим никем из собратьев; многих он отталкивал, большинству же внушал страх. Фигура его поражала – но не соразмерностью: Скедони был высок ростом, но очень худ; руки и ноги его были огромны и неуклюжи; когда он медленно шествовал, закутанный в черное одеяние своего монашеского ордена, весь облик его имел в себе нечто зловещее, нечто почти сверхчеловеческое. Опущенный капюшон, бросая тень на мертвенную бледность лица, подчеркивал суровость застывшего на нем выражения и угрюмую, почти ужасающую безотрадность его взора. Мрачность Скедони была рождена не скорбью чуткого израненного сердца, но жестокостью и беспощадностью его характера. Его физиономия поражала чрезвычайной, трудноопределимой странностью. Она хранила следы многих страстей – словно застывших в чертах, которые эти страсти перестали одушевлять. Мрачность и суровость запечатлелись в глубоких складках его лица. Взгляд, казалось, в одно мгновение проникал в сердца окружающих, читая в них самые сокровенные помыслы; не многие могли выдержать это испытание, и никто не в силах был подвергнуться ему дважды. И все же, несмотря на непреходящую угрюмость и строгость, в нем пробуждалось порой живейшее внимание, преображавшее его внешность; он обладал даром в совершенстве приспосабливаться к нраву и страстям тех, чье расположение желал снискать, и почти всегда одерживал безоговорочную победу. Именно этот монах, отец Скедони, и был исповедником и тайным советчиком маркизы Вивальди. В первом порыве негодования и уязвленной гордости, вызванном известием о предполагаемой женитьбе сына, маркиза обратилась к Скедони с просьбой указать средства предотвратить ее – и очень скоро обнаружила, что его таланты вполне соответствуют ее желаниям. Каждый из них мог быть чрезвычайно полезен другому: Скедони обладал хитростью, подстегиваемой честолюбием, маркиза – непреклонной гордостью; один надеялся получить в вознаграждение за свои услуги выгодный приход; другая же, располагавшая влиянием при дворе и подстрекаемая неукротимым самолюбием, рассчитывала с помощью даров спасти мнимое достоинство своего рода. Побуждаемые этими страстями, маркиза и Скедони придумали, втайне даже от маркиза, как добиться своей цели.
Вивальди, расставшись с матерью, столкнулся со Скедони в коридоре, ведшем в ее апартаменты. Юноша знал, что Скедони – ее исповедник, и потому эта встреча, даже в столь неурочный час, не вызвала у него удивления. Скедони, склонив голову и напустив на себя набожно-кроткий вид, прошел мимо Винченцио, но тот, поймав брошенный на него мгновенный острый взгляд, невольно отпрянул в сторону с внутренним содроганием, словно охваченный вдруг тягостным предчувствием тех невзгод, какие приуготовил ему этот монах.
Глава 3
– Что ты такое?
Ты – некий бог, иль ангел, или демон;
Ты кровь мне студишь, волосы вздымаешь;
Ответь, кто ты.
Шекспир У., Юлий Цезарь
Вивальди со времени последнего визита на виллу Альтьери сделался частым гостем у синьоры Бьянки; вскоре, склонившись на уговоры, к ним стала присоединяться Эллена, но беседа касалась только разнообразных посторонних тем. Синьора Бьянки, чутьем угадывая внутренние колебания племянницы и отдавая должное изысканному уму и манерам Винченцио, пришла к заключению, что юноша вернее завоюет сердце возлюбленной безмолвной преданностью, нежели прямым изъявлением нежных чувств. Подобное признание могло побудить испуганную Эллену, еще недостаточно привязавшуюся к юноше, бесповоротно отвергнуть ухаживания Винченцио, однако, поскольку он мог беседовать с Элленой постоянно, ее отказ с каждым днем становился менее вероятным.
Синьора Бьянки уведомила Вивальди, что опасаться ему нечего – соперника у него нет: Эллена неизменно отклоняла знаки внимания со стороны всех воздыхателей, являвшихся до сих пор в тиши ее уединения; почтенная синьора дала также юноше понять, что теперешняя сдержанность ее питомицы вызвана главным образом недоброжелательством родителей Винченцио, но отнюдь не ее нерасположением к нему самому. Винченцио поэтому принял решение воздержаться от дальнейших попыток сватовства, пока не займет прочного места в сердце Эллены, в каковой надежде его всячески поощряла синьора Бьянки, чьи мягкие увещевания становились день ото дня все доброжелательней и настойчивей.
Так прошло несколько недель, и наконец Эллена, уступив убеждениям синьоры Бьянки и повинуясь собственному внутреннему голосу, начала смотреть на Винченцио как на своего признанного обожателя; о недобром отношении к ней его семейства, казалось, было забыто; если же об этой вражде и вспоминали, то с упованиями на то, что над ней одержат верх соображения куда более могущественные.
Влюбленные – вместе с синьорой Бьянки и ее дальним родственником, синьором Джотто, – нередко совершали прогулки по восхитительным окрестностям Неаполя; Вивальди теперь не стремился утаить от глаз света свою привязанность, а, напротив, желал опровергнуть любой клеветнический навет на свою избранницу открытой демонстрацией питаемой им сердечной склонности; мысль о том, что недавняя его опрометчивость бросила тень на имя Эллены, пробуждала в Винченцио не только пламенную любовь, но и сокровенную жалость к той, на кого он невольно навлек поношения, а невинные речи и бесхитростная приязнь ни о чем не подозревавшей Эллены, заставляя его совершенно забыть о родовых притязаниях, все более укрепляли его привязанность к ней.
Во время этих прогулок они добирались иногда до Пуццуоли, посещали Байю, приближались к крутым лесистым склонам Позилиппо; на обратном же пути их лодка скользила по освещенным луной водам залива – и мелодичные неаполитанские напевы придавали особое очарование расстилавшейся перед ними панораме берега. Нисходила вечерняя прохлада, и до их слуха доносились то слитые в трио голоса виноградарей, отдыхавших после дневных трудов где-нибудь на выступе суши, в отрадной тени тополей; то бойкая музыка, сопровождавшая пляску рыбаков у самой кромки воды внизу. Гребцы сушили весла, пока находившаяся в их лодке компания вслушивалась в голоса, которым подлинное чувство придавало больше выразительности, чем подвластно ухищрениям виртуозов; нельзя было оторвать глаз и от танцевальных движений, исполненных легкой природной грации, какая свойственна неаполитанским простолюдинам. Огибая покрытый густыми зарослями мыс, далеко вдававшийся в море, спутники не могли вдоволь налюбоваться волшебной красоты видами, оживленными веселившимся народом, – картинами, которые не поддаются кисти даже самого талантливого живописца. Бездонно-ясная глубь залива отражала малейшие подробности пейзажа – причудливые утесы с горделиво красовавшимися на них пышными рощами; проглядывавшую сквозь деревья заброшенную виллу над самым обрывом; хижины крестьян, прилепившиеся к опасным склонам; фигуры танцоров на берегу – все это окрашивалось в нежно-серебристые тона тихим сиянием луны. По другую сторону лодки трепетала необозримая полоса искрящегося морского простора, лоно которого бороздили во всех направлениях парусные суда, – и зрелище это было столь же грандиозно, сколь и прекрасно.
Однажды вечером, сидя с Элленой и синьорой Бьянки в той самой беседке, где он ненароком подслушал сорвавшееся с уст девушки краткое, но бесценное для него признание, Вивальди решился с большей, нежели когда-либо раньше, убедительностью заговорить о своем желании приблизить, насколько возможно, свершение брачного обряда. Синьора Бьянки не высказала на это ни единого возражения; уже долгое время ей заметно нездоровилось, и, чувствуя быстрый упадок сил, она жаждала поскорее соединить руки влюбленных. Задумчивым взором созерцала почтенная синьора расстилавшийся перед нею вид. Закатное солнце наполняло море лучезарным блеском; ровную гладь залива плавно рассекали ярко раскрашенные корабли и рыбацкие челноки, возвращавшиеся с лова близ Санта-Лючии в порт, однако ничто не вселяло утешения в душу синьоры Бьянки. Ничто теперь не занимало ее – ни высившаяся на оконечности мола римская башня, тронутая косыми лучами; ни колоритные фигуры рыбаков, развалившихся под укрытием ее стен с дымящимися трубками или стоявших на солнечном берегу в ожидании прибытия новых лодок.
– Увы! – вырвалось у синьоры Бьянки восклицание, нарушившее задумчивое молчание влюбленных. – Как великолепен сегодня закат, как воспламеняет он многоцветьем красок величественные вершины гор… Но увы! Сердце подсказывает, что недолго суждено мне любоваться этой красотой, – недалек уже тот час, когда глаза мои смежатся навеки!
Когда Эллена нежно упрекнула ее за столь мрачные мысли, синьора Бьянки самым красноречивым образом заговорила о живейшем своем желании воочию убедиться в том, что будущее ее питомицы обеспечено; она добавила также, что это должно произойти возможно скорее, в противном же случае она до этого не доживет. Эллена, до крайности пораженная как настроением тетушки, так и прямым упоминанием, в присутствии Вивальди, о ее собственной судьбе, залилась слезами; между тем юноша, ободренный поддержкой синьоры Бьянки, с возросшей горячностью возобновил свои настояния.
– Сейчас не время для чрезмерной щепетильности, – заметила синьора Бьянки, – к нам взывает неоспоримая истина. Дорогая моя девочка, я не буду скрывать от тебя свои предчувствия, они меня не обманывают – жизнь моя вот-вот оборвется… Исполни только единственную мою просьбу, и тогда я с легкостью встречу свой смертный час.
Помолчав, она взяла руку племянницы и продолжала:
– Разлука, вне сомнения, станет большим испытанием для нас обеих; о ней нельзя будет не сожалеть, синьор. – Тут она обратилась к Вивальди: – Эллена мне все равно что родная дочь – и я исполнила, надеюсь, по отношению к ней все обязанности, какие вменяются в долг матери. Судите же о ее состоянии, если я покину этот свет. Вашей первейшей заботой должно быть стремление утешить ее в скорби.
Вивальди, бросив взгляд на Эллену, порывался что-то сказать, однако синьора Бьянки продолжала:
– На душе у меня было бы так же тяжело, если бы я не верила, что отдаю Эллену вашей неиссякаемой нежности; что мне удалось убедить ее принять покровительство супруга. Вам, синьор, завещаю я свое дитя. Оберегайте ее будущее, сохраняйте ее покой с той же неусыпностью, что и я, – оградите ее, если сумеете, от несчастья! Многое мне еще хотелось бы высказать, но силы мне изменяют.
Выслушав это напутствие и припомнив, как Эллена жестоко пострадала из-за оскорбления, нанесенного ее доброму имени маркизом, Вивальди, охваченный приливом справедливого гнева, причину которого он и не пытался скрыть, проникся в то же время щемящей нежностью, слезы навернулись ему на глаза – и втайне он дал обет отстаивать честь любимой и оберегать ее спокойствие, чего бы это ему ни стоило.
Синьора Бьянки, окончив наставления, вложила руку Эллены в руку Вивальди, который принял ее с изъявлениями бурного восторга; юноша возвел глаза к небу и со всем пылом, на какой только был способен, торжественно поклялся ни в чем не обмануть возложенного на него доверия, но неустанно блюсти благополучие Эллены столь же преданно и нежно, как ее тетушка; далее Винченцио объявил, что отныне почитает себя связанным узами не менее священными, нежели те, какие налагает на брачующихся Церковь, и что он берет на себя обязательство защищать Эллену, как должно супругу, до последнего своего дыхания. О твердости намерений юноши неоспоримо свидетельствовал неподдельный жар, с каким он произнес эту клятву.
Взволнованная Эллена, в душе которой боролись различные чувства, все еще плакала и не могла вымолвить ни слова, но тут, отняв от лица платок, взглянула на юношу сквозь слезы с робкой улыбкой – кроткой и любящей, исполненной безграничного к нему доверия; эта улыбка выразила смятение ее чувств и сказала ему гораздо более того, что способен выразить любой язык.
Перед уходом Вивальди в разговоре с синьорой Бьянки условился, что свадебный обряд должен быть совершен через неделю, если только удастся склонить Эллену дать на это согласие; на следующий же день почтенная синьора обещала поставить его в известность о принятом ее племянницей решении.
Окрыленный радостным предвкушением, Вивальди не шел, а летел домой, однако там его настроение омрачила записка от маркиза, который требовал немедленно явиться к нему в кабинет. Предвидя предмет их беседы, Винченцио с большой неохотой направился к отцу.
Маркиза он застал погруженным в глубокую задумчивость, тот даже не сразу заметил приход сына. С трудом оторвав глаза от пола, к которому они были словно прикованы тяжкими размышлениями, маркиз устремил суровый взгляд на Винченцио.
– Насколько мне известно, – заговорил наконец маркиз, – ты по-прежнему упорствуешь в недостойном увлечении, против которого я тебя остерегал. Я так долго полагался на твое собственное благоразумие, ибо желал предоставить тебе возможность достойным способом взять назад дерзкие речи, кои ты осмелился бросить мне в лицо, касательно твоих убеждений и намерений. Впрочем, несмотря ни на что, за каждым твоим шагом следили с неослабной зоркостью. Согласно доведенным до меня сведениям, твои визиты в обиталище злополучной юной особы, о которой мы говорили в прошлый раз, отнюдь не прекратились и ты по-прежнему ослеплен непозволительной страстью.
– Если ваша светлость имеет в виду синьору Розальба, – отвечал Вивальди, – то ей до злополучия далеко; что до меня, я не побоюсь сознаться в неизменной привязанности к ней. Но почему, о дорогой мой отец, – воскликнул юноша, стараясь подавить в себе раздражение, вызванное уничижительным отзывом об Эллене, – почему вы упрямо чините помехи счастью вашего сына, а главное – почему продолжаете пребывать в несправедливом заблуждении относительно той, кто по праву заслуживает не только моей любви, но и вашего восхищения?
– Я не любовник, – сухо заметил маркиз, – и давным-давно избавился от мальчишеского легковерия; я не уклоняюсь из своевольной прихоти от пристального расследования дела и руководствуюсь лишь неопровержимыми доказательствами, на которые можно положиться безоговорочно.
– Каковы же эти доказательства, милорд, что они смогли так легко убедить вас? – вознегодовал Вивальди. – Кто столь коварно злоупотребляет вашим доверием и лишает меня покоя?
Маркиз надменно стал порицать сына за питаемые им подозрения и за расспросы; последовал долгий разговор, нимало не содействовавший примирению сторон, убежденных в собственной правоте. Маркиз настойчиво повторял обвинения, угрозы; Винченцио всеми силами пытался защитить Эллену и доказать отцу постоянство своей любви и неизменность своих намерений.
Не поддаваясь ни на какие уговоры, маркиз наотрез отказался предъявить доказательства, которыми располагал, а также назвать имя доносчика; не более смогли угрозы отца принудить Вивальди отречься от Эллены – в итоге отец и сын разошлись, до крайности недовольные друг другом. Маркизу на сей раз не удалось проявить присущую ему дальновидность: угрозы и обвинения только раззадорили и возмутили юношу, тогда как сердечная доброжелательность вкупе с ласковой укоризной наверняка, всколыхнув сыновнюю привязанность, пробудили бы в груди Вивальди борьбу противоречивых чувств. Теперь же никакое столкновение различных понятий о долге не могло поколебать его решимости. У Винченцио не было сомнений в предмете их спора: в отце он видел высокомерного тирана, вознамерившегося отнять у него священнейшее его право, ради собственных целей не погнушавшегося запятнать имя невинной беззащитной девушки на основании сомнительных сообщений подлого наветчика; отныне Вивальди, утверждая свою решимость свободно следовать выбору, подсказанному ему голосом природы, не испытывал ни жалости, ни угрызений совести, но с еще большим нетерпением жаждал вступить в супружество, обещавшее ему счастье и полное восстановление репутации Эллены.
На следующий день Вивальди отправился на виллу Альтьери с нетерпеливым желанием узнать результат дальнейших переговоров синьоры Бьянки с племянницей и назначенный ими день свершения свадебного обряда. В пути все мысли юноши были без остатка поглощены Элленой, и он шел, не замечая ничего вокруг, пока не оказался в тени хорошо знакомой ему арки, живо напомнившей ему о том, где он находится. До слуха Винченцио донесся голос – голос монаха, вновь преградившего ему дорогу.
– Не приближайся к вилле Альтьери, – услышал он торжественный возглас, – смерть ступила на ее порог!
Прежде чем Вивальди успел опомниться от ужаса, в какой повергли его внезапное появление монаха и сообщенная ему новость, незнакомец уже исчез, растворившись в окружающем сумраке. Казалось, он слился с тьмой, из которой неожиданно возник: ускользнуть через проход под аркой незамеченным он не мог никак. Винченцио звал его, заклинал предстать перед ним вновь, умолял сказать, кто умер, но ответа не было.
Предположив, что незнакомец скрылся из виду единственно возможной дорогой, ведущей к башне наверху, Вивальди начал было взбираться по лестничным ступеням, но тут его осенила мысль, что самый надежный способ разгадать загадку – это покинуть зловещие руины и отправиться без промедления на виллу Альтьери; туда он и направил поспешно свои стопы.
Человек равнодушный, скорее всего, отнес бы слова монаха на счет синьоры Бьянки: пошатнувшееся здоровье делало ее скоропостижную кончину весьма вероятной, однако потрясенному воображению Вивальди являлась только умирающая Эллена. Страхи его, независимо от их реальности и правдоподобия, были вполне естественны для пылкого влюбленного, но они сопровождались предчувствиями столь же необычайными, сколь и страшными: ему снова и снова представлялось, что Эллена убита. Он видел ее раненной, истекающей кровью; видел ее покрытое пепельной бледностью лицо и угасающие глаза, стремительно утрачивающие прежний блеск и обращенные с жалостной мольбой к нему, словно он в состоянии был отвести роковой удел, влекущий юную жизнь в могилу. Достигнув садовой ограды, Винченцио принужден был остановиться: сотрясаемый дрожью с головы до ног, он не в силах был сделать и шага навстречу пугавшей его действительности. Наконец, призвав на помощь все свое мужество, он отпер недавно полученным ключом калитку, значительно сокращавшую ему последний отрезок пути, и вскоре оказался у самого дома. Повсюду царило безмолвие – нигде ни единой души; почти все оконные решетки были опущены. Пытаясь по еле заметным признакам определить, что именно здесь произошло, Винченцио с упавшим сердцем вступил под тень портика – и тут худшие опасения его подтвердились. Изнутри донесся слабый сокрушенный стон, сменившийся торжественно-скорбным речитативом, которым в некоторых областях Италии оплакивают усопших. Приглушенный голос слышался издалека и казался почти невнятным; не медля более ни секунды, Винченцио кинулся к входной двери и громко постучал.
Через какое-то время появилась престарелая экономка Беатриче и, не дожидаясь вопросов, заговорила:
– О горе, синьор! Горе-то какое! Кто бы мог подумать? Кто бы мог такое ожидать? Еще вчера вечером вы были здесь – и она чувствовала себя не хуже, чем я; кто бы мог вообразить, что сегодня она будет уже мертва?
– Так она умерла? – словно громом пораженный воскликнул Вивальди. – Значит, она умерла!
Пошатнувшись, он с трудом удержался на ногах и вынужден был прислониться к колонне, чтобы не упасть. Беатриче, встревоженная его состоянием, готова была устремиться ему на помощь, но он знаком руки велел ей оставаться на месте.
– Когда она умерла? – через силу выговорил он, кое-как переведя дыхание. – Как и где?
– Увы, синьор, здесь, на вилле! – рыдая, отозвалась Беатриче. – Да разве чаяла я дожить до этого дня? Выходит, зря я надеялась упокоить свои косточки в мире…
– Отчего она умерла? – нетерпеливо перебил Вивальди. – Когда это случилось?
– Ночью, около двух часов, синьор, около двух часов. Вот уж горе так горе! Зачем только я сама не умерла раньше…
– Теперь мне немного лучше, – сказал Вивальди, выпрямляясь, – проведи меня к покойной – я должен ее увидеть. Ты колеблешься? Говорю тебе, я должен ее увидеть – веди!
– Увы… Синьор, это печальное зрелище. Послушайтесь меня, синьор, не ходите туда – это горестное зрелище.
– Веди меня к ней! – строго повторил Вивальди. – Не захочешь, так я сам найду дорогу.
Беатриче, устрашенная грозным видом юноши, безропотно повиновалась и только просила его подождать, пока она не сообщит госпоже о его приходе, Винченцио, однако, не отступал от провожатой ни на шаг; они поднялись по лестнице наверх и миновали коридор, ведший на западную сторону дома. Вскоре они оказались в анфиладе комнат, где из-за опущенных оконных решеток царил полумрак; здесь, в одной из комнат, находилось тело усопшей. Заупокойное пение смолкло, и ни единый шорох не нарушал мертвенного безмолвия опустелого жилища. У самой двери Винченцио пришлось помедлить: от сильного волнения колени его подкосились, и Беатриче, опасаясь, как бы он не рухнул без чувств на пол, хотела поддержать его слабою рукой, но он жестом отстранил ее. Преодолев слабость, Винченцио переступил порог обиталища смерти, торжественно-мрачное убранство которого навело бы на него уныние, если бы глубокое страдание не сделало его почти безучастным к окружающей обстановке. Приблизившись к постели, на которой лежала покойница, Винченцио поднял глаза на склоненную над нею безутешную плакальщицу и узнал в ней Эллену… До крайности изумленная его неожиданным присутствием, еще более – его волнением, она тщетно пыталась добиться ответа на вопрос, что послужило тому причиной. Но у Винченцио не было ни сил, ни желания раскрыть все обстоятельства, которые наверняка больно задели бы ее чувства; ведь получалось так, что событие, повергшее ее в горесть, нечаянно вызвало его радость.
Не желая долее посягать на сокровенность скорбного уединения, Винченцио пробыл с Элленой недолго, стараясь только овладеть собою и успокоить ее.
Когда юноша остался вдвоем с Беатриче, она поведала ему об обстоятельствах смерти Бьянки: накануне вечером синьора отправилась на отдых в обычном своем состоянии.
– И вот, синьор, уже после полуночи, – продолжала рассказ Беатриче, – меня разбудил какой-то шум в спальне госпожи. Хуже нет просыпаться, когда только-только задремлешь, – и тут такая досада меня взяла, да простит мне Пречистая Дева, Святая Богородица! Не стала я подниматься с постели, а прикорнула опять на подушке – сон набрать; чую: снова шум – ну, думаю, не иначе как чужие в доме, уши-то меня не обманывают. Не успела я это проговорить, слышу – молодая госпожа меня зовет: «Беатриче! Беатриче!» Ах, бедняжка, сильно же она перепугалась, да и как тут не перепугаться! Вмиг подлетела к моим дверям, а сама бледная как смерть – и дрожит с головы до пят… «Беатриче, – говорит, – вставай скорее: тетушка умирает». Сказала – и, не дожидаясь ответа, бросилась обратно. Пресвятая Дева Мария, спаси и сохрани меня! Я едва-едва не лишилась чувств.
– Так, а что же твоя госпожа? – Теряя последние остатки терпения, Вивальди прервал утомительные излияния экономки.
– Ах, моя бедная, бедная госпожа! Синьор, поверьте: я боялась, что мне в жизни не добраться до ее комнаты, однако кое-как доплелась, сама едва не при смерти… И вот вижу: моя госпожа лежит на постели совсем недвижно! Лежит – и слова не вымолвит, только смотрит так жалобно: я тотчас поняла, что она кончается. Говорить она не могла, хотя и не раз пыталась, но она была в сознании и то и дело взглядывала на синьору Эллену – и снова пыталась говорить; сердце у меня едва не разорвалось. Видно было, какая-то мысль не давала ей покоя – и очень уж госпоже хотелось ее высказать; она брала синьору Эллену за руку и смотрела ей в лицо с таким жалостным выражением, что никто бы этого не смог вынести, разве только те, у кого сердце каменное. Моя бедная юная госпожа совсем была убита горем, слезы у нее из глаз просто ручьями лились. Несчастная синьора Эллена! Ведь она лишилась истинного друга – второго такого найти ей и надеяться нечего.
– Нет, она обретет, непременно обретет еще одного – столь же преданного и любящего! – с жаром воскликнул Винченцио.
– Дай-то Бог, синьор, дай-то Бог! – отозвалась Беатриче с сомнением в голосе. – Мы делали все, что могли, для нашей бедной госпожи, – продолжала она, – да только все без толку. Доктор давал ей лекарство, но ей уж невмоготу было глотать. Слабела она на глазах – и только вздыхала тяжко-претяжко и крепко стискивала мне руку. А потом отвела взгляд от синьоры Эллены – и глаза у нее потускнели и остановились, и словно бы ничего уже вокруг не видят. Ох, горе горькое! Я тут сразу смекнула, что синьора отходит: рука ее сделалась ледяная и выпала из моей – и лицо вдруг за несколько минут изменилось так, что узнать было нельзя. В два ночи ее уже не стало; не успели и священника привести, чтобы отпустил ей грехи.
Беатриче умолкла и заплакала, Вивальди сам едва не дал волю слезам, не сразу нашел он в себе силы осведомиться голосом, нетвердым от волнения, каковы были признаки постигшего синьору Бьянки внезапного недомогания и случались ли с ней подобные приступы ранее.
– Никогда в жизни, синьор, – заверила старая экономка. – Немочи, правда, ее давно уже одолевали, и с годами она здоровья не набиралась, однако…
– Что означают твои намеки? – перебил Вивальди.
– Да как же, синьор: я прямо-таки не знаю, что и думать о кончине моей госпожи. Кому ведомо, где тут правда. Дело мудреное, стоит ли рот раскрывать – меня только на смех поднимут, если я заикнусь о том, что у меня на душе; никто и не поверит, слишком уж чудным это может показаться, и все же никак у меня из головы эти мысли не выходят.
– Говори понятно, – потребовал Вивальди, – с моей стороны упреков тебе незачем опасаться.
– Вас, синьор, я и не опасаюсь; боязно мне, что слухи пойдут по всему городу, не ровен час, люди дознаются, кто их распускает.
– От меня никто ничего не услышит, – не отступался охваченный нетерпением юноша, – отбрось все страхи и расскажи мне о своих догадках.
– Что ж, тогда я откроюсь вам, синьор: не нравится мне, как быстро госпожа ни с того ни с сего приказала долго жить, да и вид у нее после смерти был какой-то не тот.
– Говори яснее, без экивоков!
– О господи, синьор, есть такие люди на свете, которые сроду не хотят понимать, сколько им ни толкуй, – а я вроде бы говорю ясней некуда. Скажу без утайки, начистоту: не верю я, что госпожа умерла своей смертью…
– Что? – вскричал Вивальди. – На чем основаны твои подозрения?
– Но вы ведь, синьор, уже слышали: уж очень мне не по душе внезапность ее смерти и вид ее, когда она скончалась.
– Силы небесные! – прервал Вивальди старуху. – По-твоему, ее отравили?
– Тише, синьор, тише! Я про это ни словом не обмолвилась; я сказала только, что, похоже, она умерла не своей смертью.
– Кто бывал на вилле в последнее время? – дрожащим голосом задал вопрос Вивальди.
– Увы! Ни единой души, синьор. Госпожа жила почти что затворницей и редко с кем виделась.
– Неужели ни единая душа не появлялась? Вспомни хорошенько, Беатриче: не заходил ли к вам кто-нибудь?
– Посетителей, синьор, у нас давным-давно никаких не было, кроме вас да синьора Джотто, кузена госпожи Бьянки. Еще, правда, была, помнится, сестра из монастыря – приходила за шелками, которые вышивала молодая госпожа.
– Вышивала молодая госпожа? Что это за монастырь?
– Монастырь Санта-Мария делла Пьета – его видно отсюда, синьор; соблаговолите подойти к окну, и я вам его покажу. Он расположен вон там, на лесистом склоне холма, за садами, что простираются вниз до самого берега. Рядом с монастырем – оливковая роща, и поглядите-ка, синьор, выше снова лес, а над ним высится желтовато-красный гребень горы; чудится, будто он вот-вот рухнет на старинные шпили. Разглядели, синьор?
– Когда эта инокиня была здесь в последний раз?
– Тому уже недели три, не меньше.
– И с тех пор никто из посторонних больше сюда не заявлялся? Ты уверена?
– Конечно, синьор! Разве только еще рыбак, да зеленщик, да продавец макарон и прочей снеди: до Неаполя путь неблизкий, синьор, а у меня так мало времени.
– Три недели – так? Ты сказала – три недели; я не ослышался? Ты уверена, что три недели никого из посторонних в вашем доме не было?
– Что вы, синьор? Три недели, святая Мария! Неужто нам под силу целых три недели поститься? Торговцы чуть ли не каждый день к нам заглядывают.
– Я говорю о монахине! – вскричал Вивальди.
– О монахине? Тогда да, синьор, верно: она была у нас три недели назад, никак не позже.
– Странно! – задумчиво проговорил Вивальди. – Мы еще об этом потолкуем. Между тем ты должна помочь мне попасть в покои твоей госпожи, я желал бы взглянуть на ее лицо, но без ведома синьоры Эллены. И послушай, Беатриче: храни в тайне свои догадки по поводу обстоятельств кончины синьоры Бьянки, остерегайся по нечаянности выдать эти подозрения юной госпоже. А у нее нет сходных предположений? Она при тебе их не высказывала?
Беатриче отвечала, что, насколько ей известно, синьора Эллена ни о чем таком и не помышляет; далее она клятвенно обещала выполнять его указания.
Винченцио покинул виллу, напряженно раздумывая над обстоятельствами, о которых только что узнал, и над пророческим предсказанием монаха; он невольно предположил, что это предсказание и причина смерти Бьянки между собой связаны; только теперь Вивальди впервые пришла в голову мысль, что этот монах, этот таинственный незнакомец, – не кто иной, как отец Скедони, в последнее время зачастивший в покои маркизы. Следствия, вытекавшие из этого подозрения, заставили юношу содрогнуться, и он поспешно отверг их как ужасную отраву, способную на веки вечные лишить его душевного спокойствия. Однако подозрение оказалось слишком сильным, чтобы разом от него избавиться, – и Винченцио попытался воскресить в памяти фигуру и голос незнакомца, желая сопоставить его облик с обликом Скедони. Голоса, казалось ему, сходствовали мало; заметно различались оба и ростом и статью. Сравнение, однако, не мешало Вивальди заподозрить монаха в том, что он послушное орудие в руках исповедника – или же приставленный к нему самому тайный соглядатай и доносчик, оклеветавший Эллену; и тот и другой – если только их на самом деле двое – беспрекословно повинуются воле его родителей. Воспламененный негодованием по поводу недостойных уловок, направленных против него, и обуреваемый желанием сквитаться с обидчиком Эллены, юноша твердо вознамерился во что бы то ни стало докопаться до истины: либо вынудить исповедника сознаться во всем, либо отыскать его приспешника, который, как он полагал, обретался среди развалин крепости Палуцци.


