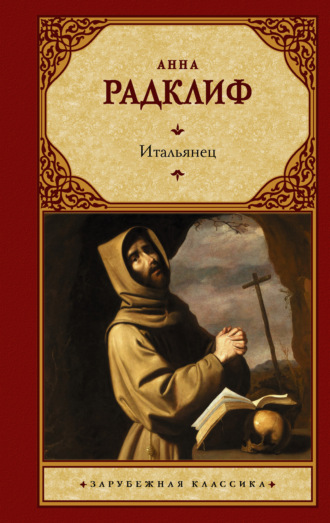
Анна Радклиф
Итальянец, или Исповедальня Кающихся, Облаченных в Черное
Глава 2
Оливия: А что б вы сделали?
Виола: У вашей двери
Шалаш я сплел бы, чтобы из него
Взывать к возлюбленной, слагал бы песни
О верной и отвергнутой любви
И распевал бы их в глухую полночь;
Кричал бы ваше имя, чтобы эхо
«Оливия!» холмам передавало:
Вы не нашли бы на земле покоя,
Пока не сжалились бы[3].
Шекспир У., Двенадцатая ночь
Смысл предостережения, услышанного от монаха, по-прежнему оставался для Вивальди темен, и поэтому, дабы избавиться от мучительной неизвестности касательно соперника, юноша твердо вознамерился посетить виллу Альтьери и прямо заявить о своих чувствах. После ночного приключения он пустился в путь на следующее же утро, однако в просьбе свидеться с синьорой Бьянки ему было отказано. С величайшим трудом добился Винченцио от престарелой экономки согласия передать хозяйке дома настоятельную мольбу уделить ему хотя бы несколько минут. На сей раз желанию юноши не воспротивились, и экономка провела его в ту самую комнату, через окно которой он не столь давно лицезрел Эллену. Там ему было велено немного подождать, пока явится синьора Бьянки.
Оставшись в одиночестве, Винченцио предался самым разноречивым переживаниям: то трепетал от радостного нетерпения, то испытывал необычайный подъем духа, восторженно взирая на алтарь, у которого Эллена возносила слова молитвы и где еще и теперь драгоценный образ рисовался его мечтам; с нежностью созерцал он окружавшие его предметы, к которым еще совсем недавно обращались глаза его возлюбленной. Вся обстановка, столь знакомая Эллене, возымела для Винченцио некий ореол святости, запечатленной в тайниках его сердца, и воздействовала на его чувства едва ли не так же, как и ее присутствие. Прикоснувшись к брошенной лютне, которой она так часто касалась, Винченцио затрепетал, а когда пальцы его пробежали по струнам, словно бы прозвучал голос Эллены. Стоило Винченцио взглянуть на забытый на подставке незаконченный рисунок танцующей нимфы – и ему уже не надо было гадать об имени художника. Рисунок представлял собой изображение статуи из Геркуланума, однако на нем явственно лежала печать подлинно оригинального таланта. Воздушные очертания танцовщицы были исполнены утонченной грации: казалось, она вот-вот сделает шаг. Вивальди не без удивления обнаружил, что рисунок относится к целой серии, украшавшей также и стены кабинета его отца; ранее он считал, что это единственные копии, которые дозволено было снять с оригиналов, хранившихся в Королевском музее.
Все вокруг живо говорило Винченцио о присутствии Эллены: даже цветы, в изобилии рассыпанные по комнате, источали аромат, который кружил ему голову и будоражил воображение. В ожидании синьоры Бьянки он все более и более волновался; опасаясь, что будет не в силах предстать перед хозяйкой дома, он не раз и не два порывался обратиться в бегство, но вот за дверью наконец послышались медленные шаги – и у Винченцио вмиг перехватило дыхание. В обличии синьоры Бьянки не было ничего такого, что могло бы вызвать раболепный трепет; сторонний наблюдатель, верно, не удержался бы от улыбки при виде того, как охваченный смятением Вивальди, с потупленным взором, робко шагнул навстречу почтенной синьоре и в ответ на ее не слишком любезное приветствие склонился над ее увядшей рукой. Синьора Бьянки отнеслась к посетителю более чем сдержанно, и Винченцио понадобилось время, чтобы собраться с духом для изложения причин своего визита, однако сделанное им признание, по всей видимости, отнюдь ее не удивило. Сохраняя полнейшую невозмутимость, синьора Бьянки не без некоторой строгости выслушала любовные излияния юноши, обращенные к ее племяннице; когда же он принялся умолять ее споспешествовать скорому заключению их брака, синьора ответила:
– Я не вправе не отдавать себе ясного отчета в том, что столь высокопоставленное семейство, как то, к которому вы принадлежите, наверняка всеми способами воспротивится подобному неравному союзу; более того, я достаточно наслышана, какое исключительное значение придают громкой родословной маркиз и маркиза Вивальди; можно даже сказать, гордость знатными предками – их отличительная фамильная черта. Ваши намерения родителям вашим либо неприятны, либо неизвестны – и позвольте мне заверить вас, синьор: юная синьора ди Розальба, хотя и обладает куда более скромным именем, нимало не уступит им в чувстве собственного достоинства.
Вивальди терпеть не мог обиняков, но необходимость сказать всю правду ошеломила его. Искренность его признаний и сила страсти, слишком красноречивой, чтобы в ней можно было усомниться, несколько смягчили беспокойство синьоры Бьянки; у нее возникли соображения иного свойства. Ей ли было не сознавать, что в недалеком времени, согласно законам природы, она, из-за преклонного возраста вкупе с недугами, оставит Эллену юной, беспомощной сиротой, чье благополучие всецело будет зависеть от ее трудолюбия, а еще более – от ее благоразумия. Любящему сердцу синьоры Бьянки ясно рисовались беды, подстерегавшие одинокую девушку, столь же прекрасную, сколь и не искушенную в житейских делах; подчас синьора Бьянки даже подумывала о том, что вполне допустимо поступиться незыблемыми в иных обстоятельствах нравственными постулатами, лишь бы ее племянница оказалась под надежной опекой преданного и порядочного мужа, человека чести. Если в данном случае она втайне изменяла правилам высокой нравственности, отвергавшим саму мысль о возможности для Эллены тайного супружества, то ее материнская тревога должна была смягчить заслуженное ею порицание.
Однако, прежде чем принять определенное решение, необходимо было удостовериться, что Вивальди достоин нужного в этом положении доверия. Для того же, чтобы испытать постоянство его чувств, синьора Бьянки постаралась пока что не слишком поощрять его надежды. В свидании с Элленой ему было наотрез отказано вплоть до того времени, когда его предложение будет более основательно взвешено. На вопрос Винченцио о том, нет ли у него соперника – и, быть может, более удачливого, – синьора Бьянки отвечала уклончиво, избегая слишком однозначных утверждений, которые впоследствии трудно было бы без ущерба взять назад.
В конце концов Вивальди пришлось откланяться; из пучины отчаяния его вызволили, но надежды на будущее почти не дали; о сопернике ему ничего не сказали, но и сомнений в чувстве к нему Эллены не рассеяли.
Винченцио заручился дозволением синьоры Бьянки явиться к ней с визитом на следующий день, однако время, казалось, прекратило свой ход; найти способ скоротать пытку неизвестностью представлялось немыслимым – и на обратном пути в Неаполь Винченцио мучительно ломал голову, чем бы ему занять себя до вечера. Очутившись вдруг у хорошо знакомой арки, юноша огляделся по сторонам в поисках своего истязателя, но тщетно: монах исчез бесследно. Вивальди решил непременно вернуться сюда ночью, а также тайком посетить виллу Альтьери, надеясь тем самым снять с души бремя смутной тревоги.
Дома Винченцио передали, что его отец, маркиз Вивальди, строго велел сыну дожидаться его возвращения; послушный родительскому слову, Винченцио провел весь день безотлучно в стенах дворца, однако маркиз так и не приехал. Маркиза, призвав сына к себе, осведомилась с многозначительным видом, где он пропадал и чем был занят, а затем обратилась с просьбой сопроводить ее вечером в Портичи, разрушив таким образом все намеченные Винченцио планы: юноша не смог ни узнать решения Бонармо, ни выследить монаха у крепости, ни посетить дом Эллены.
В Портичи Винченцио пробыл с маркизой до наступления ночи; по возвращении в Неаполь, вновь не застав отца дома, он так ничего и не смог узнать о предмете предстоящего разговора. Бонармо прислал записку с отказом сопутствовать другу в ночной экспедиции и настоятельно рекомендовал ему воздержаться от столь рискованного визита. Отправиться к крепости одному, без спутника, Вивальди не слишком-то хотелось, и он отложил поиски на сутки, однако ничто не могло воспрепятствовать его стремлению оказаться на вилле Альтьери. Не желая, после отказа Бонармо, просить его участия в своих новых планах, Винченцио взял с собой лютню и, поспешив в путь, приблизился к знакомым воротам раньше обычного.
Со времени захода солнца прошло уже более часа, но на горизонте все еще играли прозрачно-шафрановые закатные отблески, и бездонно чистый хрустальный купол небосвода изливал на дремавший мир особое, свойственное чудодейному климату южных широт, примиряющее сумеречное сияние. На юго-востоке отчетливо вырисовывались очертания Везувия, а сама гора была погружена во мрак и тишину.
До слуха Вивальди доносилась только оживленная перебранка бродяг, игравших на берегу в кости. Сквозь густую зелень плюща, который обвивал беседку под сенью апельсиновых деревьев, пробивался слабый свет; им овладела внезапная надежда увидеть там Эллену. Противоборствовать искушению было невозможно: юноша торопливо шагнул было вперед, но тут же сдержал свой порыв, усомнившись, позволительно ли исподтишка посягать на девическое уединение, превратиться в тайного наблюдателя чужих мыслей. Благородные колебания длились, впрочем, недолго: уступив неодолимому соблазну, Винченцио бесшумно скользнул к беседке и стал в тени ветвей апельсинового дерева так, что беспрепятственно мог заглянуть в беседку, не опасаясь быть обнаруженным. Эллена сидела одна, в задумчивости опустив на колени лютню и не трогая струн. Казалось, она не замечала ничего из окружавшего, но, судя по нежному выражению лица, мысли ее были заняты каким-то дорогим ее сердцу предметом. Припомнив, как в прошлый раз, когда он украдкой созерцал возлюбленную через окно комнаты, Эллена произнесла его имя, Винченцио воспрянул духом и готовился уже пасть к ее ногам, но тут девушка заговорила, и он остановился:
– О, не безрассудно ли кичиться знатностью! – воскликнула Эллена. – Пустое предубеждение лишает нас душевного покоя. Никогда в жизни не соглашусь я войти в семью, которая не хочет меня принять; по крайней мере, недоброхоты мои убедятся в том, что от предков передалось мне по наследству благородство души. О Вивальди, если бы не столь пагубный для нас обоих предрассудок!
Вивальди, заслышав эти слова, застыл в оцепенении, боясь шевельнуться, будто околдованный, но звуки лютни пробудили его; Эллена спела начальную строфу той самой песни, с которой он начал свою серенаду, причем вложила в мелодию ту страстную нежность, которая вдохновила композитора на ее создание.
Закончив первую строфу, она остановилась, а Винченцио, не в силах устоять перед возможностью излить свои чувства, тронул вдруг струны своей лютни и пропел в ответ вторую строфу. Голос его слегка дрожал, что красноречиво свидетельствовало не столько о вокальном мастерстве, сколько о неподдельной искренности певца. Эллена тотчас же все поняла. Она то бледнела, то краснела и еще до конца строфы, казалось, потеряла сознание. Вивальди вошел в беседку, и приближение его привело Эллену в чувство; она сделала ему знак, чтобы он удалился, и, прежде чем он бросился ей на помощь, она встала и покинула бы беседку, если бы он не обратился к ней с мольбой уделить ему всего несколько минут внимания.
– Нет, это невозможно! – воскликнула она.
– Позволь мне только услышать от тебя, что ты не испытываешь ко мне ненависти, – вскричал Вивальди, – и что мое вторжение не искоренило благосклонности, которой, согласно только что высказанному тобой признанию, ты меня удостоила!
– Нет-нет! – порывисто отвечала Эллена. – Забудь о словах, нечаянно у меня вырвавшихся; забудь о том, что ты их слышал; я сама не помню, о чем говорила.
– О прекрасная Эллена! Неужели ты думаешь, что я способен забыть услышанное из твоих уст? Твои слова будут отрадой моего одиночества, надеждой, которая продлит мои дни.
– Я не могу долее оставаться с вами, синьор, – перебила его Эллена, придя в еще большее замешательство. – Я никогда не прощу себе того, что допустила эту беседу, – добавила она, однако же нечаянная улыбка ее уст недвусмысленно опровергала произнесенную фразу.
Вивальди поверил улыбке вопреки словам, но, прежде чем он успел высказать свой восторг, Эллена покинула беседку; он побежал за нею в сад – но она исчезла.
С этого мгновения Винченцио словно родился заново: он чувствовал себя так, будто очутился в раю; улыбка Эллены запечатлелась в его душе навек. Переполненный счастьем, он выкинул из головы все помышления о подстерегавших его бедах и дерзко бросал вызов любым грядущим ударам судьбы. Он вернулся в Неаполь как по воздуху – и даже забыл искать таинственного монаха.
Родителей его не было дома, и Винченцио мог вволю предаться сладостным воспоминаниям, пленившим его воображение. Всю ночь напролет он то расхаживал из угла в угол по своей комнате в волнении, сравнимом только с недавней его лихорадочной тревогой, то принимался писать – и тут же рвать – письма Эллене; то ему представлялось, что они слишком длинны или, наоборот, чересчур коротки; то он внезапно вспоминал, о чем еще должен был сказать, или жалел, что слишком холодно выразил страсть, неизъяснимую ни на одном из существующих языков.
К тому времени, когда прислуга была уже на ногах, Винченцио удалось все же сочинить более или менее удовлетворившее его послание, которое он направил на виллу Альтьери с доверенным лицом, однако не успел гонец покинуть дом, как юношу осенили новые, не терпевшие отлагательств важнейшие доводы и сильнейшее желание исправить многие строки, дабы яснее донести вложенный в них смысл, – словом, он отдал бы полмира, лишь бы вернуть курьера.
Он был еще очень взволнован, когда его позвали к отцу: назначенная встреча долго откладывалась из-за занятости маркиза. Вивальди быстро понял, о чем пойдет речь.
– Я желал переговорить с тобой, – начал маркиз высокомерно-суровым тоном, – о предмете, чрезвычайно важном для твоей чести и счастья; мне хотелось также предоставить тебе возможность опровергнуть слух, который причинил бы мне немалое беспокойство, если бы я позволил себе поверить ему. По счастью, я слишком полагаюсь на разумность моего сына, чтобы принимать на веру такого рода новости, и потому решительно заявил в ответ, что мой наследник, в высшей степени осознавая свой долг перед семьей и перед самим собой, не совершит ни малейшего проступка, который мог бы опорочить его достоинство или достоинство его родных. Итак, я призвал тебя только затем, чтобы ты прямо опроверг возведенную на тебя клевету и тем самым дал бы мне право разоблачить ее перед теми, от кого я ее услышал.
Едва дождавшись конца этой вступительной речи, Винченцио порывисто обратился к отцу с просьбой растолковать суть предъявленного ему обвинения.
– Говорят, – продолжал маркиз, – будто некая молодая особа по имени Эллена Розальба (кажется, так ее зовут?)… Тебе она знакома?
– Еще бы! – вскричал Вивальди. – Прошу прощения, милорд, умоляю вас – продолжайте…
Маркиз, помедлив, окинул сына суровым взглядом, в котором, однако, не сквозило ни тени удивления.
– Говорят, будто названная молодая особа с помощью всяческих хитростей завоевала твою привязанность и…
– Совершенно справедливо, милорд, синьора Розальба завоевала мою самую горячую привязанность, – не удержался Вивальди, – только прибегать к хитростям ей для этого не пришлось.
– Я не позволю себя перебивать! – не дал договорить сыну маркиз. – Мне донесли, что названная особа, весьма искусно подладившись под твой нрав, при содействии проживающей вместе с ней родственницы, низвела тебя до унизительного положения ее преданного воздыхателя.
– Синьора Розальба и в самом деле удостоила меня чести считаться ее поклонником! – вскричал Вивальди, не в силах совладать со своими чувствами. Он пытался продолжать, но маркиз довольно грубо прервал его:
– Итак, ты признаешься в собственном безрассудстве?
– Милорд, я горжусь своим выбором!
– Юноша! – воскликнул маркиз. – Ты ослеплен самонадеянностью и мальчишеской восторженностью, и я готов простить тебе твою заносчивость, но простить лишь однажды, запомни это. Признай свои заблуждения и немедленно покончи с этой интрижкой.
– Милорд!
– Ты должен безотлагательно порвать все отношения с этой девицей, – еще более настойчиво проговорил маркиз. – Я же, в доказательство того, что милосердие во мне берет верх над справедливостью, согласен буду тогда назначить девице небольшое вспомоществование в возмещение чести, утраченной ею не без твоего участия!
– Боже правый! – вскричал потрясенный Вивальди, не веря собственным ушам. – Возмещение чести? – Голос его замер. – Кто же осмелился запятнать ее чистейшее имя и оскорбить ваш слух столь бесстыдной ложью? Укажите мне, заклинаю вас, укажите мне имя подлого клеветника, и поскорее, дабы я мог поспешить с воздаянием. Утрата чести! Вспомоществование! О Эллена, Эллена!
Слезы негодования смешались у Винченцио со слезами нежности, едва он произнес имя возлюбленной.
– Юноша! – холодно произнес маркиз, наблюдавший столь бурное проявление чувств со стороны сына с глубоким неудовольствием и тревогой. – Я отнюдь не страдаю легковерием и не допускаю сомнений относительно истинности своих слов. Ты введен в обман – и из пустого тщеславия будешь упорствовать в своем заблуждении, пока я не сочту нужным употребить власть, дабы снять с твоих глаз пелену. Порви с этой особой немедля, и я приведу такие свидетельства о ее прошлом, перед которыми не устоит даже твоя восторженная преданность.
– Порвать с ней? – переспросил Винченцио с такой спокойной и строгой твердостью, какой отец никогда раньше за ним не знал. – Милорд, доныне вы еще не имели случая сомневаться в моих словах. Честью ручаюсь вам, что Эллена невинна. Невинна! О Небо, отчего мне ниспослано подобное испытание – зачем нужно утверждать ее невинность, зачем возникла необходимость защищать ее?
– Воистину мне остается только сокрушаться об этом, – холодно отозвался маркиз. – Ты дал слово чести – и подвергать его сомнению я не собираюсь. Твое поведение убеждает меня в том, что ты обманут: ты называешь эту особу добродетельной, несмотря на свои ночные к ней визиты. Но предположим, она и в самом деле невинна, несчастный юнец! Как возместишь ты ущерб, нанесенный ее девическому достоинству, чем загладишь последствия своего сумасбродства? Каким образом…
– Тем, что провозглашу Эллену перед Богом и людьми моей нареченной супругой, – перебил отца Вивальди в безоглядно отважном порыве торжествующего благородства.
– Супругой? – переспросил маркиз с нескрываемым презрением, тут же сменившимся тревогой и негодованием. – Если бы я мог поверить, что ты и вправду настолько чураешься понятия семейной чести, я тотчас же и навсегда перестал бы считать тебя своим сыном.
– О, почему, – вскричал Вивальди, раздираемый борением противоречивых чувств, – о, почему должна грозить мне опасность нарушить сыновний долг только из-за того, что я защищаю права невинного создания, не имеющего в целом свете других заступников, кроме меня! Почему не дарована мне отрада примирить обязанности, столь родственные меж собой? Будь что будет, но я сделаюсь оплотом души гонимой и угнетаемой, на что подвигает меня внутреннее чувство справедливости, ибо первейший долг человеколюбия – готовность помогать униженным. О да, милорд, если уж мне не дано избежать приговора судьбы, то я пожертвую менее важными обязанностями ради величия принципа, который должен вдохновлять все сердца и все поступки. Следуя этому принципу, я наилучшим образом послужу чести нашего дома.
– Учит ли этот принцип, – нетерпеливо перебил маркиз, – не повиноваться отцу; существует ли добродетель, согласно которой похвально унизить собственный род?
– Унизить собственный род можно только греховными деяниями! – с жаром воскликнул Вивальди. – И простите меня, но известны примеры, когда добродетель заключается именно в ослушании.
– Эти моральные парадоксы, – ответствовал маркиз с видом величайшего неудовольствия, – и эти романтические рацеи красноречиво рисуют мне нравственный склад твоих друзей и как нельзя лучше изображают неискушенность той самой особы, репутацию которой ты обороняешь с подлинно рыцарским пылом. Отдаете ли вы себе отчет, юный синьор, в том, что не ваше семейство принадлежит вам, а вы – ему, сознаете ли, что ваше призвание в том, чтобы стоять на страже фамильной чести; понимаете ли, что вы отнюдь не вправе распоряжаться собой по собственной прихоти? Довольно, моему терпению положен предел!
Вивальди также явно недоставало смирения хладнокровно снести новый выпад против чести Эллены. Однако, защищая ее невинность, он старался всячески сдерживать себя, как и подобает сыну в присутствии отца; отстаивая независимость своего человеческого достоинства, он не менее заботился о том, чтобы не изменить своему сыновнему долгу. К несчастью, маркиз и Винченцио расходились во мнениях относительно прав обеих сторон; маркиз не принимал ничего, кроме безропотной покорности отцовской воле; Винченцио же полагал, что сыновья должны иметь свободу выбора там, где это ближе всего касается их счастья, а именно в вопросе брака. Отец и сын расстались взаимно раздраженными: Винченцио досадовал на то, что не в состоянии был узнать имя бесстыдного наветчика и обелить оклеветанную девушку; маркиз же гневался из-за отказа Вивальди дать обещание никогда более не искать встреч с Элленой.
И вот в каком положении оказался вдруг юноша: еще совсем недавно вознесенный к блаженству столь безграничному, что оно изгладило из его памяти все горестные воспоминания прошлого и заставило забыть о тревогах грядущего; еще совсем недавно преисполненный ликованием, которое, как казалось, отнимало всякую вероятность нового глотка из чаши бедствий, – он, полагавший, будто мгновение счастья продлится целую вечность и принесет ему полную независимость, вдруг ни с того ни с сего попал в мучительные тиски враждебных, изменчивых обстоятельств.
Вивальди не видел средства разрешить охватившее его душу противоборство страстей; он любил своего отца, и опасение огорчить маркиза угнетало бы его неизмеримо более, если бы тот не отнесся со столь откровенным пренебрежением к Эллене. Эллену Винченцио обожал; даже не помышляя о том, чтобы отступиться от своих надежд, он также был возмущен низменным поклепом, задевавшим ее имя, и одержим желанием отомстить гнусному клеветнику.
Хотя Винченцио не мог не предвидеть возражений со стороны отца против своего предполагаемого брака с Элленой, гнев маркиза оказался для него более тяжким испытанием, нежели он предполагал; унижение Эллены, напротив, было столь же нестерпимым, сколь неожиданным. Но данное обстоятельство служило лишь дополнительным поводом для обращения к Эллене; ибо если любовь его могла медлить, то честь побуждала к немедленному действию; поскольку Винченцио стал причиной очернения ее репутации, он полагал теперь своим долгом восстановить доброе имя девушки. Охотно прислушиваясь к велениям долга, представлявшегося ему очевидным, он решил ни на йоту не уклоняться от своего первоначального замысла. Прежде всего юноша почел необходимым установить личность обидчика; не без удивления припомнил он слова маркиза, свидетельствовавшие о его осведомленности относительно ночных визитов на виллу Альтьери, и, как ему казалось, нашел в них объяснение двусмысленных предостережений монаха. Винченцио предположил было, что он и шпион и клеветник в одном лице, однако несовместимость подобного поведения с попыткой предостеречь юношу от бед, свидетельствовавшей, по-видимому, о дружественности намерений, вынудила Вивальди отринуть это предположение.
Между тем в сердце Эллены было не больше покоя, чем в его сердце. Попеременно брали в нем верх то любовь, то гордость; стань ей известно содержание недавнего разговора Винченцио с отцом – всем ее колебаниям тотчас же был бы положен конец; чувство собственного достоинства побудило бы ее немедля и без особого труда искоренить едва зародившуюся привязанность.
Синьора Бьянки уведомила племянницу о причинах визита Вивальди, смягчив, однако, некоторые неблагоприятные для его предложения обстоятельства; поначалу она только намекнула на возможное неодобрение знатным семейством союза, до такой степени неравного. Встревоженная этим предположением, Эллена всецело одобрила решение тетушки ответить юноше, в силу указанного препятствия, отказом; однако от чуткого слуха почтенной синьоры не укрылся вздох, которым Эллена сопроводила свои слова, и тогда синьора Бьянки рискнула добавить, что хотя она и отвергла притязания юноши, но отнюдь не бесповоротно.
В беседах с тетушкой Эллена с радостью убеждалась в том, что та недвусмысленно одобряет ее тайное увлечение: ей хотелось верить, что задевавшее ее гордость неравенство семей в действительности не столь унизительно, как поначалу ей представилось. Синьора Бьянки, со своей стороны, старалась скрыть от племянницы истинные побуждения, склонявшие ее благоволить Вивальди; она ничуть не сомневалась, что таковые не могут иметь ни малейшего значения для Эллены, ибо ее чистая, возвышенная душа восстала бы против вторжения любых меркантильных расчетов в священную область супружества. Поразмыслив основательнее над теми преимуществами, какие сулил племяннице предполагаемый союз, синьора Бьянки склонилась к намерению поощрить действия юноши и соответственно настроить Эллену; однако она нашла племянницу менее податливой, чем ожидала. Эллену ужаснуло само предположение о том, что она способна тайно вступить в семейство Вивальди. Тем не менее синьора Бьянки, побуждаемая возраставшей телесной немощью, твердо уверилась в благоразумности своего плана – добиться обручения влюбленных – и вознамерилась преодолеть нерешительность Эллены, но действовать при этом с большой осторожностью и осмотрительностью. В тот вечер, когда Вивальди нечаянно подслушал сорвавшееся с уст девушки признание, смятение и досада Эллены, ее взволнованный рассказ о случившемся достаточно ясно показали синьоре Бьянки истинное состояние ее сердца. А когда на следующее утро им было доставлено письмо Винченцио, каждое слово которого дышало безыскусной искренностью и силой чувства, тетушка, со свойственной ей ловкостью, не преминула сообразовать свои замечания по этому поводу с характером и склонностями Эллены.
Расставшись с маркизом, Винченцио весь день ломал голову над различными способами, которые помогли бы ему обнаружить лицо, злоупотребившее доверием его отца; вечером же он вновь посетил виллу Альтьери, но не тайно, дабы под покровом ночи пропеть серенаду возлюбленной, а совершенно открыто – чтобы переговорить с синьорой Бьянки; на этот раз она оказала юноше несравненно более любезный прием, нежели в прошлый его визит. Приписав беспокойство, проявляемое Винченцио, неизвестности, в которой тот пребывал относительно расположения к нему Эллены, синьора Бьянки не выказала ни удивления, ни неудовольствия, но решилась утешить его обнадеживающими речами. Вивальди более всего страшился расспросов о том, как была воспринята новость его семейством, однако синьора Бьянки из деликатности обошла эту тему молчанием. После довольно продолжительной беседы юноша покинул виллу с чувством некоторого облегчения и надежды, хотя повидаться с Элленой ему и не удалось. После того, как Эллена выдала накануне свои чувства к Винченцио, и после того, как услышала намеки об отношении его семьи к ней, – она не решилась на встречу с юношей.
По возвращении в Неаполь Винченцио был призван в апартаменты маркизы, неожиданно оказавшейся свободной от светских обязанностей; происшедшая сцена почти в точности повторила ту, что разыгралась между отцом и сыном; правда, маркиза вела себя более тонко и учинила Винченцио допрос гораздо более изощренный; он, в свою очередь, нимало не отступил от почтительности, предписываемой сыновним долгом. Маркиза, искусно умерив волнение сына притворной снисходительностью к его пылкости, легко ввела его в заблуждение мнимым хладнокровием по отношению к его матримониальным планам, тогда как на самом деле была вне себя от сделанного им выбора; напускное благодушие маркизы объяснялось только тем, что, в отличие от супруга, она больше надеялась отвратить неугодное ей событие.
Винченцио расстался с матерью, не поколебленный ни одним из ее доводов; он не дрогнул перед ее предреканиями и отказался переменить свои намерения. Тревоги он не испытывал потому, что недостаточно хорошо знал характер маркизы. Отчаявшись достичь цели путем прямого принуждения, маркиза обратилась за содействием к помощнику, обладавшему далеко не заурядными способностями, а также нравом и взглядами, позволявшими ему стать орудием в ее руках. Проникнуть в истинную сущность этого человека маркиза сумела вовсе не потому, что ей свойственны были глубина мысли и острота ума, – нет, только благодаря низости собственного сердца она решила использовать его в своих целях.
В доминиканском монастыре Спирито-Санто, в Неаполе, обретался некий отец Скедони – судя по имени, итальянец, однако происхождение его было неизвестно, и очень многое свидетельствовало о том, что сам он желал окутать свое прошлое непроницаемым покровом тайны. Какими бы соображениями он ни руководствовался, но никто никогда не слышал, чтобы отец Скедони упоминал родственников или место своего рождения, – напротив, он необыкновенно искусно уходил от ответа на подобные расспросы любопытствующих собратьев. Некоторые обстоятельства, однако, указывали на его былое богатство и принадлежность к знатной семье; сквозь усвоенное им бесстрастие манер прорывалась изредка недюжинная одухотворенность, движимая, однако, не столько возвышенными порывами, сколько мрачной гордыней разочарованной души. Иные из тех, кого занимали особенности его повадки, суровая сдержанность и неодолимая молчаливость, склонность к уединению и частые покаяния, полагали все эти свойства следствием прошлых несчастий, до сих пор гнетущих надменный, но сломленный дух; другие же приписывали отцу Скедони какое-то чудовищное преступление, память о котором неотступно терзает пробудившуюся в нем совесть.
Подчас Скедони несколько дней кряду избегал всякого общества; если же, будучи в таком настроении, он по необходимости должен был присутствовать среди братии, то, погруженный в глубокую задумчивость, казалось, не сознавал, где находится. Порой, хотя за каждым взглядом его следили, он исчезал неведомо куда – и обнаружить его нигде не удавалось, несмотря на самые усердные розыски. Никто никогда не слышал от него ни единой жалобы. Старейшины монастыря признавали за ним дарования, но отказывали ему в учености; они хвалили его за тонкость, которую он проявлял в спорах, однако замечали, что он редко улавливал очевидное; он мог следовать за истиной по всем лабиринтам сложнейших изысков, но пренебрегал ею, когда она представала перед ним в безыскусной наготе. Истины Скедони, по существу, и не искал, как не искал ее в открытом и безбоязненном споре; ему нравилось упражнять изощренность своей натуры в погоне за мыслью среди хитросплетения различных уловок. В итоге под воздействием привычных изворотливости и подозрительности порочный ум Скедони не мог усмотреть истину в простом и понятном.


