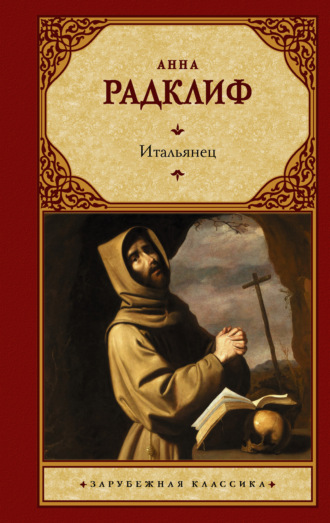
Анна Радклиф
Итальянец, или Исповедальня Кающихся, Облаченных в Черное
– В нареканиях аббатисы была и доля справедливости! – воскликнула Эллена. – Я с полным основанием навлекла на себя кару, поскольку позволила себе, пусть лишь на миг, унизиться до желания вступить в брачный союз, заведомо, как я знала, вызывающий неодобрение. Но еще не поздно восстановить уважение к себе, утвердив собственную независимость, – и навсегда отринуть Вивальди. Отринуть Вивальди! Отказаться от того, кто любит меня всем сердцем? Обречь его на страдания? Сделать несчастным того, от одной мысли о ком к глазам моим подступают слезы и кому я дала обет верности? Пожертвовать избранником, могущим потребовать исполнения этого обета, воззвав к священной памяти о моей покойной тетушке? Порвать с тем, к кому я привязана всей душой? О злополучный выбор! – ибо я могу поступить благородно только ценою счастья всей моей жизни! Благородно? Можно ли назвать благородным поступок, если придется покинуть человека, готового отдать ради меня все на свете, и ввергнуть его в пучину горя, лишь бы только угодить предрассудкам родовитой фамилии?
Бедная Эллена понимала, что не в состоянии подчиниться диктату справедливо возмущенной гордости, ибо слишком бурно протестовало ее сердце, и подобного разлада в собственной душе она еще никогда не испытывала. Горячая привязанность не позволяла ей действовать с твердостью, которая обрекла бы ее на долгие страдания. Мысль о разрыве с Вивальди представлялась Эллене совершенно непереносимой, однако, стоило ей только вспомнить о его семье, ей казалось, что она никогда не согласится войти в нее. Эллена порицала бы и синьору Бьянки за недальновидность (ведь увещевания тетушки во многом способствовали нынешнему ее затруднению), однако нежность, которую она питала к ее светлой памяти, исключала такое отношение. Ей оставалось только безропотно сносить тяготы, противостоять которым было невозможно: и отказ от Вивальди ценой обретения свободы, буде ей предложили бы свободу на этом условии; и согласие соединиться с ним, презрев соображения гордости, если бы Винченцио вызволил ее из стен монастыря, – обе эти возможности представлялись смятенному уму Эллены одинаково неприемлемыми. Но когда Эллена подумала о том, что Вивальди, быть может, никогда не удастся обнаружить ее обиталище, сердце ее так мучительно сжалось, что она поняла: она гораздо больше боится утратить суженого, чем принять его предложение; любовь, стало быть, безраздельно господствует над всеми другими ее побуждениями.
Глава 7
Едва пробило час!
Шекспир У., Гамлет
Вивальди меж тем, нимало не подозревая о событиях, разыгравшихся на вилле Альтьери, направился, как и задумал, к крепости Палуцци в сопровождении своего слуги Пауло. Город они покинули глубокой ночью; дабы оставаться незамеченным, Винченцио не позволил Пауло зажечь взятый с собой факел; ему хотелось выждать некоторое время возле арки с целью подкараулить таинственного советчика, а уж затем тщательно обыскать всю крепость.
Спутник Винченцио был истинным неаполитанцем – приметливым, ловким, неуемно пытливым, сообразительным малым: склонность к интриге сочеталась у него с незаурядным чувством юмора, проявлявшимся не столько в речах, сколько в повадках и в выражении лица, в лукавости его черных проницательных глаз, в полнейшем соответствии его мыслей и жестикуляции. Он был явным любимцем своего хозяина; по внутреннему складу не расположенный к юмору, но в высшей степени наделенный остроумием, Винченцио умел по достоинству ценить в других юмор и жизнерадостность. Вивальди покорила веселая naïveté[4] молодого слуги, и в разговорах с ним он допускал непривычную для себя общительность; теперь, на пути к развалинам, он коротко поведал Пауло о недавнем своем приключении все, что почел необходимым для того, чтобы разжечь в нем любопытство и пробудить его бдительность. Рассказ возымел нужное действие. Пауло, неустрашимый от природы, скептически относился ко всякого рода суевериям; догадавшись тотчас же, что хозяин отнюдь не исключает сверхъестественных причин загадочных столкновений в крепости, он принялся слегка, на свой лад, над ним подтрунивать; однако Вивальди было вовсе не до шуток: суровое, даже мрачное настроение побуждало его временами предаваться некой волшебной власти, сковывавшей все его способности и заставлявшей замирать в напряженном ожидании. Винченцио уже и не помышлял почти о средствах защиты против врагов из плоти и крови, тогда как Пауло только о них и думал – и вполне разумно указывал на рискованность похода в Палуцци в столь поздний час. Вивальди возразил, что выследить монаха можно только под покровом тьмы: пылающий факел отпугнет его; имеются вдобавок веские основания для того, чтобы понаблюдать за ним, прежде чем расследовать его действия. По прошествии определенного времени, добавил Вивальди, факел можно будет зажечь в близлежащей хижине. Пауло возразил, что тогда преследуемый сумеет от них ускользнуть, и Вивальди пришлось пойти на уступку. Зажженный факел поместили в расселине между скалами, ограждавшими дорогу, а сами наблюдатели укрылись в густой тени под высокой аркой – поблизости от той ниши, где Вивальди нес стражу вдвоем с Бонармо. Едва только они успели это сделать, как издалека донеслись удары колокола, возвещавшие о наступлении полуночи. В памяти Вивальди всплыли слова Скедони о том, что монастырь кающихся, облаченных в черное находится от Палуцци в непосредственной близости, и он осведомился у Пауло, не из этой ли обители доносится до них звон. Пауло отвечал утвердительно и прибавил, что весьма примечательные обстоятельства никогда не дадут ему забыть храма Санта дель Пьянто.
– Этот монастырь, синьор, наверняка вас заинтересует, – сказал Пауло. – О нем рассказывают уйму диковинных историй. Я склонен думать, что наш монах принадлежит к тому самому братству: поведение его слишком уж странно.
– По-твоему, я склонен принимать на веру всякую небывальщину? – с улыбкой спросил Вивальди. – Что именно тебе известно необычного касательно этого монастыря? Говори тихо, а не то нас услышат.
– Видите ли, синьор, история эта мало кому знакома, – прошептал Пауло. – Вообще-то я давал слово молчать о ней.
– Если ты связан обещанием, – перебил его Вивальди, – я запрещаю тебе рассказывать эту удивительную историю, хотя, сдается мне, она так велика, что едва помещается у тебя в голове.
– Ей без труда подыщется место и в вашей, синьор, – откликнулся Пауло. – Я давал слово, но не давал клятвы – и потому охотно поделюсь услышанным с вами.
– Тогда начинай, только смотри говори возможно тише.
– Повинуюсь, синьор… Знайте же, что это случилось в канун праздника Святого Марка, тому назад лет шесть…
– Постой! – прервал его Вивальди.
Оба умолкли, вслушиваясь в тишину, но, так как всюду царило безмолвие, Пауло решился продолжить повествование, еще более понизив голос:
– Это случилось в канун Святого Марка, и, как только ударил последний колокол, один человек… – Тут Пауло вновь запнулся, ибо рядом с ним послышался шорох.
– Ты опоздал! – внезапно произнес голос, и Вивальди тотчас же узнал внушавшую трепет речь монаха. – Полночь минула, ее нет уже больше часа. Остерегись!
Пораженный знакомым голосом, Вивальди не сразу совладал с растерянностью; обуздав желание крикнуть: «Кого больше нет?» – он ринулся вперед – удержать незваного гостя; Пауло же, встрепенувшись при первых признаках тревоги, выстрелил наугад из пистолета, а затем поспешил за факелом. Вивальди, не питая ни малейшего сомнения в том, что оказался вплотную с невидимым преследователем, порывисто раскинул руки в надежде схватить противника, но тщетно: он всюду натыкался только на пустоту. Непроницаемая мгла вновь сыграла с ним злую шутку.
– Ты разоблачен! – вскрикнул Вивальди. – Мы встретимся в храме Санта дель Пьянто! Что такое? О! Пауло, Пауло, – факел, скорее сюда факел!
Пауло подскочил с быстротой молнии.
– Он поднялся вверх вон по тем выступам в скале, синьор; я видел полы его одеяния!
– Следуй за мной! – приказал Вивальди, взбираясь по стертым ступеням.
– Вперед, вперед, синьор! – нетерпеливо подбадривал его Пауло. – Бога ради, не упоминайте только церковь Санта дель Пьянто, а не то мы поплатимся за это жизнью.
Пауло последовал за Вивальди к небольшой площадке, где тот, держа факел высоко над головой, оглядывался вокруг в поисках монаха. Окрест, в пределах, доступных глазу, царили запустение и тишина. Отблески пламени освещали лишь выщербленные стены цитадели, острые обломки скал внизу и вершины раскидистых сосен над ними; прочие развалины тонули в непроглядном мраке, а выше, за скалами, чернела непроходимая чаща.
– Ты видишь кого-нибудь, Пауло? – спросил Вивальди, размахивая факелом в воздухе, чтобы пламя разгорелось ярче.
– Мне почудилось, синьор, будто через сводчатые проходы по левую сторону от крепости мелькнула какая-то смутная фигура. Судя по его молчанию, он, как я понимаю, наверное, призрак; но, похоже, чутья, как спасаться бегством, этому призраку у смертных не занимать; помчался он опрометью – только пятки засверкали, этак впору удирать любому прокаженному в Неаполе.
– Меньше слов, больше осмотрительности! – сказал Вивальди, указывая факелом в том направлении, о котором говорил Пауло. – Будь осторожен; иди тихо.
– Повинуюсь, синьор, но, если мы будем освещать собственные следы, нашим преследователям вполне хватит глаз, даже если им откажут уши.
– Тише, довольно паясничать! – строго оборвал слугу Вивальди. – Иди за мной молча и будь настороже.
Пауло послушно двинулся вслед за Вивальди к веренице арок, соединенной со строением, необычность которого привлекла ранее внимание Бонармо: именно оттуда и сам Вивальди однажды вернулся с неожиданной поспешностью, чем-то потрясенный.
Поняв, к какому зданию он подходит, Вивальди вдруг остановился; Пауло, подметивший его волнение и, по-видимому, не слишком жаждавший подвигов, попытался отговорить хозяина от дальнейших розысков:
– Бог весть кто ютится в этом зловещем месте, синьор; быть может, разбойников там хоть пруд пруди, а нас-то всего-навсего двое! К тому же, синьор, вон через ту дверь, – и он указал как раз на тот выход, из которого некогда появился устрашенный Вивальди, – именно там, мне померещилось, что-то только-только прошло мимо.
– Ты уверен в этом? – возбужденно спросил Вивальди. – А каковы были его очертания?
– Здесь так сумрачно, синьор, что мне ничего не удалось разглядеть.
Вивальди не отрывал глаз от сооружения, и душу его сотрясали самые противоречивые чувства. Недолго думая, он решился.
– Я пойду вперед, – проговорил он, – и покончу любой ценой с неизвестностью, которую не в силах долее терпеть. Пауло, задержись на минуту и взвесь основательно, готов ли ты положиться на свою храбрость – ведь она может подвергнуться суровому испытанию. Если готов – молча следуй за мной, и советую тебе держать ухо востро; если раздумаешь – я пойду один.
– Мне уже слишком поздно, синьор, задаваться подобным вопросом, – ответствовал Пауло со смиренным видом. – Я решил его давным-давно, а иначе не пошел бы за вами так далеко. Раньше, синьор, вы никогда не ставили под сомнение мою храбрость.
– Тогда идем! – скомандовал Вивальди, обнажив меч, и они вступили в узкий проем. Факел, который держал теперь Пауло, слабо осветил казавшийся нескончаемым каменный коридор.
На ходу Пауло заметил, что стены кое-где покрыты пятнами, напоминавшими кровь, но предусмотрительно не поделился своими наблюдениями с хозяином, памятуя строжайший его наказ блюсти полное молчание.
Вивальди ступал осторожно и часто останавливался, вслушивался и затем ускорял шаг, знаками призывая Пауло следовать за ним и хранить бдительность. Коридор упирался в начало лестницы, которая вела, очевидно, к расположенным внизу сводам; Вивальди вспомнился мелькнувший там свет, и впечатление от пережитого тогда заставило его остановиться в нерешительности.
Немного помедлив, Вивальди оглянулся на Пауло – и не успел шагнуть дальше, как тот схватил его за руку.
– Стойте, синьор, – проговорил он приглушенным голосом. – Неужели вы не замечаете фигуры, которая стоит вон там, во тьме?
Вивальди вгляделся туда, куда показывал Пауло, и различил что-то напоминавшее человеческую фигуру, но застывшее в неподвижном безмолвии в темном проходе возле лестницы. Одеяние на ней, если только это было одеяние, казалось черным, однако сама фигура вырисовывалась настолько смутно, что невозможно было определить, принадлежит ли она монаху. Вивальди взял у Пауло факел и вытянул руку вперед, желая на расстоянии пристально всмотреться в загадочное явление, прежде чем двигаться дальше; попытка не удалась – и, возвратив факел Пауло, Вивальди устремился вперед. Но только он достиг начала лестницы, как призрак – или что бы это ни было – исчез бесследно. Пауло точно показал, где стояла фигура, но никаких следов ее присутствия обнаружить не удалось. Вивальди громко окликнул монаха, но услышал в ответ только отголоски эха, стихавшие под просторными сводами; поколебавшись с минуту, он стал спускаться вниз.
Пауло сошел вслед за хозяином лишь на несколько ступеней – и вдруг воскликнул:
– Он здесь! Синьор, я снова его вижу: он ускользнул через дверь, ведущую под своды!
Вивальди шагал вперед столь стремительно, что Пауло, с факелом в руке, едва за ним поспевал; наконец юноша остановился перевести дыхание – и вдруг сообразил, что находится в той же самой просторной комнате, куда ранее спускался по лестнице. Пауло, взглянув на хозяина, увидел, как сильно он изменился в лице.
– Вы больны, синьор? – вскричал слуга. – Во имя святого нашего покровителя, покинем это место. От здешних обитателей добра не жди, и, если мы туг застрянем, ничего хорошего из этого не выйдет.
Вивальди молчал: дыхание давалось ему с трудом, глаза были опущены…
В это мгновение из дальнего угла послышался скрип, похожий на то, как если бы с трудом открывалась тяжелая дверь на заржавленных петлях. Пауло резко обернулся, и оба увидели, как дверь в стене медленно отворилась, а потом тотчас захлопнулась, словно кто-то страшился быть обнаруженным. Бросив на него беглый взгляд, оба подумали, что перед ними та самая фигура, которая стояла у лестницы, и что это не кто иной, как сам монах. Подбодренный этой верой, Вивальди, мгновенно овладев собой, метнулся к двери, которая оказалась незапертой и легко уступила его нетерпеливому напору.
– Теперь ты меня не одурачишь! – вскричал Винченцио, врываясь внутрь. – Пауло, посторожи у входа!
Вивальди окинул взором другой склеп, в котором теперь находился, но всюду было пусто; он тщательно исследовал каждую пядь пространства – в особенности стены, однако нигде не нашел ни малейшей трещины или щели (не говоря уже о дверях или окнах), через которую мог удалиться злоумышленник; единственно под потолком имелось крошечное зарешеченное окошко, пропускавшее слабый свет и воздух. Вивальди был изумлен.
– Мимо тебя проскользнул кто-нибудь? – обратился он к Пауло.
– Нет, maestro!
– Просто невероятно! – воскликнул Вивальди. – Нет, этот монах не может принадлежать роду человеческому!
– Если это так, синьор, – возразил Пауло, – с чего бы ему нас бояться? А ведь он перед нами робеет, иначе с какой стати он от нас убегает?
– Сказать наверняка нельзя, – заметил Винченцио. – Быть может, он заманивает нас в ловушку. Дай-ка сюда факел: здесь в стене есть подозрительная выемка.
Пауло поднес факел поближе, но возбудившее их любопытство углубление, походившее на дверной створ, оказалось простой неровностью.
– Непостижимо! – воскликнул Вивальди после долгой паузы. – Зачем нужно человеческому существу так терзать меня?
– А зачем это нужно существу сверхчеловеческому, мой синьор?
– Меня предупреждают о грозящих мне бедствиях, – задумчиво продолжал Вивальди, – о предстоящих событиях, которые неизменно сбываются; тот, кто предупреждает меня, постоянно встречается мне на пути – и с дьявольской ловкостью ускользает из моих рук, делая погоню бесполезной! Непостижимо, каким образом удается ему сгинуть с глаз, словно бы раствориться в воздухе, при моем приближении! Он неустанно является моему взору, однако настигнуть его невозможно.
– Справедливо, синьор, – отозвался Пауло, – настигнуть его невозможно, а посему умоляю вас отказаться от поисков. Эти места таковы, что поневоле поверишь в ужасы чистилища! Идемте отсюда, синьор.
– Только дух мог исчезнуть из склепа столь таинственным образом, – пробормотал Вивальди, не слушая Пауло, – только бестелесный дух…
– Я не прочь был бы доказать, что тело способно покинуть этот склеп с неменьшей легкостью, – заявил слуга, – и сам охотно просочился бы через эту дверь.
Не успел он договорить, как наружная дверь захлопнулась с оглушительным грохотом, эхо от которого прокатилось по всему зданию; Вивальди и Пауло в ужасе замерли на месте, но туг же, опомнившись, поспешили к выходу, желая поскорее открыть дверь и уйти. Легко вообразить охватившее их отчаяние, когда оказалось, что дверь не поддается никаким усилиям. Массивные деревянные доски скреплялись неодолимо прочными железными болтами: дверь служила, очевидно, для охраны тюрьмы или темницы старинной крепости.
– Ah, signor mio![5] – вздохнул Пауло. – Если этот монах и был бесплотен, то насчет нас явно не сомневался в обратном, раз уж заманил сюда… Вот бы обменяться с ним природным составом хоть на секундочку; не могу взять в толк, как нам, смертным, выкарабкаться из этой западни. Согласитесь, maestro, что о таком вот злоключении монах вас не предупреждал, разве только через мое посредство: ведь заклинал же я вас…
– Уймитесь, милейший синьор buffo![6] – вскричал Вивальди. – Хватит молоть вздор: нам надо вместе искать пути к спасению.
Вивальди вновь – и столь же безуспешно – исследовал стены, зато в углу наткнулся на предмет, бывший, казалось, наглядным свидетельством того, какая участь постигала здешних узников и предназначалась, вероятно, им самим: там лежало одеяние, запятнанное кровью. Вивальди и Пауло обнаружили его одновременно – и жуткое предчувствие собственной участи пригвоздило их к месту. Вивальди опомнился первым: он не впал в отчаяние, а, напротив, призвал на выручку все свои способности, дабы придумать способ освободиться; Пауло же, похоронив все надежды на избавление, не в силах был отвести глаз от чудовищной находки.
– Ах, синьор! – вымолвил он наконец прерывавшимся голосом. – Кто осмелится приподнять край этого покрова? Что, если под ним покоится изуродованное тело, запятнавшее его своей кровью?
Вивальди не без содрогания вгляделся в находку.
– Оно движется! – завопил Пауло. – Я вижу, как оно движется!
С этими словами он отскочил в дальний угол комнаты. Вивальди отступил на несколько шагов, однако тут же вернулся на прежнее место; твердо вознамерившись узнать правду безотлагательно, он приподнял ткань за край острием меча: под нею лежала беспорядочно нагроможденная груда одежды, даже пол был запятнан кровью.
Не сомневаясь, что страх застил глаза Пауло, Вивальди некоторое время хладнокровно наблюдал представшее его взору страшное зрелище и вскоре убедился, что под окровавленными лохмотьями признаков жизни нет: скорее всего, здесь была только одежда, принадлежавшая несчастному, которого заманили в ловушку с целью грабежа, а потом прикончили. Утвердившись в этом мнении и брезгливо отвернувшись от этого зрелища, Вивальди отошел в дальнюю часть склепа; и для себя, и для своего слуги он с отчаянием ожидал теперь самого худшего. Похоже было на то, что их завлекли в ловушку разбойники; однако, поразмыслив над обстоятельствами пленения и припомнив разные подробности того, как они попали в склеп, Вивальди отверг эту догадку как в высшей степени неправдоподобную. Трудно было предположить, что грабители стали бы тратить время на всякие уловки, вместо того чтобы учинить над ними расправу с самого начала; еще невероятнее, что они так долго оттягивали бы осуществление своего плана, а самое главное – Винченцио уже ранее был совершенно в их власти, однако они пренебрегли удобным случаем и позволили ему покинуть развалины целым и невредимым. Все это казалось крайне сомнительным, хотя нельзя было исключить и такую возможность; но торжественные предостережения и предсказания монаха, многократно повторенные и всегда точно сбывавшиеся, никак не могли иметь даже отдаленной связи с бандитскими замыслами каких-нибудь головорезов. Отсюда явствовало, что захвачены они отнюдь не грабителями, а если даже допустить, что они именно в их власти, то монах с ними никак не связан; и все же голос монаха, бесспорно, только что звучал под сводами арки; и, по словам Пауло, некто в монашеском облачении поднимался по крепостной лестнице; у обоих, кроме того, имелись веские основания полагать, что позже именно неясная фигура монаха, ими преследуемого, привела их в этот склеп, где они оказались в заточении.
По мере того как Вивальди взвешивал перечисленные обстоятельства, тревога его заметно возрастала и он все более начинал склоняться к убеждению, что фантом, принявший облик монаха, имел сверхъестественную природу.
«Если бы это видение являлось – и только, – рассуждал Вивальди, – я, наверное, счел бы его беспокойным духом несчастного (безусловно, убитого в этом подвале); я решил бы, что призрак привел меня сюда, чтобы деяние стало известно, а кости жертвы предали освященной земле; но ведь монах – или кем бы он там ни был – не молчал и пекся отнюдь не о себе: его заботили события, сопряженные с моим благополучием; он предрекал будущее и ссылался на прошлое! Если бы он заговорил о себе или даже не проронил ни слова, его облик, способность ускользать от преследования настолько выходят за рамки обычного, что я принял бы, возможно, на веру предания наших предков и посчитал его тенью убитого».
Борясь с сомнениями, Вивальди вновь решился посмотреть на кровавое одеяние; подняв его, он вдруг обнаружил не замеченную им ранее черную ткань, лежавшую вместе с прочим тряпьем; подцепив ее мечом, он различил в ней часть монашеского одеяния! Это открытие заставило его вздрогнуть и отшатнуться, как от видения, столь упорно испытывавшего его доверчивость. Здесь были пояс и наплечник – разодранные, с пятнами крови! Вглядевшись в находку, Вивальди уронил ее на общую груду; безмолвно следивший за ним Пауло воскликнул:
– Синьор, это, должно быть, одеяние того самого демона, который завлек нас сюда! Или же это саван для нас, maestro? А может, оно было предназначено для тела, в которое он вселялся, когда обитал на земле?
– Ни то ни другое, надеюсь, – пробормотал Вивальди, стараясь побороть внутреннее смятение и отворачиваясь. – Поэтому давай еще раз попробуем выбраться на волю.
Обретение свободы, однако, оказалось задачей неосуществимой; Вивальди снова и снова обрушивался всей тяжестью на неприступную дверь; поднимал Пауло, чтобы тот мог дотянуться до зарешеченного оконца под потолком; громко звал на помощь, напрягая голос, в чем весьма умело пособлял ему слуга; исчерпав наконец все средства, отчаявшийся Вивальди в полном изнеможении растянулся на каменном полу темницы.
Пауло горько сокрушался над безрассудной опрометчивостью хозяина, подстрекнувшей его вторгнуться в богом забытое место, и оплакивал предстоявшую им голодную смерть:
– О синьор, если нас даже и не заманили сюда, чтобы убить и обобрать, если даже нас не окружают враждебные духи (святой Януарий да не позволит мне сказать, что я не верю в это!) – предположим, что все обстоит именно так, синьор, но ведь смерти от голода нам вряд ли удастся избежать: да и какой прохожий услышит наши крики в таком глухом месте, можно сказать в подземелье?
– Утешать ты настоящий мастер, – со стоном выдавил из себя Вивальди.
– А вы, синьор, должны сознаться, что мы с вами квиты, – ответил Пауло. – Никто не умеет указывать дорогу лучше вас.
Вивальди ничего не ответил; он лежал, простертый недвижно, предаваясь мучительным раздумьям. Теперь он имел время всерьез вникнуть в последние произнесенные монахом слова; будучи настроен на самые мрачные предположения, он вообразил, будто они относятся к Эллене, а фраза «Ее нет уже больше часа» – иносказательный способ оповестить о ее кончине. От подобной мысли все заботы о собственном спасении разом вылетели у юноши из головы. Он вскочил на ноги и принялся мерить узилище из угла в угол неровными шагами; от недавней гнетущей беспросветности не осталось и следа; жгучая тревога переворачивала все его существо; терзаемый неизвестностью относительно судьбы Эллены, Вивальди претерпевал муки нетерпения и ужаса. Чем больше он думал о возможной гибели Эллены, тем вероятнее она ему казалась. Монах уже предсказал однажды смерть синьоры Бьянки; при воспоминании о подозрительных обстоятельствах, сопутствовавших этому печальному событию, страхи за Эллену охватили Вивальди с еще большей силой. Не в состоянии укротить бушевавшее в его груди волнение, Вивальди чувствовал, что сердце у него вот-вот разорвется на куски.
При виде горьких терзаний хозяина Пауло, позабыв, пусть и ненадолго, о собственной злой судьбине, попробовал выступить в роли утешителя и успокоить юношу указаниями на самомалейшие благоприятные стороны их положения, оставляющие какие-то надежды; об очевидных отрицательных сторонах их заточения Пауло постарался упомянуть только вскользь. Вивальди, однако, не воспринимал из его речей ни единого слова, пока тот не упомянул церковь дель Пьянто: все связанное с монахом, намекнувшим на участь Эллены, страстно интересовало несчастного влюбленного; он отвлекся от собственных мыслей, желая выслушать рассказ, могущий прояснить его предположения.
Пауло не слишком охотно уступил настоятельному требованию Винченцио. Он оглядел пустынный склеп, словно опасался тайного присутствия постороннего, который может не только подслушать его слова, но и вмешаться в разговор.
– Мы здесь тоже, можно сказать, удалились от мира, синьор, – заметил Пауло, собираясь с духом. – Пожалуй, риск того, что наши секреты выйдут наружу, не слишком велик. И все же, maestro, береженого Бог бережет; верней будет поостеречься; поэтому вам лучше сесть на пол, а я стану рядом и поведаю вполголоса все, что знаю о монастыре Скорбящей Пресвятой Девы, а знаю я, впрочем, не так-то много.
Вивальди сел на пол; по его знаку Пауло устроился рядом и начал тихо рассказывать:
– Это произошло в канун праздника Святого Марка, едва только отзвонил последний удар вечернего колокола… Вам не приходилось бывать в церкви Санта-Мария дель Пьянто, синьор, иначе бы вы знали, какой мрак царит в этом старинном храме. Не успел стихнуть колокол, как у исповедальни в одном из боковых приделов появился человек, так плотно закутанный, что нельзя было различить ни его лица, ни фигуры; он поместился на ступеньках одного из отделений, примыкавших к креслу исповедника; но даже если бы он оделся так же легко, как и вы, синьор, он ничуть не хуже был бы скрыт от стороннего взора: придел освещается только одной лампой – а она очень далеко, у самого витража; иногда, правда, зажигают свечи у гробницы святого Антония – это в противоположном конце, и все равно в храме тогда немногим светлее, чем в этом склепе. Это, несомненно, устроено для того, чтобы кающиеся не слишком краснели, сознаваясь в грехах; да и в самом деле, при таком полумраке больше наберется денег для бедняков: монахи в этом смысле очень приметливы…
– Ты потерял нить повествования! – нетерпеливо перебил слугу Вивальди.
– Да-да, синьор, на чем бишь я остановился? А, на ступенях исповедальни… Так вот, незнакомец опустился на колени и поначалу ничего не мог произнести на ухо исповеднику: только тяжкие стоны его были слышны по всему проходу. Вы должны помнить, синьор, что монахи в церкви Санта дель Пьянто принадлежат к ордену кающихся, облаченных в черное; и особо закоренелые грешники иногда приходят именно сюда за советом, как им поступить. Случилось так, что в кресле сидел тогда сам главный исповедник – отец Ансальдо (по обычаю, соблюдаемому в канун Святого Марка); мягко укорив грешника за чересчур громкий возглас, он увещевал его умерить скорбь, но кающийся отозвался еще более горестным, хотя и приглушенным стоном и приступил к исповеди. В каких грехах он изобличал себя – мне, синьор, неведомо: ведь священник, как вы знаете, ни под каким видом не должен открывать тайну исповеди, кроме самых что ни на есть исключительных случаев. Услышанное, однако, было столь поразительным и чудовищным, что главный исповедник сорвался вдруг с кресла, бросился к галерее, но по дороге рухнул как подкошенный и забился в страшных судорогах. Понемногу придя в себя, исповедник спросил у окружающих, покинул ли церковь тот грешник, которого он только что выслушивал; он прибавил также, что в случае, если тот еще находится здесь, необходимо его задержать. Отец Ансальдо попытался описать по мере сил фигуру, которую смутно видел, когда она приближалась к исповедальне, но при одном воспоминании об исповеди у него опять едва не начались судороги. Один из духовников, устремившихся по приделу на помощь упавшему отцу Ансальдо, вспомнил, что человек, отвечавший описанию, торопливо прошел мимо него. Высокого роста, плотно закутанный в белое монашеское облачение, он быстро двигался по приделу к двери, выходившей во внутренний двор монастыря; духовник, однако, обеспокоенный нездоровьем главного исповедника, не обратил на него особого внимания. Отец Ансальдо решил, что это тот самый кающийся; призвали сторожа и спросили, не проходил ли мимо него такой человек; тот ответил, что за последние полчаса никто из ворот не вышел (возможно, так оно и было, синьор, если мошенник отлучился со своего поста). Далее, сторож упорно настаивал на том, что за весь вечер никто в белых одеждах близ церкви не появлялся, чем и доказал свою бдительность: ведь если он бодрствовал, то как мог не заметить неведомого посетителя? Как тот мог проникнуть в монастырь и невозбранно покинуть его?
– Так ты говоришь, он был одет в белое? – спросил Вивальди. – Если бы облачение было черным, я решил бы, что это тот самый монах, мой мучитель.
– Верно, синьор! Мне это и самому приходило в голову, – согласился Пауло. – Переменить одежду нетрудно, но если бы дело сводилось только к этому…
– Продолжай, – поторопил слугу Вивальди.
– Заверения сторожа убедили святых отцов в том, что незнакомец укрылся в стенах обители; обыскали весь монастырь, до последнего закоулка, но никого из посторонних не нашли.
– Это, конечно, тот самый монах, – проговорил Вивальди, – хотя и в другом облачении; на свете нет второго существа, способного держаться столь таинственным образом!


