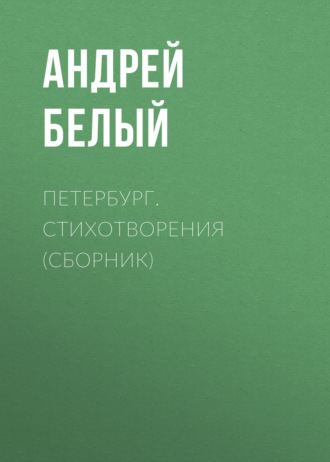
Андрей Белый
Петербург. Стихотворения (сборник)
Мания
Из царских дверей выхожу.
Молитва в лазурных очах.
По красным ступеням схожу
со светочем в голых руках.
Я знаю безумий напор.
Больной, истеричный мой вид,
тоскующий взор,
смертельная бледность ланит.
Безумные грезы свои
лелеете с дикой любовью,
взглянув на одежды мои,
залитые кровью.
Поете: «Гряди же, гряди».
Я грустно вздыхаю,
бескровные руки мои
на всех возлагаю.
Ну, мальчики, с Богом,
несите зажженные свечи!..
Пусть рогом
народ созывают для встречи.
Ну что ж – на закате холодного дня
целуйте мои онемевшие руки.
Ведите меня
на крестные муки.
Август 1903Серебряный Колодезь
Забота
1
Весь день не стихала работа.
Свозили пшеницу и рожь.
Безумная в сердце забота
бросала то в холод, то в дрожь.
Опять с несказанным волненьем
я ждал появленья Христа.
Всю жизнь меня жгла нетерпеньем
старинная эта мечта.
Недавно мне тайно сказали,
что скоро вернется Христос…
Телеги, скрипя, подъезжали…
Поспешно свозили овес.
С гумна возвращался я к дому,
смотря равнодушно на них,
грызя золотую солому,
духовный цитируя стих.
2
Сегодня раздался вдруг зов,
когда я молился, тоскуя,
средь влажных, вечерних лугов:
«Холодною ночью приду я…»
Всё было в дому зажжено…
Мы в польтах осенних сидели.
Друзья отворили окно…
Поспешно калоши надели.
Смарагдовым светом луна
вдали озаряла избушки.
Призывно раздался с гумна
настойчивый стук колотушки.
«Какие-то люди прошли», —
сказал нам пришедший рабочий.
И вот с фонарями пошли,
воздевши таинственно очи.
Мы вышли на холод ночной.
Луна покраснела над степью.
К нам пес обозленный, цепной
кидался, звеня своей цепью.
Бледнели в руках фонари…
Никто нам в ночи не ответил…
Кровавую ленту зари
встречал пробудившийся петел.
1903Серебряный Колодезь
Блоку
1
Один, один средь гор. Ищу Тебя
В холодных облаках бреду бесцельно.
Душа моя
скорбит смертельно.
Вонзивши жезл, стою на высоте.
Хоть и смеюсь, а на душе так больно.
Смеюсь мечте
своей невольно.
О, как тяжел венец мой золотой!
Как я устал!.. Но даль пылает.
Во тьме ночной
мой рог взывает.
Я был меж вас. Луч солнца золотил
причудливые тучи в яркой дали.
Я вас будил,
но вы дремали.
Я был меж вас печально-неземной.
Мои слова повсюду раздавались
И надо мной
вы все смеялись.
И я ушел. И я среди вершин.
Один, один. Жду знамений нежданных.
Один, один
средь бурь туманных.
Всё как в огне. И жду, и жду Тебя.
И руку простираю вновь бесцельно
Душа моя
скорбит смертельно.
Сентябрь 1901Москва
2
Из-за дальних вершин
показался жених озаренный.
И стоял он один,
высоко над землей вознесенный.
Извещалось не раз
о приходе владыки земного.
И в предутренний час
запылали пророчества снова.
И лишь света поток
над горами вознесся сквозь тучи,
он стоял, как пророк,
в багрянице, свободный, могучий.
Вот идет. И венец
отражает зари свет пунцовый.
Се – венчанный телец,
основатель и Бог жизни новой.
Май 1901Москва
3
Суждено мне молчать.
Для чего говорить?
Не забуду страдать.
Не устану любить.
Нас зовут
без конца…
Нам пора…
Багряницу несут
и четыре колючих венца.
Весь в огне
и любви
мой предсмертный, блуждающий взор…
О, приблизься ко мне —
распростертый, в крови,
я лежу у подножия гор.
Зашатался над пропастью я
и в долину упал, где поет ручеек.
Тяжкий камень, свистя,
неожиданно сбил меня с ног —
тяжкий камень, свистя,
размозжил мне висок.
Среди ландышей я —
зазиявший, кровавый цветок.
Не колышется больше от мук
вдруг застывшая грудь.
Не оставь меня, друг,
не забудь!..
1903Москва
Одиночество
Посвящается В.С. Соловьеву
Я вновь один. Тоскую безнадежно.
Виденья прежних дней,
нас звавшие восторженно и нежно,
рассеялись, лишь стало холодней.
Стою один. Отчетливей, ясней
ловлю полет таинственных годин.
Грядущее мятежно.
Стою один.
Тоскую безнадежно.
Не возродить… Что было, то прошло —
все время унесло.
Тому, кто пил из кубка огневого,
не избежать безмолвия ночного.
Недолго. Близится. С питьем идет
ко мне. Стучит костями.
Уста мои кровавый огнь сожжет.
Боюсь огня… вдали, над тополями
двурогий серп вон там горит огнями
средь онемело-мертвенных вершин.
Туман спустился низко.
Один, один,
а смерть так близко.
Сентябрь 1901Москва
Осень
1
Огромное стекло
в оправе изумрудной
разбито вдребезги под силой ветра чудной —
огромное стекло
в оправе изумрудной.
Печальный друг, довольно слез – молчи!
Как в ужасе застывшая зарница,
луны осенней багряница.
Фатою траурной грачи
несутся – затенили наши лица.
Протяжно дальний визг
окрестность опояшет.
Полынь метлой испуганно нам машет.
И красный лунный диск
в разбитом зеркале, чертя рубины, пляшет.
2
В небесное стекло
с размаху свой пустил железный молот…
И молот грянул тяжело.
Казалось мне – небесный свод расколот.
И я стоял,
как вольный сокол.
Беспечно хохотал
среди осыпавшихся стекол.
И что-то страшное мне вдруг
открылось.
И понял я – замкнулся круг,
и сердце билось, билось, билось.
Раздался вздох ветров среди могил: —
«Ведь ты, убийца,
себя убил, —
убийца!»
Себя убил.
За мной пришли. И я стоял,
побитый бурей сокол —
молчал
среди осыпавшихся стекол.
Август 1903Серебряный Колодезь
Священные дни
Посвящается П.А. Флоренскому
Ибо в те дни будет такая скорбь,
какой не было от начала творения.
Марк XIII, 19
Бескровные губы лепечут заклятья.
В рыданье поднять не могу головы я.
Тоска. О, внимайте тоске, мои братья.
Священна она в эти дни роковые.
В окне дерева то грустят о разлуке
на фоне небес неизменно свинцовом,
то ревмя ревут о Пришествии Новом,
простерши свои суховатые руки.
Порывы метели суровы и резки.
Ужасная тайна в душе шевелится.
Задерни, мой брат, у окна занавески:
а то будто Вечность в окошко глядится.
О, спой мне, товарищ! Гитара рыдает.
Прекрасны напевы мелодии страстной.
Я песне внимаю в надежде напрасной…
А там… за стеной… тот же голос взывает.
Не раз занавеска в ночи колыхалась
Я снова охвачен напевом суровым,
Напевом веков о Пришествии Новом…
И Вечность в окошко грозой застучалась
Куда нам девать свою немощь, о братья?
Куда нас порывы влекут буревые?
Бескровные губы лепечут заклятья.
Священна тоска в эти дни роковые.
1901
На закате
Бледно-красный, весенний закат догорел.
Искрометной росою блистала трава
На тебя я так грустно смотрел.
Говорил неземные слова.
Замерла ты, уйдя в бесконечный простор.
Я все понял. Я знал, что расстанемся мы.
Мне казалось – твой тающий взор
видел призрак далекой зимы.
Замолчала… А там степь цвела красотой.
Все, синея, сливалось с лазурью вдали.
Вдоль заката тоскливой мечтой
догоревшие тучки легли.
Ты, вставая, сказала мне: «Призрак… обман…»
Я поник головой. Навсегда замолчал.
И холодный, вечерний туман
над сырыми лугами вставал.
Ты ушла от меня. Между нами года.
Нас с тобой навсегда разлучили они.
Почему же тебя, как тогда,
я люблю в эти серые дни?
Апрель 1901Москва
Подражание Вл. Соловьеву
Тучек янтарных гряда золотая
в небе застыла, и дня не вернуть.
Ты настрадалась: усни, дорогая…
Вечер спустился. В тумане наш путь.
Пламенем желтым сквозь ветви магнолий
ярко пылает священный обет.
Тают в душе многолетние боли,
точно звезды пролетающий след.
Горе далекою тучею бурной
к утру надвинется. Ветром пахнет.
Отблеск зарницы лилово-пурпурной
вспыхнет на небе и грустно заснет.
Здесь отдохнем мы. Луна огневая
не озарит наш затерянный путь.
Ты настрадалась, моя дорогая,
Вечер спускается. Время уснуть.
1902Москва
Любовь
Был тихий час. У ног шумел прибой.
Ты улыбнулась, молвив на прощанье:
«Мы встретимся… До нового свиданья…»
То был обман. И знали мы с тобой,
что навсегда в тот вечер мы прощались.
Пунцовым пламенем зарделись небеса.
На корабле надулись паруса.
Над морем крики чаек раздавались.
Я вдаль смотрел, щемящей грусти полн.
Мелькал корабль, с зарею уплывавший
средь нежных, изумрудно-пенных волн,
как лебедь белый, крылья распластавший.
И вот его в безбрежность унесло.
На фоне неба бледно-золотистом
вдруг облако туманное взошло
и запылало ярким аметистом.
1901 или 1902Москва
Ясновидение
Милая, – знаешь ли – вновь
видел тебя я во сне?..
В сердце проснулась любовь.
Ты улыбалася мне.
Где-то в далеких лугах
ветер вздохнул обо мне.
Степь почивала в слезах
Ты замечталась во сне.
Ты улыбалась, любя,
помня о нашей весне
Благословляя тебя,
был я весь день как во сне.
Май 1902Москва
Мои слова
Мои слова – жемчужный водомет,
средь лунных снов, бесцельный,
но вспененный,
капризной птицы лёт,
туманом занесенный.
Мои мечты – вздыхающий обман,
ледник застывших слез, зарей горящий, —
безумный великан,
на карликов свистящий.
Моя любовь – призывно-грустный звон,
что зазвучит и улетит куда-то, —
неясно-милый сон,
уж виданный когда-то.
Май 1901Серебряный Колодезь
С.М. Соловьеву
Сердце вещее радостно чует
призрак близкой, священной войны.
Пусть холодная вьюга бунтует —
Мы храним наши белые сны.
Нам не страшно зловещее око
великана из туч буревых.
Ах, восстанут из тьмы два пророка.
Дрогнет мир от речей огневых.
И на северных бедных равнинах
разлетится их клич боевой
о грядущих, священных годинах,
о последней борьбе мировой.
Сердце вещее радостно чует
призрак близкой, священной войны.
Пусть февральская вьюга бунтует —
мы храним наши белые сны.
Февраль 1901Москва
Раздумье
Посвящается памяти Вл. С. Соловьева
Ночь темна. Мы одни.
Холод. Ветер ночной
деревами шумит. Гасит в поле огни.
Слышен зов: «Не смущайтесь… я с вами…
за мной!..»
И не знаешь, кто там.
И стоишь, одинок.
И боишься довериться радостным снам.
И с надеждой следишь, как алеет восток.
В поле зов: «Близок день.
В смелых грезах сгори!»
Убегает на запад неверная тень.
И все ближе, все ярче сиянье зари.
Дерева шелестят:
«То не сон, не обман…»
Потухая, вверху робко звезды блестят…
И взывает пророк, проходя сквозь туман.
Февраль 1901
Пепел
Посвящаю эту книгу памяти Некрасова
Что ни год – уменьшаются силы,
Ум ленивее, кровь холодней…
Мать-отчизна! Дойду до могилы,
Не дождавшись свободы твоей!
Но желал бы я знать, умирая,
Что стоишь ты на верном пути,
Что твой пахарь, поля засевая,
Видит ведренный день впереди,
Чтобы ветер родного селенья
Звук единый до слуха донес,
Под которым неслышно кипенья
Человеческой крови и слез.
Н.А. Некрасов
Вместо предисловия
Да, и жемчужные зори, и кабаки, и буржуазная келья, и надзвездная высота, и страдания пролетария – все это объекты художественного творчества. Жемчужная заря не выше кабака, потому что и то и другое в художественном изображении – символы некоей реальности: фантастика, быт, тенденция, философическое размышление предопределены в искусстве живым отношением художника. И потому-то действительность всегда выше искусства; и потому-то художник – прежде всего человек. Но чтобы жизнь была действительностью, а не хаосом синематографических ассоциаций, чтобы жизнь была жизнью, а не прозябанием, необходимо служение вечным ценностям, такими ценностями могут быть и идеальные стремления нашего духа, и неизменность в переживании факторов реального бытия – и заря, и келья – символы ценностей, если художник вкладывает в них свою душу; то, что создает из случайного переживания, мысли или конкретного факта ценность, есть долг. Основные ценности не могут меняться, меняется форма их: идти к этим ценностям – долг человека, а потому и художника. Долг пуст и формален, взятый безотносительно к жизни; жизнь хаотична и бессмысленна, не оформленная определенным волевым устремлением, соединение долга с жизнью – вот ценность. Своеобразное соединение художественного переживания (объект этого переживания безразличен) с внутренним велением долга определяет путь художника, создает из него символиста: художник всегда символист; символ всегда реален (в каких бы образах ни выражался он); символизм – всегда есть показатель того, что формой образа художник указывает нам на свой сокровенный, незыблемый путь; эзотеризм присущ искусству: под маской (эстетической формой) таится указание на то, что самое искусство есть один из путей достижения высших целей. В высочайшей тайне своей, укрытой под эстетикой, художник опять, вторично возвращается к людям; и потому-то в заявлении художника о своем праве быть свободным кроется огромная тяжесть ответственности; и если он восстает против той или иной формы символизации ценностей, то вовсе не потому, что не верит в ценности, художник может нам казаться кощунственным, когда он называет идолами наших богов; но если он назовет идолом и свое божество, то «последнее кощунство» ему не простится; тут он перестает быть человеком, тут он не символист, не реален он. Тут мы ему не прощаем, потому что «не во имя свое» мы приближаемся к нему, «не во имя свое» он зовет нас: нас соединяет с ним общий путь, общий долг, как людей.
Теперь, когда понятие о свободе и долге, искусстве и жизни, молитве и кощунстве, символизме и реализме, заре и кабаке перепутались, я считаю нужным сказать эти простые слова о том, что я требую от искусства, чего жду от художника и как понимаю символизм.
В предлагаемом сборнике собраны скромные, незатейливые стихи, объединенные в циклы; циклы, в свою очередь, связаны в одно целое: целое – беспредметное пространство, и в нем оскудевающий центр России. Капитализм еще не создал у нас таких центров в городах, как на Западе, но уже разлагает сельскую общину; и потому-то картина растущих оврагов с бурьянами, деревеньками – живой символ разрушения и смерти патриархального быта. Эта смерть и это разрушение широкой волной подмывают села, усадьбы; а в городах вырастает бред капиталистической культуры. Лейтмотив сборника определяет невольный пессимизм, рождающийся из взгляда на современную Россию (пространство давит, беспредметность страшит – вырастают марева: горе-гореваньице, осинка, бурьян и т. д.). Спешу оговориться: преобладание мрачных тонов в предлагаемой книге над светлыми вовсе не свидетельствует о том, что автор – пессимист.
В свой сборник я поместил до 40 еще не напечатанных стихотворений, а также до 20 стихотворений, значительно переработанных с точки зрения основного лейтмотива, как то: «Поповна», «Телеграфист», «Бурьян», «Каторжник», «Осинка» и многие другие.
Сюда не вошли почти все стихотворения 1907 года, а также ряд стихотворений 1908 года, как не согласные с идеей сборника.
Считаю нужным заметить, что в «Пепле» собраны наиболее доступные по простоте произведения мои, долженствующие составить подготовительную ступень к «Симфониям», и что смысл моих переживаний в данной книге периферичен по отношению к «Симфониям», особенно к «Кубку Метелей», единственной книге, которой я более или менее доволен и для которой надо быть немного «эзотериком». Брань, которой встретила критика мою книгу, и непонимание ее со стороны лиц, сочувствовавших доселе моей литературной деятельности, – все это укрепляет меня в мысли, что оценка этого произведения (окончательное осуждение или признание) в будущем, судить можно то, что понимаешь, а наиболее сокровенные символы души требуют вдумчивого отношения со стороны критиков; неудивительно, что произведение, выношенное годами, они встретили только как забавный парадокс.
Автор
Россия
Отчаянье
З.Н. Гиппиус
Довольно: не жди, не надейся —
Рассейся, мой бедный народ!
В пространство пади и разбейся
За годом мучительный год!
Века нищеты и безволья.
Позволь же, о родина мать,
В сырое, в пустое раздолье,
В раздолье твое прорыдать: —
Туда, на равнине горбатой, —
Где стая зеленых дубов
Волнуется купой подъятой,
В косматый свинец облаков,
Где по полю Оторопь рыщет,
Восстав сухоруким кустом,
И ветер пронзительно свищет
Ветвистым своим лоскутом,
Где в душу мне смотрят из ночи,
Поднявшись над сетью бугров,
Жестокие, желтые очи
Безумных твоих кабаков, —
Туда, – где смертей и болезней
Лихая прошла колея, —
Исчезни в пространство, исчезни,
Россия, Россия моя!
Июль 1908Серебряный Колодезь
Деревня
Г.А. Рачинскому
Снова в поле, обвеваем
Легким ветерком.
Злое поле жутким лаем
Всхлипнет за селом.
Плещут облаком косматым
По полям седым
Избы, роем суковатым
Изрыгая дым.
Ощетинились их спины,
Как сухая шерсть.
День и ночь струят равнины
В них седую персть.
Огоньками злых поверий
Там глядят в простор,
Как растрепанные звери
Пав на лыс-бугор.
Придавила их неволя,
Вы – глухие дни.
За бугром с пустого поля
Мечут головни,
И над дальним перелеском
Просверкает пыл:
Будто змей взлетает блеском
Искрометных крыл.
Журавель кривой подъемлет,
Словно палец, шест.
Сердце Оторопь объемлет,
Очи темень ест.
При дороге в темень сухо
Чиркает сверчок.
За деревней тукнет глухо
Дальний колоток.
С огородов над полями
Взмоется лоскут.
Здесь встречают дни за днями:
Ничего не ждут.
Дни за днями, год за годом:
Вновь за годом год.
Недород за недородом.
Здесь – немой народ.
Пожирают их болезни,
Иссушает глаз…
Промерцают в синей бездне —
Продрожит – алмаз,
Да заря багровым краем
Над бугром стоит.
Злое поле жутким лаем
Всхлипнет; и молчит.
1908Серебряный Колодезь
Шоссе
Д.В. Философову
За мною грохочущий город
На склоне палящего дня.
Уж ветер в расстегнутый ворот
Прохладой целует меня.
В пространство бежит – убегает
Далекая лента шоссе.
Лишь перепел серый мелькает,
Взлетая, ныряя в овсе.
Рассыпались по полю галки.
В деревне блеснул огонек.
Иду. За плечами на палке
Дорожный висит узелок.
Слагаются темные тени
В узоры промчавшихся дней.
Сижу. Обнимаю колени
На груде дорожных камней.
Сплетается сумрак крылатый
В одно роковое кольцо.
Уставился столб полосатый
Мне цифрой упорной в лицо.
Август 1904Ефремов
На вольном просторе
Муни
Здравствуй, —
Желанная
Воля —
Свободная,
Воля
Победная,
Даль осиянная, —
Холодная,
Бледная.
Ветер проносится, желтые травы колебля, —
Цветики поздние, белые.
Пал на холодную землю.
Странны размахи упругого стебля,
Вольные, смелые.
Шелесту внемлю.
Тише…
Довольно:
Цветики
Поздние, бледные, белые,
Цветики,
Тише…
Я плачу: мне больно.
Август 1904Серебряный Колодезь
На рельсах
Кублицкой-Пиоттух
Вот ночь своей грудью прильнула
К семье облетевших кустов.
Во мраке ночном утонула
Там сеть телеграфных столбов.
Застыла холодная лужа
В размытых краях колеи.
Целует октябрьская стужа
Обмерзшие пальцы мои.
Привязанность, молодость, дружба
Промчались: развеялись сном.
Один. Многолетняя служба
Мне душу сдавила ярмом.
Ужели я в жалобах слезных
Ненужный свой век провлачу?
Улегся на рельсах железных,
Затих: притаился – молчу.
Зажмурил глаза, но слезою —
Слезой овлажнился мой взор.
И вижу: зеленой иглою
Пространство сечет семафор.
Блеснул огонек, еле зримый,
Протяжно гудит паровоз.
Взлетают косматые дымы
Над купами чахлых берез.
1908Москва
Из окна вагона
Эллису
Поезд плачется. В дали родные
Телеграфная тянется сеть.
Пролетают поля росяные.
Пролетаю в поля: умереть.
Пролетаю: так пусто, так голо…
Пролетают – вон там и вон здесь —
Пролетают – за селами села,
Пролетает – за весями весь; —
И кабак, и погост, и ребенок,
Засыпающий там у грудей: —
Там – убогие стаи избенок,
Там – убогие стаи людей.
Мать Россия! Тебе мои песни, —
О немая, суровая мать! —
Здесь и глуше мне дай, и безвестней
Непутевую жизнь отрыдать.
Поезд плачется. Дали родные
Телеграфная тянется сеть —
Там – в пространства твои ледяные
С буреломом осенним гудеть.
Август 1908Суйда
Телеграфист
С.Н. Величкину
Окрестность леденеет
Туманным октябрем.
Прокружится, провеет
И ляжет под окном, —
И вновь взметнуться хочет
Большой кленовый лист.
Депешами стрекочет
В окне телеграфист.
Служебный лист исчертит.
Руками колесо
Докучливое вертит,
А в мыслях – то и се.
Жена болеет боком,
А тут – не спишь, не ешь,
Прикованный потоком
Летающих депеш.
В окне кустарник малый,
Окинет беглый взгляд —
Протянутые шпалы
В один тоскливый ряд,
Вагон, тюки, брезенты
Да гаснущий закат…
Выкидывает ленты,
Стрекочет аппарат.
В лесу сыром, далеком
Теряются пески,
И еле видным оком
Мерцают огоньки.
Там путь пространства чертит…
Руками колесо
Докучливое вертит;
А в мыслях – то и се.
Детишки бьются в школе
Без книжек (где их взять!):
С семьей прожить легко ли
Рублей на двадцать пять: —
На двадцать пять целковых —
Одежа, стол, жилье.
В краях сырых, суровых
Тянись, житье мое! —
Вновь дали мерит взором: —
Сырой, осенний дым
Над гаснущим простором
Пылит дождем седым.
У рельс лениво всхлипнул
Дугою коренник,
И что-то в ветер крикнул
Испуганный ямщик.
Поставил в ночь над склоном
Шлагбаум пестрый шест:
Ямщик ударил звоном
В простор окрестных мест.
Багрянцем клен промоет —
Промоет у окна.
Домой бы! Дома ноет,
Без дел сидит жена, —
В который раз, в который,
С надутым животом!..
Домой бы! Поезд скорый
В полях вопит свистком;
Клокочут светом окна —
И искр мгновенный сноп
Сквозь дымные волокна
Ударил блеском в лоб.
Гремя, прошли вагоны.
И им пропел рожок.
Зеленый там, зеленый,
На рельсах огонек… —
Стоит он на платформе,
Склонясь во мрак ночной, —
Один, в потертой форме,
Под стужей ледяной.
Слезою взор туманит.
В костях озябших – лом.
А дождик барабанит
Над мокрым козырьком.
Идет (приподнял ворот)
К дежурству – изнемочь.
Вдали уездный город
Кидает светом в ночь.
Всю ночь над аппаратом
Он пальцем в клавиш бьет.
Картонным циферблатом
Стенник ему кивнет.
С речного косогора
В густой, в холодный мрак —
Он видит – семафора
Взлетает красный знак.
Вздыхая, спину клонит,
Зевая над листом,
В небытие утонет,
Затянет вечным сном
Пространство, время, Бога
И жизнь, и жизни цель —
Железная дорога,
Холодная постель.
Бессмыслица дневная
Сменяется иной —
Бессмыслица дневная
Бессмыслицей ночной.
Листвою желтой, блеклой,
Слезливой, мертвой мглой
Постукивает в стекла
Октябрьский дождик злой.
Лишь там на водокачке
Моргает фонарек.
Лишь там в сосновой дачке
Рыдает голосок.
В кисейно-нежной шали
Девица средних лет
Выводит на рояли
Чувствительный куплет.
1906–1908Серебряный Колодезь






